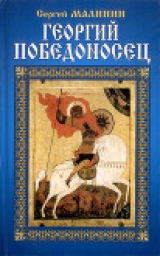
Текст книги "Георгий Победоносец"
Автор книги: Виктория Василишина
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Помимо Джанибека, Селима с его ремнём и жёсткой конины, что была уже почти непосильна для его дурных зубов, имелась у Безносого ещё одна докука – Леший, что уж который год занозой торчал где-то в здешних местах, не давая покоя ни боярину, ни шуту. Вот ведь каким боком боярская забава вылезла! Жил себе мужик, никого не трогал, а ныне у всей боярской стражи только и заботы, что ирода этого по лесу ловить. А он то стрелу из кустов пустит, то яму на дороге выкопает, да такую здоровенную, что целый возок туда ухнет и ещё место останется. И когда успевает, и откуда только силы берутся?
Ведя крымчаков потайными, памятными с молодых лет лесными тропами в обход войска князя Воротынского, Аким втайне побаивался невзначай набрести на Лешего. Побаивался, но и хотел: поди, крымчаки – не сытая боярская стража, от них не больно-то уйдёшь. Пустят вдогон тучу стрел, и поминай раба Божьего как звали. Это бы хорошо, да вот закавыка: Леший-то, чай, не дурак на глаза им показываться. И стрелу, ежели что, он первым выпустит, как уже не раз бывало.
Чтоб та стрела не выпала на его долю, Аким, как умел, постарался смешаться с пёстрой толпой крымчаков: обрядился, как они, в полосатый халат, подпоясался кушаком, намотал на бритую голову чалму, а вместо привычной золочёной личины прикрыл вырванные ноздри старой, засаленной кожаной нашлёпкой. Даже не будь Лешего, пришлось бы поступить именно так: не ровён час, заметит кто в голове татарского войска знакомую всей округе золотую птичью личину, после беды не оберёшься. У боярина первым делом спросят: а что это твой шут с татарами якшается? Ты не измену ль замыслил, боярин? И – на кол. А ежели поймают, так и обоих.
До места добрались не так чтоб очень скоро, но и без промедления – словом, в самый раз. Аким загодя решил, что отведёт крымчаков в Марьин овраг, который в лесу, верстах в пяти от монастыря. Сказывали про тот овраг, что в незапамятные времена какая-то деревенская дура по имени Марья забрела туда в поисках пропавшей коровы да сама в том овраге и сгинула – может, в болоте утонула, куда ручеёк впадает, а может, леший её забрал. Понятно, не тот ирод, коего ныне Лешим кличут, а настоящий. И будто бы теперь ещё можно иногда по ночам услышать, как та Марья в овраге свою корову кличет: «Лыска, Лыска!» И чего только смерды от безделья не наплетут!
Когда в здешних краях на большой дороге промышлял, Аким в том овраге сто раз ночевал и никаких потусторонних криков не слышал. Выпи болотные кричали, совы да козодои, а чтоб мёртвые бабы – нет, не приводилось такое услышать. Да и что крымчакам какая-то утопленница? От них, супостатов, и чёрт с рогами без памяти ускачет, а не то что Марья с её коровой. Зато место тихое, потаённое; овраг здоровущий, впору хоть всё Девлетово войско туда впихнуть. И пока вплотную не подойдёшь, войска того не углядишь, имей ты хоть орлиные глаза.
Добрались, стало быть, до оврага, стали табором. Мурза немедля отправил к хану джуру с донесением, как у них то было загодя оговорено: мы-де на месте, готовы дело делать, сигнала твоего ждём.
Селим, едва успев спешиться, немедля ремень свой размотал и Акима к себе привязал – раньше даже, чем коня стреножил. И пошла тут у них обычная морока: Селим коня поить – и Аким коня поить, Селим в кустики по нужде – и Безносый за ним следом… Сказал бы: «как привязанный», так ведь привязанный и есть!
Трапезничать сели. В походе, почитай, двое суток провели, а перед тем, как из лагеря Девлет-Гирея выступить, чуть ли не каждый верховой положил себе под седло по куску сырого лошадиного мяса. Покуда ехали, мясо то задами своими плоскими отбили, конским потом оно насквозь пропиталось, и вышло самое разлюбезное для них, нехристей, лакомство. И чего только люди не едят! Впрочем, когда Селим от своего куска долю отрезал и Акиму предложил, тот отказываться не стал – на каторге, в лесу, в неволе да на галерах и не такое едал. Селим показал, как то лакомство есть надобно, и даже ножик дал попользоваться, потому как без ножа сие кушанье не больно-то и укусишь. А есть его надобно так: зубами ухвати, сколь проглотить чаешь, остальное оттяни и ножиком вострым у самых губ отрежь. Только, ежели у кого нос имеется, за ним следить надо, чтоб ненароком и его не отхватить. Ну, Акиму-то сие не грозило, и мяса того вонючего он наелся до отвала – давился, но глотал, чтоб сил перед завтрашним днём набраться.
Место было и впрямь знатное – тихое, укромное, при воде да при зелёной травке для усталых коней. Даже Джанибеку вроде глянулось. Конечно, воевать тут никакой возможности не было – ежели сверху навалятся, всем карачун придёт, – но воевать в овраге никто и не собирался. А прятаться – в самый раз. Век бы тут просидеть, кабы не кровососы эти проклятущие, комары. Их подле воды всегда тьма-тьмущая, а тут ручей. И ручей бы ещё полбеды, да ниже по течению впадал он в болото, где, по преданию, деревенская дура Марья с коровой своей утопла. Болото было и впрямь топкое и глубоко вдавалось в овраг длинным, ярко-зелёным с редкими просветами чёрной воды языком. От места, где они разбили лагерь, до болота было с полверсты, но комарам это нисколько не мешало: отыскали живое, тёплое и ну жалить! Даже Акиму с его дублёной шкурой несладко пришлось, чего уж про степных жителей говорить! Всю ночь чесались, как псы блохастые, по мордасам себя лупили да ругались чёрными словами.
Но допрежь того, перед сном, Селима вдруг повело байки баять. Мужик он был ничего себе, хоть и татарин, держался почти как товарищ, носа не драл и сверх необходимости Акимом не помыкал. Видать, и у него жизнь нелегко сложилась, раз поговорить, опричь безносого перебежчика, оказалось не с кем. Вот он и говорил. Аким в плену по-татарски болтать навострился, только слушать в тех байках, почитай, и нечего было. Пошли-де туда-то, столько-то деревень сожгли, столько-то в полон увели, столько-то убили да ещё полстолька замучили… После в иную сторону поворотили, и там всё сызнова: налетели, похватали, до чего руками да арканами дотянуться смогли, остальное пожгли и восвояси ускакали. И всё мурзу своего хвалит, какой он из себя бесстрашный воин да мудрый воевода… Скучно! Аким бы ему не то про свою жизнь порассказал, да помалкивал: ни к чему крымчакам знать, что в ратном деле и ином смертоубийстве безносый проводник любого из них, хоть бы и самого мурзу Джанибека, играючи за пояс заткнёт.
И вот на самой середине бесконечного Селимова рассказа Безносый ни с того ни с сего насторожился, уши навострил. Почудилось вдруг, что в кустах над оврагом есть кто-то, кому тут быть не полагается, – посторонний, одним словом. Огляделся незаметно, не без труда отыскал в зарослях одного караульного, после другого, третьего… Не спят караульные, сторожат, а стало быть, чужой ему просто померещился. Неспокойно на сердце, вот и чудится невесть что.
Потом неприятное чувство ушло. Безносый вытянулся на крепко пахнущей конским потом и степными травами кошме, закрыл глаза и под монотонное бормотание пожилого джуры незаметно для себя провалился в крепкий сон. Ночью пару раз просыпался, чесал комариные укусы, с кривой усмешкой слушал, как мается в темноте терзаемое кровососами некрещёное войско. Кругом было тихо, и никто, опричь комаров, их не беспокоил.
Проснулся, как всегда, на рассвете и, не открывая глаз, первым делом прислушался: всё ли ладно? Поодаль кто-то копошился, длинно зевая и поминая хромого шайтана, переступали ногами и хлестали по бокам хвостами, отгоняя насытившихся за ночь комаров, татарские кони, тихо журчал в зарослях лопухов ручей, да где-то в кронах деревьев пробовали голоса мелкие лесные пичуги. Сквозь утреннюю ленивую полудрёму подумалось: сегодня. Сегодня всё решится, и припрятанным в рукаве халата ножиком доведётся воспользоваться, по всему видать, именно сегодня.
И ещё подумалось: а может, ну его к бесу, того боярина? В лесу-то вон как любо. Воля вольная, никто тебе не указ! Ну и что, что комары? Всего-то, поди, досуха не выпьют, а ежели костерок развесть да дыму напустить поболе, так и вовсе хорошо…
Правда, в лесу бывали и другие ночи, и Аким помнил их очень хорошо. А если бы и забыл, то ломота во всём теле, проснувшаяся, едва он затеял повернуться со спины на бок, мигом напомнила бы обо всём: и о возрасте, и о старых ранах, и о лютой зимней стуже, и об остром стрелецком железе, и о лесном зверье, которое, когда настанет час, разнесет его кости по всей округе.
Окончательно проснувшись, Безносый сел, зевнул и повёл плечами, разминая затёкшее от долгого лежания на земле тело. Селим тоже уже не спал – сидел, скрестив под собой ноги, голый до пояса и разглядывал на свет прохудившийся на спине халат. Вспомнив вчерашнюю похвальбу джуры, Аким чуть было не спросил, как это столь доблестный воин не сумел добыть себе нового халата. Аким, когда на море корабли грабил, в златотканом кафтане хаживал, с золота едал, из золотых кубков, самоцветами изукрашенных, пил. Правда, это после, когда с гребной палубы на капитанский мостик выкарабкался. А до того такой вот драный халат ему и в самых сладких мечтах пригрезиться не мог…
Отведя глаза от бормочущего что-то неразборчивое джуры, Аким скользнул взглядом по кустистому краю оврага и замер, окаменев от ужаса. Там, наверху, освещённый первым утренним лучом, стоял воин в сверкающей кольчуге, с поднятой, будто в приветственном знаке, рукой. Солнечный луч золотил небольшую бородку и мех, коим была оторочена лихо сидевшая на голове мурмолка с синим, шитым золотом верхом.
Безносому палачу вдруг почудилось, что это не простой воин, пусть себе даже и воевода, а сам святой Георгий Победоносец, сошедший с иконы, что хранилась у боярина в опочивальне. Икона-то была не простая, а чудотворная – та самая, что в незапамятные времена обратила в бегство несметное татарское воинство, подступившее к самым стенам Москвы. Неужто Господь явил новое чудо? Нарочно для него, Акима, явил, чтоб понял он в свой последний миг: нет для него спасения на земле, а уж на небе и подавно…
Потом наваждение прошло, но было уж поздно: стоявший на краю оврага витязь резко опустил руку, подавая сигнал кому-то невидимому. И сейчас же в кустах послышались, сливаясь друг с другом, частые тугие щелчки. В воздухе просвистело, будто над головой пронеслась стая диких гусей, и Селим, так и не выпустив из рук разглядываемого халата, повалился на землю, проткнутый насквозь длинной стрелой.
Через мгновение на дне оврага творился ад кромешный. Вскочившие с мест босые полуголые люди хватались за оружие, пробовали ответно стрелять из луков, ловили разбегающихся, дико ржущих коней и десятками валились наземь, сражённые стрелами. Мурза Джанибек верещал нечеловеческим голосом и размахивал саблей, посылая своих воинов на штурм крутых, непрерывно плюющихся стрелами склонов. Крымчаки густо начали карабкаться наверх, цепляясь за кусты и корни деревьев. Громыхнул залп, над кустами поплыло, застревая в ветвях и тая, облако порохового дыма; убитые, ломая кусты и теряя оружие, покатились вниз, на дно оврага, и снова за дело взялись луки, разя татар по одному и целыми десятками.
Лёжа на боку и притворяясь убитым, Аким выудил из рукава ножик и первым делом обрезал ремень, что связывал его с мёртвым джурой. В голове метались спасительные мысли о том, что он скажет, ежели его захватят русские. Оправдание, верно, нашлось бы: ехал-де в войско к боярину, без коего жизни не мыслит, а крымчаки перехватили и забрали с собой. Придумано было не худо, да вот беда: чтобы хоть кому-то рассказать эту басню, сначала надо было живым убраться из превратившегося в смертельный капкан оврага.
Около сотни татар, а с ними и сам мурза Джанибек, исхитрившись поймать и усмирить взбесившихся лошадей, вскочили на них верхом и, как были, без сёдел, ринулись вверх по течению ручья – туда, где овраг мелел и сужался, постепенно сходя на нет. Вскорости в той стороне один за другим гулко ударили два пушечных выстрела, и по раздавшимся воплям Аким смекнул: бьют дробом, сиречь картечью, от коего на малой дистанции войско несёт небывалый урон. Следом поднялась пальба из пищалей, и вскорости беглецы, малая их часть, кто верхом, кто пешком, пятясь под ружейным и пушечным огнём, вернулись на место побоища.
Акиму тоже посчастливилось изловить коня. По склонам оврага уже сыпались вниз, грозно уставив пики и размахивая саблями, русские ратники. Завязалась сеча, в которой, ежели повезёт, у Акима был верный шанс улизнуть.
Из гущи боя прямо на него вдруг выбежал, дико вращая глазами, мурза Джанибек – без чалмы, в распоясанном халате, с окровавленной щекой и с саблей в руке. Аким даже слушать не стал, что он там кричит: ясно было, что хочет поквитаться с предателем, который заманил его в ловушку. Острая сабля блеснула в сыром полумраке оврага; Аким присел, пропуская над собой свистящую сталь и шаря глазами по сторонам в поисках какого-никакого оружия. Кривая сабля с широким утяжелённым концом, именуемая елманью, валялась на земле в каких-нибудь трёх шагах. Безносый увернулся от нового свистящего удара, после ещё от одного, боком подбираясь к елмани. Мурза замахнулся снова, но на середине взмаха замер, выгнулся дугой и пал лицом в землю с перебитым пулей хребтом. Едва взглянув на труп, Безносый подобрал елмань, снова поймал коня, запрыгнул ему на спину и с диким гиканьем погнал его вниз, к болоту, надеясь, что в той стороне не догадались поставить заслон, и не особенно доверяя своей надежде.
Как выяснилось, опасался он не зря. Когда кожа уже ощутила сырую прохладу, а вырванные ноздри втянули гнилостный смрад стоячей воды, из кустов чуть ли не в самое лицо Акиму вдруг выпалил фальконет. Следом ударил второй; картечь с визгом понеслась вдоль оврага, кося увязавшихся за Безносым крымчаков. Невредимый Аким нырнул в облако порохового дыма, заметил прямо перед собой тусклый блеск медного пушечного дула и припал к конской гриве. Над самым ухом оглушительно бахнула пищаль, бритую макушку опалило огненным вихрем. Испуганный конь с маху перескочил фальконет, и, когда конские копыта с глухим стуком коснулись земли, Безносый одним разящим взмахом тяжёлого клинка срубил выскочившего из дыма стрельца.
Вослед ему пальнули ещё раз-другой, а после наседавшие со стороны оврага крымчаки отвлекли внимание пушкарей от одинокого беглеца, коему посчастливилось невредимым прорваться через заслон. За спиной слышались крики умирающих, ружейная пальба и лязг железа – знакомые, постепенно затихающие за поворотом оврага звуки битвы.
В тот самый миг, когда Аким уже считал себя спасённым, конь под ним вдруг споткнулся и упал, сбросив с неосёдланной спины седока. Безносый кубарем покатился по траве, но елмань не выпустил и сразу же вскочил на ноги. Конь бился в стороне, пытаясь встать; в груди у него торчала стрела с полосатым, как кукушкин хвост, оперением.
Глава 16
Степан уже и не помнил, кто первый прилепил ему это ни с чем не сообразное прозвище – Леший. Когда впервой услыхал про себя такое, даже обиделся: ну какой из него к лешему Леший? А после попривык и рукой махнул: да зовите как хотите! Ещё немного погодя подумалось: оно и хорошо, что Леший. С таким-то прозвищем года не пройдёт, как добрая половина округи напрочь позабудет, кто он таков на самом деле. В лесу живёт, народ стращает – стало быть, леший и есть.
И как в воду глядел: забыли. То есть не то чтобы забыли, а будто сговорились забыть, что жил в деревне Лесной знатный резчик Степан Лаптев, который от лютой боярской обиды в лес ушёл да там навсегда и остался. Про себя-то, может, и вспоминали, а вслух – ни-ни. Да и он старался людям глаза не мозолить, на лесной тропке лишний раз не попадаться. Был и сгинул, вот и весь сказ. То ли есть он в лесу, то ли нет его вовсе – поди знай.
Мужичья память короткая да тёмная. Всё в ней перепутано – и правда, и кривда, и быль с небылью. Иной, когда придёт ему охота язык почесать, потешить людей (а в первую голову себя самого) неспешным сказом, скорей небылицу сплетёт, чем быль припомнит. Вот, к примеру сказать, жил-поживал в одной деревне мужик по прозванию Стёпка Лаптев, знатно петухов да коней на оконных наличниках резал. После обидел его боярин крепко, так он сговорился с нечистой силой и ушёл к ней в лес дремучий жить, беса тешить. Бывает, в полнолуние волком обернётся и на деревне скотину душит, а то и ребёнка украдёт. Изба его, как он с нечистью-то сговорился, сама собой занялась и дотла сгорела – вон оно, пепелище, гляди, коль не страшно тебе…
Вот и сказка готова, да такая, что поневоле заслушаешься, хоть и знаешь наверняка, что в сказке той ни словечка правды нет.
Так он Лешим и остался. В первое лето, помнилось, ни есть, ни спать не мог, всё на боярина охотился. Отощал, пооборвался, одичал – ну как есть леший. После одумался: так не то что боярина не изловишь – себя до смерти изведёшь безо всякой пользы. Да и холодать помаленьку стало, а в лесу, на голой земле, без тепла неуютно. Отрыл на сухом бугре землянку, брёвнами изнутри обложил, дёрном в три слоя укрыл, сложил печурку – перезимовал.
Ну, да как он там в лесу жил, никому не интересно, и ему самому в первую голову. Ему боярин Иван Долгопятый был надобен, а боярина-то взять как раз и не получалось. Раз попробовал, другой, и всё: понял идол толстомясый, откуда ветер дует, и беречься начал. Видно, пернатый демон, что вместо шута при нём состоял, его надоумил что да отчего.
Хоронился боярин в тереме, за высоким частоколом да толстыми бревенчатыми стенами. Стражи к себе во двор нагнал столько, что не повернуться – ну, ровно осаду держать вознамерился, несметные вражьи полчища отражать. Берёгся и на дороге: справил себе возок крытый, с толстыми стенками да с окошками в детскую ладонь и отныне без того возка за ворота ни ногой. Хитрый был возок: возница, всё тот же пернатый бес в золочёной личине, тоже внутри сидел, со всех сторон толстыми досками укрытый, и оттуда, изнутри, в малое окошечко глядя, лошадьми правил. И при возке не менее десятка конной стражи, а то и все два, когда как. Вот и возьми его голыми руками!
Он уж по-всякому пробовал – и ямы волчьи на дороге рыл, чтоб возок целиком влез, и иные ловушки мастерил. А только ничего не получалось: и в яму тот возок не шёл, и деревья, загодя подпиленные, все мимо него падали. Ну, будто заговорённый! Иль то Степан таким бестолковым уродился, что убить не мог?
С горя попробовал сколотить ватагу – чтоб, стало быть, скопом навалиться, стражу перебить и боярина из возка, как улитку из скорлупы, вынуть. Сколотил. Поглядел на своих ватажников день, поглядел другой, пожил с ними неделю, а после разогнал всех – вот именно, что к лешему. Им, лихим людям, боярин был надобен столько же, сколько и любой иной человек – купец, к примеру, иль просто прохожий, у коего в мошне позвякивает. Степан разбоем жить не хотел, а они опричь разбоя ничего не умели и иной доли для себя не чаяли – грабили кого ни попатя, однова́ даже у старосты деревенского деньги за проданный урожай отняли. Вот тогда-то Степан и взъярился – деньги у них отобрал и старосте на двор подкинул, а самих разогнал, пообещав, что первого, кто в лес ещё хоть разочек сунется, своими руками жизни лишит.
Ватажники, числом пять, мужики бывалые да битые, слов его, понятно, не испугались. Сказали: чего, мол, время зря тянуть? Давай, сказали, покажи, на что горазд. А мы глянем, кто кого вперёд живота лишит – ты нас или мы тебя.
Вот и глянули. У Степана на память о тех смотринах сабельный шрам на щеке остался, а из ватажников только двое живыми ушли – те, которые успели смекнуть, что дело не той стороной оборачивается, которая им нужна.
Щёку ему травница бабка Агафья после, как могла, залечила. Шрам, конечно, остался, да жаловаться всё равно некому стало: померла бабка, когда её боярский шут кнутом попотчевал. Раз всего и махнул, а бабке того и достало. Так и померла, не сказав, где Леший хоронится.
С собаками, было, его искали – чуть было не взяли, насилу ушёл. Землянку его лесную нашли, разорили да сожгли и после ещё неделю по кустам вкруг того бугра в засаде сидели – думали, придёт пепелищем полюбоваться. Когда б хотел, многих мог бы навеки в тех кустах оставить. Но не было уже в душе прежней лютости; боярина с радостью порешил бы, да ещё, конечно, пернатого демона-шута, а иных – ну, за что? Не своей волей неправду чинят, а по боярскому наказу. И не перебьёшь их всех, и на место убитых псов новые придут, прежних злее, да и народу, что в окрестных деревнях обитает, от того одно лихо будет. Бабку Агафью уже убили, а сколько ещё невинных людей в землю положат, выпытывая то, чего они, горемыки, и не ведают? Не хватало ещё, чтоб мир против него, Степана, ополчился, чтоб мужики с топорами да вилами в лес пошли Лешего изгонять… Кому то в радость и какая от того польза?
И то уж кузнец Мартын, передавая ему в лесу кожаный мешочек с наконечниками для стрел, сказал, глядя в сторону: ты, сказал, подумай, Степан, надо ль тебе и дальше в нашем лесу безобразничать. Серчает, мол, народ, недоволен, что боярин через тебя лютует… Будто без него, Степана, Долгопятый лютовать перестанет! Будто он до того не лютовал! Будто это не он у Степана, а Степан у него жену из дома взял и насмерть уморил… Так он кузнецу и сказал, и кузнец с ответом не нашелся – вздохнул только, головой покачал и домой пошёл.
Да Степан уж и сам думал, что на боярский возок с луком да стрелами охотиться – пустая затея. Рано или поздно выследят, собаками затравят и, ежели повезёт, тут же, на месте, убьют. А не повезёт, так ещё помучаешься перед смертью, поплачешь кровавыми слезами. Тут надо было измыслить какую-то хитрость, а вот какую, Степан всё никак не мог придумать. В голову ничего, опричь волчьих ям да самострелов, не шло; не горазд он был на хитрости, вот в чём загвоздка.
Сильнее всего мешал ему проклятый боярский шут. Кабы не он, Степан Долгопятого уж давно б изловил и смертью лютой казнил. А шут будто и впрямь с нечистой силой знался: все его ловушки за версту чуял и все его затеи прахом по ветру пускал. Непонятно было, чем его, дьявола, взять: нешто святой водой окатить? Одно Степан понимал: покуда этот пернатый демон при боярине состоит, с Долгопятым ничего сделать нельзя.
Стал он потихоньку справки о шуте наводить. Конечно, в лесной берлоге сидя, много не разузнаешь. Волей-неволей приходилось на люди показываться. Но то не страшно, если действовать с умом. В бывшие Зиминых деревни не суйся: там про пернатого шута всё одно, опричь бабьих сказок, ничегошеньки не ведают, зато тебя самого знают как облупленного. На двор к боярину не лезь: там до сих пор челядинец обитает, с которым вино на пригорке, под берёзами, пили. Опознает, укажет – беды не оберёшься. А коль есть нужда с иными дворовыми словечком перемолвиться, отирайся незаметно где-нибудь поблизости: авось нужный человек сам набежит.
Такой осторожный сыск – дело нескорое, однако Степану торопиться было некуда. На здоровье он не жаловался; боярин вроде тоже в могилу не торопился, так что времени на то, чтоб к нему подобраться, было в достатке – целая жизнь.
Как-то раз посчастливилось разговориться с дворовым мужиком, который божился, что видел пернатого демона без личины и без перьев… Сунулся зачем-то в баню, а он там моется. Голый, жилистый, костлявый, спина в шрамах, прямо закостенела вся, как черепаший панцирь. Страшный, одним словом. Мужик не враз и смекнул, кто таков, после видит: в углу на лавке, где одёжу кладут, перья чёрные ворохом валяются, а сверху личина золочёная лежит. Обмер дворовый, а шут оборачивается и пытает: чего, мол, тебе надобно, пёсья морда?
Морда… На свою б сперва поглядел! Голова обритая, как и тело, в шрамах, на лице ни волоска, ноздрей нет – вырваны, а посреди лба царёва печать – клеймо, каким государевых преступников клеймят. Вот тебе и демон! Мужик тот и не помнил, как из бани выкатился. И зачем в баню ходил, тоже забыл.
Послушав тот рассказ, Степан призадумался. Вспомнилось ему, о чём дворовые Зиминых на деревне болтали, когда барский дом сгорел и Андрей Савельевич погиб. Тать, который то злодейство совершил, был безносый; говорили ещё, правда, уже смутно и не зело правдоподобно, что лет за десять до того состоял при боярине Долгопятом палач, который прикрывал нос бархатным лоскутом, а на лбу носил широкую кожаную повязку. Боярин будто бы сказывал, что купил того человека где-то на стороне и что нос ему собака по малолетству откусила. А ещё вспоминали, что аккурат перед тем, как безносому палачу на боярском дворе объявиться, побил боярин в лесу ватагу какого-то лютого душегуба, коего до него никто взять не мог. Душегуб тот будто бы на месте костьми лёг, и был он, по слухам, без ноздрей и с клеймом на лбу.
Степан, когда всё это припомнил и вместе сложил, даже за голову схватился. Каков птах пернатый! А боярин-то каков! Нет, верно сердце ему подсказывало, что к пожару тому и смерти барина Андрея Савельевича Долгопятые руку приложили!
Сходил и на Москву, повстречал лихих людей, коим в Златоглавой испокон веку несть числа, и середь них отыскал одного, который атамана разбойничьей ватаги Безносого Акима ещё помнил. Лиходей тот, по прозванию Шмыга, на паперти милостыню просил, ибо по увечью своему ни на что иное уж не годился. Он сперва Степана спросил, на что ему Аким надобен. Степан, не кривя душой, ответил, что хочет безносого дьявола изничтожить. Шмыга его за то, как родного, облобызал (Степан после три дня отплёвывался и губы докрасна рукавом тёр) и поведал, что не так давно, года два или три назад, Безносый, коего все давно почитали мёртвым, вдруг объявился и стал сколачивать ватагу для одного лихого дела. Хотел он боярина, при котором шутом состоял, в лесу подстеречь и убить. Сына боярского трогать не велел – сказал, что сам хочет вперёд с того кровососа ножом мяса настрогать. Куш сулил немалый, а дело было плёвое – словом, сговорились. Подкараулили в лесу боярский возок, истребили охрану и старого боярина убили, как договаривались. А после Безносый вдруг, худого слова не говоря, за своих товарищей взялся: одного саблей зарубил, другого застрелил из пищали, а Шмыге, который пытался от него в лес убежать, воткнул под лопатку нож. Шмыга и не ведал, как ему выжить посчастливилось. Да, может, лучше было и не выживать: искалечил его Безносый на всю оставшуюся жизнь, и ныне он, Шмыга, только и может, что, на паперти сидя, милостыньку просить.
Тут Степан и вовсе чуть ума не лишился. Ну и ну! Ай да шут! Ай да боярский сын! Истинно нечистая сила. Только против той нечисти ни святая вода, ни крест животворящий не помогут…
Какое-то время спустя Девлет-Гирей случился. Степан сперва на слухи о татарах и внимания не обратил: болтают люди, чего сами не ведают. Да и что ему в татарах? После смекнул: эге, а Долгопятому-то, поди, тоже придётся на войну идти! Как бы это его дорогой подстеречь да аркан на толстую его шею накинуть? Подумал и решил: нет, не выйдет. Не пойдёт боярин на войну. Сроду не ходил и ныне не пойдёт. Чего он на войне не видал, коль от неё откупиться можно?
После занемог. Не то сквознячком прохватило, не то съел что-то, а верней всего, испил водицы не из той лужи. Так скрутило – думал, всё, карачун. Кое-как дополз до знакомой полянки, нарвал через силу травы, какую бабка Агафья показывала, сделал настой и тем настоем спасся. Пока на ноги встал, боярина уж и след простыл – сказали, на войну ушёл. Взял три десятка мужиков из вотчины, сабли да кольчуги им дал и ушёл. Вот те на!
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Крымчаки к тому времени уж почти до самой Москвы дошли и остановились аккурат у границ долгопятовской вотчины. Всему миру горе, а Степану радость: далеко ходить не надобно. Боярин-то вот он, а главное, что без своего мудрёного возка. Ступай да бери его за то место, кое больше глянется.
Вот Степан и пошёл за войском, а по дороге, идя мимо Марьина оврага, невзначай приметил караульного татарина. Когда увидел, сколь тех нехристей в овраге хоронится, на время даже о боярине позабыл: смекнул, чего им тут надобно. И чем грядущая битва кончится, ежели они своего добьются, тоже смекнул. Битый час на сосне, как дятел, просидел, крымчаков пересчитывал да караулы их в кустах высматривал. Думал: напрасно, и так видно, что много. И ещё думал: как это они, нехристи, троп лесных не ведая, скрытно сюда забрались? Ведь, почитай, целое войско, а никто и не приметил! Не иначе кто-то дорогу указал. Сведать бы кто!
А после видит: ходит промеж крымчаков один, не дюже на татарина похожий. Халат на нём полосатый, чалма, почитай, до самых бровей намотана, и видно, что пленник, потому что не один ходит, а с татарином, к которому сыромятным ремешком за руку привязан. Сабли или иного какого оружия при нём не видать, да и носа, ежели приглядеться, тоже нету – виднеется на его месте не то тряпица засаленная, не то засаленный же кожаный лоскут.
Господи, святая Богородица! И тут ироды эти Долгопятые наследили!
Таково Степану хотелось снять с плеча лук да пустить в безносого демона стрелу, что насилу сдержался. Далековато было, да и стрелял он уж в боярского шута не единожды – верно, раз пять пробовал, да ничего не вышло. Увёртывался, окаянный, будто выстрел загодя чуял.
И ведь почуял и на сей раз! Сидел себе спокойно, слушал, что ему приставленный татарин сказывал, а после вдруг голову задрал и ну по сторонам глазами шарить! Степан за сосновым стволом притаился и дышать перестал. После выглянул потихоньку – всё, успокоился безносый. На землю лёг и вроде спать собирается.
Тут только Степан сообразил: ежели стрелу пустить, татарва мигом смекнёт, что стоянку их открыли, и в иное место перебежит. А допрежь того его, Степана, так стрелами утыкают, что будет он похож не на человека и не на лешего даже, а на большого дохлого ежа. Словом, по всему выходило, что надобно ему, как и собирался, к войску князя Воротынского бежать – про татар сказать и, ежели повезёт, Долгопятого изничтожить, пока его демон-охранитель в овраге с крымчаками ночует. А с шутом и после разобраться можно. Степан твёрдо верил: пускай хоть сто лет пройдёт, а встречи им не миновать.
Когда княжич Загорский загадку его разгадал и по имени назвал, Степану даже приятно стало – будто родным чем-то повеяло, ей-богу. Стало быть, не он один покойного Никиту добром помнит, не его одного давняя вина да обида гложут. После одумался: э, какое там! Князь – он и есть князь. Нужда к стенке припёрла, вот и заговорил с мужиком ласково. Оно ведь так испокон веку ведётся: пока всё спокойно, на холопе, как на тощей лошадёнке, пашут – знай себе, покрикивают да палкой по хребту поколачивают. А который взбрыкнёт да в лес убежит, того, как дикого зверя, собаками травят. А случись война или иная какая напасть, мужика, что готов грудью поперёк того лиха встать, никто не спрашивает, кто он таков и какие вины за ним числятся. Все ему рады, всяк норовит слово доброе молвить: спаси тебя Бог, добрый молодец, послужи нам верой и правдой!








