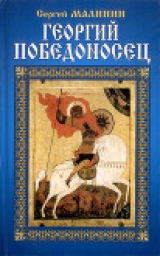
Текст книги "Георгий Победоносец"
Автор книги: Виктория Василишина
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Глава 14
Являясь ко двору и вообще бывая в Москве, боярин Иван Феофанов сын Долгопятый оставлял своего шута дома, в деревне. Прежде всего, к государеву двору со своим шутом ходить не принято, да и выдумка с перьями царю могла не понравиться, ибо то была его, великого князя Ивана Васильевича, выдумка, пускай себе и давняя. Скажет: что, мол, боярин, с царём равняться вздумал? Сперва шута своего царским шутом нарядил, а после шапку Мономаха примерить захочется? А может, ты и ныне того желаешь, да не сказываешь?! Ступай-ка, боярин, к Малюте Скуратову, ему-то поди всё как на духу выложишь…
А то ещё велит Акиму личину поднять, показать лицо. А там-то!.. Ноздрей нет, вырваны ноздри, зато клеймо – вот оно, посередь лба красуется. Ещё того чище выйдет. Скажет: так будь ты, боярин, со своим шутом на одно лицо! Лют государь, и чем дальше, тем лютее, с него поди и не такое станется. Заклеймит, обезноздрит и зашлёт, куда Макар телят не гонял, а земли псам своим злобным, опричникам, раздаст. Ладно ль то будет, гоже ли? Нет, ну его к шуту, того шута, пущай лучше дома сидит, вшей у себя в каморке ногтями давит!
Тем более что шут из него не таков, каков боярину надобен. Все его шутки – не шутки, а насмешки злобные, да не над кем иным, а над самим боярином! Царёвы шуты его величество этак же потешают – лепят ему в глаза правду-матку, всё, о чём князья с боярами по углам шушукаются, пересказывают, да ещё, бывает, и от себя прибавят. Царь-батюшка послушает-послушает, а после ну шутов своих бить-колотить! Поколотит – весел ходит; стерпит, воли рукам не даст – ну, ровно туча грозовая!
А Иван Долгопятый и терпеть насмешек над собою не хотел, и шута своего, Безносого Акима, колотить побаивался. Ведал потому как, что сие за птица – шут, что по наследству от отца покойного достался. Не шут он, а пёс, и не пёс, а волк приручённый, который верен хозяину до той поры, пока ему самому того хочется. А ежели что не по нём, прыгнет, зубищами щёлкнет, и дух из тебя вон!
К тому ж до Москвы дорога прямая, открытая – полями бежит, редкие рощи да перелески стороной огибая. И людно на ней, и лиходейства никакого давненько не замечалось – пожалуй, с тех самых пор, как Безносый Аким со своей ватагой в здешних краях орудовал. Этот-то мог купеческий и даже царский обоз у самой городской заставы отбить и целым в лес убраться. А ныне на московской дороге спокойно, и телохранитель в золочёной личине боярину ни к чему – хватит и малого числа обычной конной стражи. Можно б и вовсе без стражи, да чин не дозволяет.
Эх, чин! Казалось бы, повезло тебе родиться сановитым боярином – живи да радуйся! Ан нет. В последние годы как раз боярский чин мало-помалу сделался главной докукой, из-за которой, не любя и побаиваясь своего жуткого шута, Иван Долгопятый берёг его как зеницу ока. При дворе сделалось совсем уже неуютно, прямо-таки страшно, и всё время было такое чувство, будто ступаешь по тонкому льду, который хрустит, трещит, прогибается под ногами и вот-вот совсем провалится. Действовать, говорить и даже просто молча стоять на приеме у царя ныне следовало с умом и большой осторожностью. Посему отцовский шут, бывший каторжник, лесной разбойник и морской пират, человек без роду-племени, не ведающий грамоты и за всю жизнь не заучивший ни одной молитвы, стал для боярина умом, коего у него самого недоставало.
В делах государства Аким Безносый смыслил не больше, чем вороватая мышь смыслит в том, откуда берётся любимая ею крупа, однако ж, ежели Ивану Феофановичу удавалось верно запомнить и пересказать своему шуту слова царя, сказанные на очередном приёме и касающиеся очередного замысла грозного Ивана Васильевича, Безносый легко вникал в суть любой закавыки, будь то отношения с польской и свейской коронами или внезапная и ничем, кроме царёва крутого и непредсказуемого нрава, не объяснимая немилость, павшая на голову очередного родовитого боярина. Обдумав дело, Аким давал хозяину совет: что сказать, как глядеть, улыбаться иль хмуриться, чью сторону принять – словом, как себя вести, ежели царь вздумает советоваться с боярами. Советы безносого палача, от коего вечно смердело винным перегаром, луком и застарелым потом, неизменно оказывались верными; государь обычно взирал на Ивана благосклонно, а бывало, что и ставил его в пример иным боярам, называя не по возрасту мудрым. Но при всём при том полного довольства Иван не испытывал: страшновато было жить, во всём полагаясь на подсказки немытого душегуба. А ну как ошибётся или нарочно присоветует такое, что хозяина потом вверх ногами повесят? Да и не вечный ведь он, Аким-то! Околеет невзначай, и кто тогда вложит в Ивановы уста верные слова, столь любые государю? Вот и думай теперь, надобно ль тебе возвышаться, любо ль тебе близ царского трона покажется…
Да и не больно-то торопился государь холопа своего Ваньку Долгопятого возвышать. Слова ласковые, бывало, говорил, жаловал то тем, то сем – больше, конечно, по мелочи, – а близ себя, как и раньше, держал свору худородных выскочек да аспида этого Малюту Скуратова с зятем его Годуновым Бориской.
Только все те горести да обиды ныне остались в прошлом, и, оглядываясь назад, Иван только диву давался: Господи, да чем он тогда был недоволен? Плясать надо было от радости, что большего лиха не ведал!
А лихо – вот оно, тут как тут. Да какое!
Вернувшись из Москвы, Иван чуть ли не бегом направился в свою опочивальню и с грохотом, который был слышен по всему терему, пал на колени перед божницей. В отличие от покойного отца, который только на людях старался казаться набожным, Иван в последние годы сделался зело богомольным – надо думать, сказались частые визиты к настоятелю монастыря отцу Апраксию. Иеромонах выглядел: столь спокойным, довольным своею земной жизнью и уверенным в том, что впереди его ожидают райские кущи, что, глядя на него, поневоле зависть брала. И думалось: не иначе ему так хорошо живётся оттого, что он о том Господа денно и нощно молит, а тот мольбам слуги своего верного благосклонно внимает. Когда Иван о том заговаривал, игумен, о многом умалчивая (а перед кем распинаться-то – перед этим скорбным умом губошлёпом?), соглашался, что так оно и есть: благоденствие при жизни и райское посмертное блаженство усердным служением Господу достигаются. Коротко говоря, ничего худого с тобой не случится, ежели ты лишний раз лоб перекрестишь, и рука у тебя от того не отвалится, зато беда какая, глядишь, тебя и минует. Наверняка сие ведать людям не дано, ну а вдруг?
Молитва Ивана Долгопятого сегодня, как никогда, напоминала слёзную жалобу дитяти, коего строгий наставник силой понуждает заучивать азбуку, вместо того чтоб на улице в салочки играть. Тёмные лики святых угодников взирали на боярина с равнодушной скукой: не таков был праведник, чтоб к лепетанью его слезливому прислушиваться. И только образ Георгия Победоносца ныне казался не таким, как всегда. Бросая на него осторожные косые взгляды, Иван Феофанович всё более уверялся в том, что святой покровитель земли русской и православного воинства поглядывает на него с насмешливой улыбкой: ага, дескать, попался? Сколь верёвочке ни виться, всё равно конец будет! Настал, раб Божий, и твой черёд под мои знамёна стать, постоять, не щадя живота своего, за землю отчую да за царя-батюшку!
А черёд и верно настал. На дворе стояло лето от сотворения мира семь тысяч восьмидесятое, от рождества же Христова тысяча пятьсот семьдесят первое – то самое, когда на Москву, как встарь, шли, сметая всё на своём пути, несметные полчища татарвы под предводительством хана Девлет-Гирея. Опрокинув порубежную стражу, не встречая сопротивления войска, которое, почитай, целиком сосредоточилось на северо-западных границах, увязнув в затяжной войне с ливонцами, поляками да шведами, крымчаки скоро и неотвратимо приближались к Москве, а допрежь того – к вотчине Долгопятых, коей им, по всему, было не миновать.
Живя в стране, которая, почитай, непрерывно воевала, находя взамен и вдобавок к старым недругам всё новых и новых, Иван Долгопятый, коему по чину и по освящённому веками обычаю полагалось бы принимать в тех войнах самое деятельное участие, до сих пор ухитрялся ни разу не выехать на поле брани. Мужиков своих, было, давал, а сам – ни-ни. Откупался, как то было исстари заведено: не хочешь воевать – гони монету в царскую казну и живи спокойно. Царь, правда, на таких откупщиков косился, и чем далее, тем сердитей, однако до сей поры Иваново «миролюбие», коему по правде именоваться б трусостью, как-то сходило ему с рук.
А вот ныне не сошло.
От молитвы легче не стало – наоборот, насмешка, чудившаяся не только в лике святого Георгия, но даже и в том, как Победоносец сидел на коне, мало-помалу превратила испуг боярина в досаду, а досаду – в злость. И злость эта, как уже не раз случалось, была обращена против царя. Ведь уморить задумал, окаянный! Насмерть уморить, осиротить малых детушек…
Из покоев жены уже какое-то время доносился детский плач – няньки да мамки, предводительствуемые новою женой Ивана Феофановича, взятой им вместо покойной Марьи, никак не могли успокоить годовалого Гаврилу Иваныча. Вняв совету незаменимого Акима, говорившего, что род надобно продолжать, а битьём да постельными изуверствами сего благого дела не свершишь, вторую свою супругу боярин почти что не тиранил. И шут дело говорил, и сам боярин к тому времени уже малость поостыл, подрастерял охоту к бесовским своим утехам: оно ведь, ежели патокой долго сверх меры объедаться, после и на мёд глядеть не захочется. Да и боярыня новая прежней была не чета: дебёлая, рыхлая, нрава ленивого и до того глупа, что мужу своему, который и сам от неё недалеко ушёл, в рот глядела, всякое слово ловя и за высшую мудрость его почитая.
Сына она родила здорового – по крайности, большого да дебёлого, в родителей. Правда, Безносый, да и не он один, поглядывал на боярского отпрыска с каким-то сомнением, но Иван был собою горд и доволен: всё у него оказалось в порядке, и род он продолжил. А то отец-покойник, бывало, говорил: пустоцвет ты, мол, Банька, даже в этаком простом деле никакого толку от тебя не видно. Любуйся теперь на внука с небес или где ты там ныне обретаешься…
Однако сейчас басистый рёв наследника безумно раздражал боярина – так и хотелось пойти да прибить крикуна, ежели по-другому не умолкает. С трудом подавив неразумное желание (этого прибей, так после нового заводить придётся), Иван Феофанович кликнул слугу и велел позвать к себе Акима.
– Да скажи там, чтоб дитя угомонили, не то я их сам всех угомоню! – грозно крикнул он вослед втянувшему голову в плечи челядинцу.
Вскоре явился Аким, поклонился хозяину до земли и, сняв личину, по боярскому знаку сел на лавку в углу, который потемнее.
– Не вышло? – глухо спросил он оттуда, по лицу боярина мигом смекнув, что на этот раз откупиться от воинской повинности не удалось.
– Дьяк приказной – этакий пёс! – злобно пожаловался Иван Феофанович. – Нос дерёт так, словно это он – боярин, а я – так, никто, и звать меня никак. Царь, говорит, ныне откуп брать не велел, а велел всем, кто в седле держаться может, на татарина идти. Я ему: то-то, мол, и оно, хвор я ныне да немощен, до ратного дела не гож. А он мне: что-то, говорит, по тебе, боярин, не видать, чтоб тебя хворь глодала. Эвон ты какой крепкий да ладный, истинный богатырь! И в книге пером чирикает что-то. Я уж сразу смекнул, что не к добру то чириканье, и точно: не успел до ворот дойти, как сзади уж царский слуга окликает. Говорит: государь просил тебя, боярин, немедля в его покои пожаловать для дружеской беседы. И-эх! – Иван Феофанович ударил себя кулаком в грудь, отчего по горнице пошёл низкий, как от удара в бочку, глухой гул. – Слыхал бы ты ту дружескую беседу! Опять, говорит, отвертеться норовишь? Не оттого ль сие, спрашивает, что ты с недругами моими заодно и, как они, чаешь меня престола лишить и совсем со свету сжить? Ну, я, понятно, в ноги…
– Погодь, боярин, – непочтительно перебил его шут. Сдвинутая на макушку золочёная личина тускло блеснула в свете сальных свечей, когда он подался вперёд, будто желая лучше расслышать то, что станет далее говорить хозяин. – Это про каких недругов? Не про бояр ли да князей, коим государь наш батюшка давно поперёк горла, костью вострой стоит?
– Не ведаю я того! – воскликнул Иван Феофанович, и Аким незаметно поморщился, в который уж раз про себя изумившись глупости человека, который беспечно прогуливается по незнакомому лесу, где полно волчьих ям, с завязанными глазами. – Может, и есть заговор, да я про то и знать не хочу! Будто мне без заговора горестей недостаёт…
– Мнится, без бояр не обошлось, – задумчиво сам себе проговорил Аким. – Не отважился б Девлет-Гирей прямо на Москву идти, кабы в царских хоромах у него своей руки не было… Ну, да нам с тобой, боярин, до того и впрямь дела нет, – продолжал он окрепшим голосом, обращаясь к Ивану Феофановичу. – Мы с тобой из этой оказии ещё и пользу добудем. Надобно только решить, чью сторону ты возьмёшь – татарина, за коим именитые бояре стоят, иль царя…
– Пущай на его стороне псы безродные, ласкатели криводушные остаются, коими он себя окружил! – с напугавшей его самого злобной решимостью выпалил Иван. – Меня под татарские стрелы, а сам в Новгород бежать собрался!
– Чует, стало быть, что крымчака ему не одолеть, – хмыкнул Аким. – Вот и ладно. Мне его любить тож не за что, его велением я без ноздрей остался, и клеймо на лбу – его подарочек… Не горюй, боярин, мы с тобой, гляди, ещё сами поцарствуем!
– Держи карман шире, – уныло проговорил Долгопятый. – Ежели царя и скинут, я всё едино не у дел. Те, кто в заговоре, меня с собой не звали, а стало быть, если они верх возьмут, мне от того никакого проку не будет.
Усевшись на лавке под образами, он понурил большую, тяжёлую голову и свесил меж колен толстые руки с короткими мясистыми пальцами. Сверху грозил копьём потемневший от времени и лампадного чада Победоносец, но раздавленный страхом и унынием боярин того не замечал.
– Не горюй, – с нажимом повторил Аким. – Ежели Девлет Москву возьмёт, так, верно, не бояре, а он станет решать, кого казнить, а кого миловать. А уж его-то милость я для тебя, боярин, как-нибудь сыщу.
– Это как же? – не поверил Иван.
– Есть у меня одна задумка, – хмыкнул безносый шут. – Только на войну пойти тебе, боярин, всё ж придётся.
– Экая безделица – на войну сходить! – опять вскипел Долгопятый. – Убьют ведь меня там! Вот сердцем чую – убьют! А на кой мне, мёртвому, твоя задумка?
– Небось, не убьют, – с обидным бессердечием отмел боярскую жалобу Безносый. – Разве что подранят чуток, но что не до смерти, это я тебе обещаю.
– Откуда тебе, шуту гороховому, про то ведать? – с горечью воскликнул боярин.
– Ужо ведаю, – заверил его Аким. – Вот послушай, кормилец, что мне на ум пришло…
Выслушав, Иван Феофанович сызнова осерчал и хотел уж было прибить негодного советчика (война-то, поди, пострашнее десятка шутов, пускай себе и безносых), да, поостыв и поразмыслив, драться расхотел. Всё равно иного выхода, опричь предложенного Акимом, у него не было – ну, не воевать же, в самом деле, раз в заговор не взяли! А успех задуманного целиком и полностью зависел от Безносого. Вот и тронь его хотя бы пальцем! Опять, как при отце, пропадёт на десять лет, а без него как без рук…
Всё было решено. Выпив на сон грядущий добрую чару зелена вина, боярин Долгопятый отправился на покой, с тем, чтобы утром, как рассветет, начать приготовления к первому в своей жизни ратному походу – ежели Бог даст да безносый бес пособит, совсем недолгому.
* * *
Безносый хорошо понимал, что рискует головой. Но к риску ему было не привыкать, да и бездействие казалось едва ли не более рискованным, чем самая безумная затея. Не помоги боярину, оставь толстомясого увальня на произвол судьбы – как пить дать пропадёт. Либо царь за трусость да криводушие казнит, либо крымчаки убьют – по такой-то мишени, поди, и плохой стрелок не промахнётся! И пойдёшь ты тогда, Акимушка, на все четыре стороны – с сумой по дворам побираться, пинки и насмешки безропотно снося, или сызнова в лес с кистенём. А старость-то уж не за горами, все кости на погоду ломит, зубы попортились, а которые и выпали – ну какой из тебя ныне разбойник?
А и рискнуть хотелось. Пусть самый последний разочек, но понюхать вольного ветра пополам с пороховым дымом, пройти по самому краешку, как тогда, когда дрался в одиночку с боярскими дружинниками или отстреливался из слабых, негодных фальконетов от наседающих со всех сторон военных галер да фрегатов. Засиделся в тереме, размяк, вкус сладкой жизни почуял и даже начал, чего никогда ранее не делал, мзду от холопов брать за то, чтоб пороть вполсилы. И мало-помалу сладкая да спокойная жизнь, о коей раньше и помыслить не мог, начала казаться скучной да пресной. Нужно было встряхнуться, погонять кровушку по жилам. А убьют – невелика беда. Всё едино вечно жить не будешь, да и кому сие надобно – жить вечно? Нет, кабы зубы не болели да кости не ныли, это б ещё куда ни шло. Да и то… Молодым да здоровым тоже, бывает, несладко приходится, а что уж о нищем старце говорить, коему за тыщу лет перевалило!
Рискованный замысел Безносого состоял из двух частей. Первая, касавшаяся участия боярина Долгопятого в предстоящих военных действиях, представлялась Акиму безделицей, детской забавой и была даже не столь опасна, сколь приятна и потешна.
Зато вторая была такова, что даже бывшего разбойника и пирата при мысли о ней пробирал озноб. Один неверный шаг тут мог стоить ему головы, причём смерть обещала стать долгой и мучительной – такой, какой и заклятому врагу не пожелаешь.
Зато куш в случае успеха впереди маячил знатный – такой, какой ни нынешнему боярину Долгопятому, ни отцу его покойному, поди, и не снился. А ежели и снился, так взять его не могли – руки, вишь, коротки.
Удача замысла обещала Ивану Долгопятому, а вместе с ним и Акиму самое драгоценное из земных сокровищ – власть. Зе́мли да злато ничего не стоят, если власти в руках нет. Хоть ты верхом на золотой горе сиди, а тот, кто власть имеет, придёт однажды и гору твою из-под тебя, не спросясь, выдернет. А перечить станешь, дунет – и нет тебя. У кого власть, тому и рая за гробом не надобно – он и так в раю обитает.
Царь-батюшка власти боярам, особливо таким, как Иван Долгопятый, давать не собирался – наоборот, даже ту, которая была, помаленьку отнимал. Они если и пособляли Девлет-Гирею, так только затем, чтоб ненавистного царя скинуть и прежним, исконным порядком зажить, чтоб боярин в своей вотчине, как встарь, был и царь, и бог, и все святые апостолы в одном лице. Однако допрежь того крымчак ещё успеет на Москве огнём и мечом похозяйничать, и к голосу его боярам-заговорщикам придётся прислушаться. И ежели скажет Девлет: быть-де боярину Долгопятому в таком-то княжестве полновластным господином и князем, – то так оно верней всего и будет.
Всё лучше, чем у царя-самодура на приёмах от страха трястись, гадая, пронесёт на сей раз или не пронесёт.
Об этом, хотя и не столь связно, думал Безносый Аким, сидя в кустах на краю русского военного лагеря, который шумел, дымил кострами и копошился, как огромный разорённый муравейник, готовясь к ночному привалу. Небо под вечер нахмурилось, и ратники, составив шатрами копья, натягивали на эти каркасы шкуры и рогожи, строили шалаши, чтобы насколько возможно обезопасить себя от непогоды. Тут и там на широком, обрамлённом негустым лесом поле уже виднелись островерхие шатры воевод. По лагерю, неловко переставляя спутанные ноги, бродили стреноженные кони и с хрустом щипали вытоптанную траву. Пушкари проверяли наряд, укрывали от собирающегося дождя пороховые бочки и возы с огненными зажигательными ядрами. Глухо бренчали подвешиваемые над кострами закопчённые котелки, слышались разговоры и смех, не шибко весёлый ввиду близости неприятеля, коего до сих пор никак не удавалось остановить.
Напрягая свои немолодые глаза, Безносый не без труда разглядел почти в самом центре лагеря подле шатра воеводы князя Михайлы Воротынского тучную фигуру боярина Долгопятого. Этот, как всегда, старался держаться поближе к начальным людям, тёрся вокруг, мозолил глаза, чтоб про него, чего доброго, не забыли, не обошли милостью. Занятый разговором с другими воеводами, князь Воротынский даже не смотрел в его сторону, но Иван Феофанович упрямо продолжал торчать рядом с шатром верхом на своём рыжем немецком битюге, напоминая издалека копну овса, которую кто-то для потехи взгромоздил в седло. После, вспомнив, как видно, об уговоре, огляделся, поворотил коня и, смешно подпрыгивая и раскачиваясь в седле, поехал на самый край лагеря – опять же, не туда, где его дожидался Аким, а много правее. Экая, право, бестолочь! И то верно, на войну ему никак нельзя: вреда от него там будет куда больше, чем пользы, да и убьют его в первой же стычке почти наверняка – ежели не сообразит вовремя удрать, конечно. Так ведь даже и на то, чтоб удрать, тоже сноровка требуется! По крайности, проворство. А проворства в боярине ровно столько, сколько в дубовом ларе, доверху деньгами набитом…
Да уж, бестолочь… Ну, да то не беда. Это нынешний государь бестолочей не жалует, а без него, в вотчине своей закрывшись и полную власть над ней имея, и бестолочь не худо прожить может. Тем более что при бестолочи этой будет неотлучно состоять сметливый да бывалый советчик – Безносый Аким. Ничего, что зваться он будет шутом. Как говорится, хоть горшком назови, только в печку не ставь. А кто из двоих боярин, кто шут, после станет видно.
Выехав за линию караулов, боярин стал столбом и начал вертеть головой из стороны в сторону. Аким совсем уже было собрался ползти к нему, но тут Иван Феофанович сообразил наконец, что заехал не туда, неловко развернул коня и направил к условленному месту. Когда боярин остановился – опять же, не как уговаривались, а лицом к лесной опушке, – Аким, прислушавшись, различил его негромкий окрик:
– Безносый! Эй, ты где?
Ну что ты станешь с ним делать? Ты ещё рукой помаши, чтоб все кругом видели, что ты с кем-то перекликаешься!
Про себя ругаясь чёрными словами, Аким натянул тугую тетиву лука, решив делать дело поперёк уговора, как придется, покуда этот толстомясый тугодум не накликал на них обоих беды. Пускай после на себя пеняет!
Тут у боярина, на его счастье, случилось очередное просветление, он перестал валять дурака на глазах у всего лагеря и, как было условлено, развернулся спиной к лесу. Не дожидаясь, какую штуку он ещё выкинет, Аким старательно прицелился и отпустил тетиву. Лук он мастерил сам, коротая за этим занятием долгие, ничем не занятые вечера, и тот удался на славу – мощный, дальнобойный, а главное, точный. Стрела, просвистев по воздуху, вонзилась аккурат туда, куда метил стрелок, – в то место, откуда не токмо у бояр, но даже и у самого царя растут ноги, в обширную мякоть правой половинки.
Безносый покинул свою лёжку едва ли не раньше, чем стрела достигла цели. Без единого шороха скрываясь в густом ельнике, он услышал, как боярин, валясь с коня, громко, на всю святую православную Русь, мученическим голосом возопил:
– Аспид окаянный! Больно-то как!
– А ты думал, щекотно будет? – вполголоса, посмеиваясь, спросил Аким и пропал в лесу.
Позорное ранение боярина Долгопятого вызвало б куда больше смеха, кабы дело не выглядело таким серьёзным. Что боярин теперь надолго лишился возможности передвигаться не только верхом, но даже и на своих двоих, выбыв, таким образом, из рядов православного воинства ещё до начала битвы, было ясно всем, и никого это особенно не взволновало. Даже долгопятовские мужики-ополченцы не шибко горевали – наоборот, радовались втихомолку. Допрежь всего, приятно, что боярин пострадал (жаль, правда, что насмерть не убили), так ещё и им облегчение вышло. А то ведь, с таким-то боярином на войну отправляясь, с двух сторон лиха опасаться приходилось: и от крымчака, и от своего господина, который любого татарина злее.
Беспокоило другое: стрелял-то в Долгопятого не заяц и не медведь! Видно, татарские разъезды забрались уж много дальше, чем то было ведомо воеводам, и кто-то из крымчаков не устоял перед искушением подстрелить отбившегося от общей кучи, богато одетого и вооружённого всадника: а ну как важный воинский начальник? Стало быть, и о нахождении русского лагеря Девлет-Гирей теперь наверняка сведает, и нападения можно ждать в любую минуту…
В лагере поднялась суета. Ертоульные, кто не был в разъезде, вихрем взлетели в сёдла и помчались ловить ветра в поле. Сыскать им удалось только прокажённого, который, обрядившись, по обыкновению, в рогожный мешок с дырками для глаз, брёл неведомо куда по дороге через поле. Держась от него на расстоянии, всадники спросили, не видал ли он поблизости татар. Сиплым и дребезжащим голосом прокажённый ответил, что совсем слаб глазами и едва-едва может различать божий свет, но совсем недавно мимо него и впрямь проскакали какие-то конные – не то двое, не то целых трое, по звуку было не разобрать. Нахлёстывая коней, ертоульные бросились в указанном калекой направлении. Калека же, добредя до леса, отвязал спрятанного в чаще доброго коня, скинул с себя грязный мешок, ловко, как молодой, прыгнул в седло и лесными тропами, памятными ещё с тех давних времён, когда промышлял в здешних краях разбоем, поскакал к лагерю крымчаков.
Дивно то или нет, Божьим попущением свершилось или происками сатаны, однако хан Девлет-Гирей, менее часа проговорив с захваченным караульными странным русичем в золочёной птичьей маске, который бойко болтал по-татарски, решил, что ему можно довериться, и принял его предложение. Ещё до рассвета большой отряд татарской конницы, числом едва не в тысячу сабель, скрытно покинул лагерь и, ведомый перебежчиком, глухими звериными тропами двинулся вперёд, заходя в тыл войску князя Воротынского – давнего знакомца и недруга хана Девлет-Гирея.
* * *
Сидя на разобранном походном ложе в своём шатре, молодой князь Ярослав Загорский готовился отойти ко сну. Караулы были выставлены, посты проверены; всё иное теперь зависело от бдительности караульных и Господней воли. Он же, княжич Ярослав, сегодня уж сделал всё, что от него требовалось, и, бродя по засыпающему лагерю, только без нужды беспокоил усталых ратников и отвлекал от дела караульных. Посему, видать, и впрямь лучше всего было, не мудрствуя лукаво, улечься спать.
Но спать не хотелось. Снаружи, у входа в шатёр, при неверном свете костра слуга точил княжескую саблю, и монотонное шарканье бруска о металл навевало смутную печаль. В треугольную щель приоткрытого полога заглядывал, любопытствуя, молодой остророгий месяц, на походном столике горела сальная свеча. Фитилёк потрескивал, роняя гаснущие на лету искры, коптящий огонёк трепетал и гнулся на лёгком сквозняке.
За годы, что пролетели с того чёрного дня, когда от руки боярского сына Ивана Долгопятого погиб ославленный и всеми презираемый Никита Зимин, единственный по-настоящему близкий друг, княжич Загорский побывал в разных местах и всякого насмотрелся. Ещё раз или два съездил с посольствами в дальние страны, а после его, как и многих молодых людей дворянского сословия, закрутила и пошла швырять по дальним рубежам гигантская мясорубка затянувшейся на долгие годы Ливонской войны. Гремели пушки, в пороховом дыму и копоти пожарищ угрожающе возвышались неприступные каменные стены орденских крепостей, обречённые склониться и пасть перед русской силой; стройными рядами выходили из ворот под командой закованных в железо рыцарей наёмники-ландскнехты с плоскими железными тазами на головах, и поднаторевшие русские пушкари били по ним прямой наводкой, сами погибая от летевших с крепостных стен ответных ядер. Подступали вплотную к зубцам ощетиненные пищалями и бомбардами деревянные башни гуляйгородов, вздымались белые флаги и вероломно разрывались договорённости. Кровью, как это бывает всегда, писалась история государства, и Ярослав Загорский льстил себя надеждой, что в письменах тех осталась и малая буквица, вписанная его, княжеской, кровью, коей за эти годы пролилось немало.
Ныне княжич Загорский командовал ертоульным полком. Оттого ему и не спалось: крымчаки были уже близко, вчера их разъезд подстрелил Ивана Долгопятого и, что было всего хуже, ухитрился убраться незамеченным восвояси. Прямо зло брало от такой несправедливости судьбы: раз уж всё равно наделали беды, подкрались к самому лагерю и высмотрели завидную мишень, могли б выстрелить поточнее!
Долгопятого князь не переносил на дух – всё никак не мог забыть ту тёмную историю с Никитой. Мнилось, затеяли её именно Долгопятые, а Иван своим неожиданно метким выстрелом сделал невозможным любое разбирательство: оба Зиминых, отец и сын, умерли, и спросить, правда была написана в том доносе или кривда, стало не у кого. Посему Ярослав не знал, печалиться ему или радоваться из-за полученного боярином стыдного ранения. Оно, конечно, приятно, да жаль, что не наповал. И надеяться, что этого пса на войне убьют, теперь невозможно: он, поди, с лежанки встанет не раньше чем вся эта заваруха кончится. Хоть бы и десять лет провоевали – так и будет, чуть что, за зад свой хвататься и охать жалобно: дескать, мочи нет, как больно, совсем меня крымчак искалечил!
После того вспомнился Никита, и княжич вздохнул, дивясь причудам человеческой памяти: все их весёлые проказы помнились до мелочей, будто вчера были, а лицо друга виделось смутно, как сквозь густой туман или слюдяное оконце. Горько было оттого, что умер молодым, не успев ничего в этой жизни сделать. Даже наследника после себя не оставил, вот и кончился род. А славно было б ныне стоять против Девлет-Гирея плечом к плечу! Уж Никита Зимин, верно, не стал бы, как Ванька Долгопятый, за чужие спины прятаться! Много славных дел он бы мог свершить, кабы не тот выстрел, а потомки его, мнится, и того больше. Да не бывать этому: обрубили Долгопятые, псы ненасытные, молодую ветвь, коей, не будь их, зеленеть бы в веках, крепнуть да плодоносить!
Снаружи, оторвав княжича от мрачных раздумий, раздался глухой перестук копыт. Звякнуло стремя, и шёпотом, чтоб не разбудить хозяина, закричал на подъехавшего всадника верный слуга:
– Куда, куда прёшь, окаянный! Князь почивать изволит. Поворачивай, откуда явился! Говорят тебе, не велено!
– Полно тебе, Иван, – громко сказал Ярослав. – Не сплю я. Впусти!
Откинув полог, в шатёр вошёл ертоульный Герасим – широкоплечий, высокий, чернобородый, немного похожий на цыгана мужик. Был он беглый откуда-то с Волги – из-под Нижнего, что ли, – и последние десять лет служил в порубежной страже на юге, под началом князя Воротынского. Лет пять назад крымчаки увели у него жену, и Герасим ненавидел их лютой ненавистью. Порубил он их после того без счёта и всё никак не мог успокоиться, насытиться вражьей кровью. Вот и ныне, невзирая ни на что, был он едва ли не единственным во всём войске человеком, коего предстоящая кровавая сеча не печалила и не пугала, а только радовала. В то, что Девлет-Гирей возьмёт Москву, он не верил ни минуты, смерти не боялся, славы не искал, а просто радовался случаю срубить на всём скаку ещё сколько-то лихих татарских наездников.








