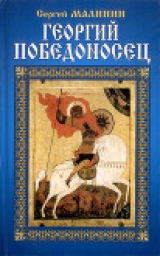
Текст книги "Георгий Победоносец"
Автор книги: Виктория Василишина
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
А ещё через три дня взятая из деревни молодуха оторвала подол своего сарафана, соорудила из него петлю и повесилась на балке в чулане, где её обыкновенно запирали после того, как молодой барин, вдоволь натешившись, засыпал беспробудным пьяным сном.
* * *
Степан шёл по большой рыночной площади у стен Кремля, которая в те времена называлась Пожаром, потому что образовалась после большого пожара, когда выгорело чуть не пол-Москвы, и только много позже стала именоваться Красной. Он шагал, радуясь хорошей погоде и случившемуся короткому роздыху – у артельщиков подобрались припасы, и старшина артели дядька Макар отправил на рынок Степана, потому как для искусного резчика дела покуда не было, а с остальной работой могли справиться другие. Никуда не торопясь, Степан приглядывался к товарам, приценивался, перешучивался с бойкими да языкатыми торговками, отмахивался от особенно липучих, что хватали за рукава и расхваливали товар, норовя втридорога всучить ненужное деревенскому лаптю.
Рынок шумел, радовал глаз пёстрыми красками, курился дымами жаровен, на коих аппетитно скворчало поджариваемое мясо; временами было слышно, как покрикивают, расчищая себе дорогу, стрельцы или бьёт в привязанный к седлу набат пробирающийся через густую толпу к Кремлю верховой боярин. Лошади у коновязей махали хвостами, отгоняя назойливых мух, и аккуратно выбирали бархатными губами сено из телег. Торговки бранились пронзительными, визгливыми голосами, понося срамными словами прижимистых покупателей и воришек, норовивших стянуть с прилавка бублик. Брань слышалась отовсюду, не оскорбляя ничьего слуха, ибо в те времена побраниться, а то и подраться люди могли и в церкви, не говоря уж о рынке либо кабаке. Срамное слово – что соль, без него даже самая распрекрасная жизнь пресной покажется. Было, когда впервой на Ливонию пошли, государь своим указом настрого запретил и браниться, и вино пить, и «телеса», сиречь мясо, есть, объявив по всей Руси «как бы Великий пост». И таково-то показалось скучно! Однако ж, мудрость царская себя и тут оказала: Господь праведников любит, и рыцарям ливонским тогда от православного воинства крепко досталось.
Ныне же, не имея прямого, из-под палки, государева понуждения к праведному житию, народ грешил кто во что горазд. В толпе кривлялись и прыгали, являя горожанам свои «бесовские кудесы», скоморохи, медвежатники водили косолапых, и те, вставая на дыбы и мотая косматыми башками, пугали и потешали народ. И над всей этой кутерьмой и гамом, над пёстрой мешаниной красок и запахов, над суетной людской толчеёй высились белокаменные стены Кремля и блистающие сусальным золотом купола соборов.
Степан пробирался через густую толпу, бережно придерживая у пояса худой кошель: худой не худой, а оглянуться не успеешь, как срежут. Лихих людей на Москве немало, и по первости, пока не обвык, Степан от них зело натерпелся. Обидно, слышь-ка, когда неделю спину на работе гнёшь, надрываешься, а какой-то ловкач после твои денежки в кабаке пропивает!
Из толпы его вдруг окликнули, и, удивлённо оглянувшись (знакомых у него в Москве, кроме мужиков из артели, не было, не успел обзавестись за работой), Степан заметил машущего ему рукой Афоню, по прозванию Кудря, односельчанина, что жил через три дома от него. Раздвигая плечом толпу и беззлобно отругиваясь от тех, кто был недоволен полученными толчками, Степан поспешил ему навстречу. В родных местах он теперь бывал редко: завладев имением Зиминых, боярин Долгопятый положил артельщикам такой оброк, что хоть ты круглые сутки топор из рук не выпускай. Вот и приходилось мужикам месяцами пропадать на Москве. Степану это было отчасти на руку. Узнал Иван Долгопятый своего давнего обидчика или не узнал, было непонятно, но попытку помешать ему выстрелить в молодого Зимина заметил и наверняка крепко запомнил. Посему попадаться ему на глаза Степан старался как можно реже: не то чтобы так уж прямо и боялся, но и на рожон лезть не хотелось. Да и не мог он, положа руку на сердце, спокойно на эту румяную рожу смотреть, по коей, будь его воля, с превеликим удовольствием хватил бы кулаком, а то и топорищем.
Худо было, что жену видел редко, но тут уж ничего не попишешь. Зато вдали от родной деревни, в московской суете да сутолоке, в тяжкой и усердной, до седьмого пота, работе, вспоминать давнюю страшную историю было некогда. И без того на душе тяжким камнем лежала и гнела двойная вина перед Зимиными: перед отцом за глупую, произнесённую вгорячах молитву, чтоб расстроилась продажа деревни Долгопятым, а перед сыном – за то дело возле Старостиных ворот, когда хотел у Долгопятого Ваньки пищаль вырвать, да не вырвал, а только беды натворил. И, если первая вина то ли была на самом деле, то ли не было её вовсе (Господь-то, поди, не всякой молитве внемлет), то Никиту Степан убил так же верно, как если бы сделал это своею собственной рукой. Ведь, кабы он боярского сынка тогда не напугал, если б не дрогнула у ирода толстомясого рука, он бы почти наверняка промазал! Что и как дальше было б, одному Богу ведомо, и гадать о том не след.
Расцеловавшись с земляком, Степан поинтересовался, каковы дела в деревне. Кудря, который, похоже, только и ждал этого вопроса, распираемый изнутри новостями, с готовностью выпалил:
– Неужто не слыхал? Боярина четвёртого дни схоронили!
– Да ну! – не поверил Степан.
– Да вот те крест!
– Это которого же? – спросил Степан, про себя пожалев, что схоронили только одного, а не двух разом, чтоб после с другим не вожжаться.
– Старого, Феофана, стало быть, Иоанновича, – вздохнул Кудря и, сдёрнув шапку, с напускной набожностью перекрестился на купола Василия Блаженного.
– Ага. – Степан был слегка разочарован. – Что ж он; до смерти опился иль кондрашка его хватила?
– Господь с тобой! Убили его!
– Как убили? Кто?
Заполучив благодарного слушателя, который ничего не знал о последних деревенских событиях, а потому заведомо не стал бы мешать рассказчику, встревая со своими поправками и уточнениями, Кудря приосанился, поправил на голове худую шапку, шмыгнул носом и, вынув из бороды застрявшую соломинку, заговорил. По его словам выходило, что по пути в Свято-Тихонову обитель, на лесной дороге, на боярский возок напали лихие люди числом едва ли менее сотни и учинили форменное побоище, истребив боярскую стражу и проткнув самого Феофана Иоанновича калёной стрелой, а после ещё угостив по голове саблей. Молодого боярина сберёг телохранитель, который в одиночку побил добрую половину ватаги, а оставшихся обратил в бегство.
При последнем известии Степан поморщился: жив, стало быть, ирод, и прихвостень его пернатый тоже уцелел. Вот бы кого тем лиходеям лесным на тот свет отправить! Да, видно, верна пословица: ворон ворону глаз не выклюет.
– Гляди ты, что деется, – нарочно, чтоб польстить рассказчику, изумился Степан. – Ай-яй-яй… Так вам ныне, стало быть, без боярина облегчение в жизни вышло?
– Как бы не так, – хмыкнул в жидкую бородёнку Кудря. – Какое там облегчение! Думай, что говоришь, человече! Ныне молодой боярин без отцовского глазу остался, волю себе дал. Ох и лют! А тут ещё оказия вышла: повелел ему царь-батюшка в своей боярской вотчине самому сыск учинить и тех лихих людей в лесу выловить и на государев суд привесть. Вот он ныне, как шальной, по всей округе со стражей скачет, да всё больше не по лесу, а по деревням да по полям – ну, аккурат по посевам, ровно те лихие люди станут, как перепёлки, в овсе хорониться. Убытку от него боле, чем от татарина… А то заявится в деревню, весь народ в кучу сгонит, привяжет которого к столбу аль на кобылу положит и велит напоказ плетьми сечь. Сказывайте, кричит, псы, где те лиходеи, отца моего погубители, скрываются и кто из вас, лукавых рабов, им помогает, хлебом-солью потчует? Ей-богу, знали б – сказали непременно. Под плетьми что хошь сказать можно… Сечёт-то знаешь кто? Энтот… в перьях. Вот ведь нехристь! До того рука тяжела, будто и не человек вовсе, а медведище матёрый!
– Ого, – сказал Степан. – Да, у этого запоёшь.
– Что ты! – с готовностью подхватил Кудря. – Соловушкой зальёшься!
Степан задумчиво покивал головой. Число лесных разбойников, что напали на боярский возок, Кудря, без сомнения, сильно преувеличил, зато насчёт порки ни словечком не приврал. О том, как управляется с плетью ряженный не то петухом, не то цаплей боярский шут, Стёпка Лаптев знал не понаслышке. Прославленный своим злопамятством боярин, конечно же, не забыл ему попытки напасть на сына, и, как только земля Зиминых царским повелением присоединилась к его вотчине, перво-наперво распорядился высечь дерзкого холопа. Для Степана то была первая в жизни порка (не считая, конечно, отцовских вожжей, кои неизменно следовали за размалёванной печкой), и запомнилась она ему крепко. И стыдно было перед людьми, и страшным казалось невиданное пернатое чудище с кнутом, а уж как дошло до самого дела, так Степан сразу же, с первого удара, понял: ежели это переживёт, боле его в жизни ничем не напугаешь.
И ничего, пережил, хотя, между прочим, мог бы и сгинуть через своё упрямство. Позориться не хотел и потому ни разочку не вскрикнул, покряхтывал только. Пернатый кат, видать, к такому не привык и по всему твёрдо себе положил любой ценой сломить холопье упорство. Так они и тягались – один хлещет, другой терпит. Ясно, тяжба у них неравная выходила: тому, который с кнутом, как ни крути легче. У Стёпки уж и в глазах темнеть начало, да тут, слава богу, плети, боярином отмеренные, все вышли, и стражники палача оттащили и кнут у него отняли. Насилу угомонили – всё рвался, зверюга, дело до конца довести. А Степан после долго ни ходить, ни сидеть не мог, так целую неделю на брюхе и провалялся. Бабке Агафье, травнице, спасибо – выходила, залечила кровавые рубцы примочками из лесных трав, уняла лихорадку настоями. Не то и помереть мог, и очень даже запросто.
– Поглядеть бы хоть одним глазком, что у этого ирода под личиной, – задумчиво проговорил Степан, глядя, как над зубцами кремлёвской стены чёрными точками вьются потревоженные колокольным звоном галки.
– Долгопятовская дворня шепчется, будто у него там и вовсе ничего нет, – шмыгнув носом и утёршись рукавом, заговорщицким тоном сообщил Кудря. – Будто бы костяк один. А не то волчья морда… Брешут, конечно, – добавил он с рассудительностью, которая в его устах казалась удивительной, ибо сам он был первый на обе зиминские деревни враль и пустозвон.
– Не иначе, – согласился Степан.
– Вот и я то ж говорю, – оживился Кудря. – Верней всего, он лицо своё прячет, чтоб его после на миру не узнали. А то соберутся мужики, которых порол, гурьбой, подстерегут, изловят, разложат на земле, спину заголят, да и возвернут, кто сколько задолжал. А это, поди, немало выйдет… – В голосе Кудри, который тоже, по всему видать, уж успел отведать сыромятного гостинца, появилась внимательность. – А то просто на вилы насадят, чтоб долго с ним, антихристом, не вожжаться…
– Говори, да не заговаривайся, – попенял земляку Степан. – А то ровно душегуб какой…
– И верно, – спохватился Кудря. – Господи, прости меня, грешного…
Сдёрнув шапку, он опять перекрестился на собор. Надевая шапку обратно на голову, он делал это так долго и обстоятельно, что даже Степан, думавший в это время о своём, заметил возникшую в разговоре заминку. Кудря как будто чего-то ждал или боялся, а может быть, ждал и боялся разом.
– Ну а чего на Москве-то деется? – с деланым оживлением поинтересовался Кудря, тоже, как видно, почуяв, что молчание становится неловким.
– Да чего тут деется, – махнул рукой Степан. – Вишь, чего кругом-то? То же, что и всегда. Да мне и глядеть на ту Москву недосуг. С утра до ночи топорами, как дятлы, стучим. Спать ляжешь, глаза закроешь, а всё брёвна да доски мерещатся…
– А у меня ввечеру всё больше пашня перед глазами маячит, – поделился Кудря. – Или покос. Косишь-косишь, а он всё не кончается и не кончается…
Сказав про покос, он опять странно замялся, будто смекнул, что сболтнул лишнее. Степан, которому как раз в этот миг показалось, что какой-то малец чересчур настырно вертится около него, подбираясь поближе к кошелю, не заметил новой заминки. Убедившись, что артельные деньги целы и в безопасности, он снова повернулся к Кудре, который встретил его широкой улыбкой, но при этом зачем-то отвёл глаза.
– Ольга моя каково поживает? – спросил Степан то, о чём хотел узнать в первую очередь, да не успел, сбитый с толку сообщением о смерти боярина. – Здорова ль? Бабы её не обижают? А то знаю я их, сорок: видя, что заступиться некому, до смерти заклевать могут.
– Да чего её клевать? – пожал плечами Кудря. – Молодуха справная, со всеми приветлива, вреда никому не чинит. Она к людям с добром, и люди к ней так же, даже и бабы. Ништо, справляется. Только, ты того, Степан… Я уж и не ведаю, как сказать-то тебе…
– Что? – взволновался Степан. – Аль захворала? Да не тяни ты за душу, сказывай, что стряслось!
– Да кабы знать, что стряслось… Никто того не ведает, оттого и тебя раньше срока тревожить не хотели…
– Ну?!
– А ты не понукай, – стремясь хоть на миг оттянуть неизбежное, огрызнулся Кудря, – чай, не запряг ишшо. Нету жены твоей! Ушла, никому не сказав, а куда – неведомо. Неделю уж нету или около того. Скотину вашу миром по дворам разобрали, не пропадать же скотине…
– Да какая скотина! – разозлился Степан. – Что ты мне про скотину… С Ольгой что?
Кудря сокрушённо развёл руками.
– Ну, чего заладил: что да что? Кабы знал, давно сказал бы! Последний раз её люди видели, как с покоса домой шла. А наутро Алёшка, вдовий сын, как раз его черёд коров на выгон вести случился, подошёл к воротам, а тёлки вашей нет. Слышно, мычит в хлеву, а Ольга её, стало быть, не выводит. Ну, Алёшка к старосте, староста на твой двор, а там пусто. Скотина не кормлена, в избе никого. Хлеб в печке тёплый ещё – стало быть, с вечера испекла. А самой нету! Может, затемно ещё в лес по ягоды пошла да и заблудилась…
– Ночью? – с горечью переспросил Степан. – По ягоды?
– Ну, иль в какую дальнюю деревню к родне…
– Да нет у неё никакой родни!
– Ну, может, совсем дальняя, про какую и ты не ведаешь. Седьмая вода на киселе…
Степан, не сдержавшись, плюнул.
– А кабы и так, – сказал он. – Что ж, в гости к той родне в потёмках надобно отправляться, скотину в хлеву без присмотра бросив? Вы что, всем миром ума лишились? Чем вы думали-то, люди добрые?
– А чем ни думай, всё едино, когда человека нет, его обратно не придумаешь, – рассудительно возразил Кудря. – Да ты на мир-то не серчай. Нешто мы не искали? Искали! Не сыскали только. И куда она, в самом деле, подеваться могла? Ждали, что сама придёт, да не пришла. А к тебе не прибегала? Нет? Вот беда-то! А у меня, грешным делом, была такая думка: соскучилась, мол, Ольга за мужиком, вот и побежала к нему на свиданку… Не прибегала, стало быть? Господи, твоя воля! Что ж она тогда, в болоте, что ль, потопла аль те лиходеи, что боярина погубили, её к себе заграбастали?
– Типун тебе на язык, – сквозь зубы проговорил Степан. – И что ты, Кудря, за человек такой! У меня жена пропала, а ты мне битый час боярином своим зубы заговариваешь!
– Часок лишний в спокойствии прожить – тоже не худо, – заметил Кудря. – Да оно, может, и обойдётся ещё. Мало ль что с человеком приключиться может! Да всё что угодно!
– То-то и оно, – по давней привычке кусая нижнюю губу, хмуро подтвердил Степан. – Ты домой-то когда?
– Мнится, не раньше завтрашнего дня, – подумав, ответил Кудря. – Ежели подъехать хочешь, милости просим. А только пешком скорей добежишь.
– Вот и я так же думаю, – сказал Степан. – Ну, не поминай лихом.
– Храни тебя Господь, – сказал Кудря в спину убегающему плотнику и тяжко вздохнул. Степана-то, подумал он, Господь, может, и сохранит, а вот жену его Ольгу Всевышний, похоже, не сберёг.
Глава 13
В лесах окрест Свято-Тихоновой пустыни лиходеев не встречали вот уже года четыре – с тех пор примерно, как Безносый Аким порешил налетевших на боярина пятерых разбойников. Видимо, весть о том случае разошлась широко и далеко – слухом, как известно, земля полнится, – и охочие при оказии поиграть кистеньком ватажники стали обходить долгопятовский лес стороной. В потаённых сырых каменных подвалах глубоко под Москвой, о которых не знали ни царёвы опричники, ни стрелецкие старшины, ни сам царь, ни даже Господь Бог всевидящий, где бражничали самые отпетые душегубы и лиходеи, о телохранителе боярина Долгопятого рассказывали страшные легенды, в коих он представлялся существом непобедимым и сверхъестественным – не иначе как пернатым демоном, которого боярин выторговал у самого сатаны в обмен на свою бессмертную душу. О том же шепталась в людской боярская челядь, о том же судачили, отдыхая, холопы на покосе иль на лесной вырубке. Акиму эти байки были ведомы и потешали его безмерно, хотя большинство было придумано им самим – нарочно, для страху. Нет оружия более смертоносного и уз более крепких, чем страх. И чем больший страх ты внушаешь, тем меньше у тебя шансов однажды утром проснуться с перерезанной глоткой.
Покойный боярин Феофан Иоаннович понимал это очень хорошо и не только не мешал Акиму напускать туману вокруг своей особы, но и всячески ему в том содействовал. Прямо он, конечно, ничего не говорил – негоже боярину холопам байки баять, от коих глупости самого смех разбирает, – однако не упускал случая то там, то сям обронить будто бы невзначай неосторожное словечко, обозвать Акима сатанинским отродьем, а то и пригрозить, что нажалуется на него рогатому.
В первый год после возвращения Аким всякий раз, покидая отведённый ему чуланчик, курил там серу, чтоб даже самый сопливый дворовый мальчишка, сунув в дверь любопытный нос, без труда учуял и опознал сатанинский серный смрад. Так Безносый убивал одним, выстрелом сразу двух зайцев: во-первых, подкреплял свою репутацию демона, а во-вторых, отваживал и вскорости действительно полностью отвадил любопытную дворню от чулана, перестав с тех пор опасаться за сохранность своих секретов. Отныне никто из домашней челяди не сунулся бы в Акимов чулан ни за какие коврижки; даже когда боярин посылал кого-нибудь за своим шутом, посланный обыкновенно говорил с «пернатым демоном» через закрытую дверь.
Спору нет, боярин был умён и хорошо понимал, что такое страх, для чего он надобен и как им пользоваться. Однако и его не минула горькая чаша, и порой Аким, вспоминая покойника, задавался вопросом: отчего так вышло? Высоколобый умник из более поздних времён, верно, назвал бы этот вопрос академическим; не зная таких слов, безносый душегуб полагал свой интерес к причинам, по которым Феофан Иоаннович дал сыну сжить себя со свету, пустым и праздным. Однако теряться в догадках от этого не переставал и в конце концов пришёл к такому выводу: видно, боярин пережил сам себя, одряхлел душою, и броня внушаемого им страха незаметно для него истончилась, потрескалась. Заметив это, Иван, который, видимо, никогда его по-настоящему не боялся, просто использовал удобный случай и сбросил надоевшее ярмо отцовского самодурства, пока оно не переломило ему шею.
Аким ему в этом помог – просто выхода иного не было. Боярин старел на глазах, и видно было, что протянет он недолго – по крайности, меньше, чем хотелось бы Акиму, привыкшему укрываться за хозяином как за каменной стеной. Ныне у него объявился новый хозяин, угождать которому оказалось труднее, чем старому, потому что думать теперь приходилось за двоих, – умом молодой боярин, увы, не блистал, и хитрости в нём было ровно столько, сколько её в бешеном быке, что сорвался с привязи, выскочил за ворота и с рёвом носится взад-вперёд по деревне, норовя забодать всех на свете.
Так вот, стало быть, разбойники-лиходеи в лесах окрест Свято-Тихоновой обители перевелись уже давненько. Но, коль скоро сам государь повелел учинить сыск, таковой был учинён по всем правилам и со всем мыслимым усердием. Без усердия не обойтись, ловя по лесам да оврагам отпетых злодеев; когда же ловишь злодея, коего никогда на свете не было, а тем паче когда злодей этот – ты сам, усердствовать надобно вдвойне. Это понимал даже молодой боярин Иван Феофанович и усердствовал так, что пыль столбом стояла до самого неба – пожалуй, что и царю из своих кремлёвских палат в окошко тот столб видно было.
Какую из многочисленных долгопятовских деревень ни возьми, дня не проходило, чтоб не пронеслась через неё в облаках пыли, в тяжком лошадином топоте и лязге оружия обряжённая в справные синие кафтаны, а то и в кольчуги боярская стража. Боярин Иван Феофанович в сопровождении десятка всадников и неразлучного Акима тоже мотался по вотчине как угорелый, останавливаясь то тут, то там и с пристрастием пытая холопов, где они, псы смердящие, скрывают государевых преступников. Плетью в эти дни Аким намахивался так, что к вечеру начинало ныть плечо, а рука наливалась свинцовой тяжестью, повисала безжизненно и, мнилось, вот-вот готова была вовсе оторваться.
Мужики, ясно, воров не выдавали, поелику выдавать было некого. Полосуя мужичьи спины сыромятным кнутом, Аким, хоть и был лют, соблюдал в своём усердии меру. Дело, ими затеянное, было тонкое и требовало осмотрительности. Смердов без толку губить, уцелевших гневя, не следовало, да и о своём здоровье не мешало подумать, поберечь силушку, коей с молодых-то лет пускай ненамного, а все ж поубавилось. Конечно, было б, что выбивать, Аким выбил бы непременно, а так – ну, чего попусту потеть?
По деревням он разъезжал, как и прежде, в пернатом своём облачении и в золочёной клювастой личине. Во-первых, привык за столько-то лет и иной одёжи для себя уже не желал. Во-вторых, опять же, для страху – смерды, те перья завидев, трястись начинали как осиновый лист. И потом, по кустам да по ельнику колючему шастать, воров выискивая, Акиму в его «демонском» одеянии не приходилось: тем стража занималась, а он всё больше кнутом поигрывал да боярина оберегал. А стражники-то, бывало, заедут подальше в лес, набьют дорогой какой-никакой дичи, а то на реке холопский садок с рыбой наизнанку вывернут, отыщут полянку, спешатся, коней стреножат и ну бражничать! С таким-то сыском Аким, когда сам на большой дороге разбойничал, и горя б не ведал, а при нужде вырезал бы то хмельное войско до последнего человека, яко цыплят желторотых. Резать их, однако ж, было некому, вот они и пировали вдали от хозяйского глаза. Холопы, особенно бабы да девки, в ту пору в лес ходить совсем перестали: того и гляди, набредёшь ненароком или на разбойников, или на боярскую стражу, и неизвестно ещё, которое из тех двух зол злее окажется.
Зато молодой хозяин, Иван Феофанов сын, искал так, что любо было глядеть. Будто и впрямь верил, что в чаще лесной разбойники-душегубы, отца его родного погубители и государевы преступники, хоронятся. Будто и вправду забыл, пёсий сын, через кого, чьим радением отец его ныне косточки свои в сырой земле парит!
А только и боярина понять было можно. Хотелось ему перед госуда́рем отличиться, поближе к трону придвинуться. А чтоб того достичь, воров, коих никогда на белом свете не было, надлежало не токмо искать, но и найти. Искал, да не сыскал – такой ответ государю не надобен, через такой ответ не только вотчины – головы лишиться можно.
Об этом они с боярином раз-другой по душам поговорили. Иван-то Феофанович, когда по округе как угорелый не метался, а дома на лавке сидел, имея достаточно времени обо всём хорошо поразмыслить, понимал, что без Акимова совета далеко не уедет. Задумка насчёт того, как ему воров, коих в помине нет, сыскать и государю представить, у него имелась, и притом не совсем плохая. Мыслилось ему, что воров тех надобно взять; далеко за ними не ходя, здесь же, в своей вотчине, – да вот хоть бы и из дворовых мужиков кого. Нешто царю не всё едино, кого казнить? Нешто он боярину не поверит, а поверит смердам, кои перед смертью станут кричать, будто ни в чём не повинны?
Аким эту его задумку малость подправил, пока не довела она боярина до беды. Сказал: не гневайся, мол, барин, а только из твоей вотчины мужиков брать нельзя, да и из соседской, коль уж на то пошло, тоже. Кто-нибудь да подглядит, кто-нибудь да хватится – у смердов, вишь, тоже семьи имеются, не говоря уж о хозяевах, которые своему имуществу, поди, счёт ведут, – и, если сия великая кривда ненароком наружу вылезет, не сносить тебе, боярин, головы. Ты, сказал, подумай лучше: мало ли на Москве пришлого, бродячего, ничейного люду? Приглядеть пяток, которые покосматей да с лица пострашнее, прирезать втихую и, стрелами утыкав да саблями изрубив, на царский двор доставить. И сказать: не взыщи, мол, государь-батюшка, а только воры те живьём даться не пожелали и таково жестоко отбивались, что пришлось их там же, на месте, из луков да пищалей порешить.
Боярин Иван его слова обдумал и зело возрадовался. «Тебе б, – сказал, – Безносый, по уму твоему в боярской думе сидеть да государю советовать, как державой править. Жалко, – сказал, – что клеймёных смердов туда не пущают». И посулил, в великой милости своей, по завершении дела отсыпать ему, не скупясь, полсотни серебряных ефимков, а ещё справить новую одёжку из перьев – уж не белую, коя зело обтрепалась и поизносилась, а чёрную. Так оно, мол, и страшнее будет, и не столь марко. Тьфу! Одёжа – то ещё куда ни шло, хотя Акиму и старая, обтрёпанная да кровью холопьей замаранная, вполне годилась. А ефимки-то ему на что? Ему, поди, и без ефимков не худо живётся. На что серебро, когда и без него ни в чём отказа не ведаешь?
А пока суд да дело, пожаловал ему боярин сапоги – с себя скинул и Акиму отдал. Сапоги, спору нет, богатые, да не совсем по ноге – великоваты. Однако ж дарёному коню в зубы не смотрят – в ноги поклонился и «спаси Бог» сказал.
Сошлись на том, что воров искать будут ещё неделю, а после, те игрища бросив, настоящим делом займутся. Так и поступили. Сядут с утра пораньше в возок, объедут сколько-то там деревень, с десяток смердов плетьми попотчуют и катят, бывало, прямиком в монастырь. Настоятель его, иеромонах Апраксин, с покойным боярином Феофаном хорошо дружил. А поелику дружба та была на боярском злате густо замешана, то и с боярином Иваном сыном Феофановым игумен враз подружился. Сядут, стало быть, за стол в игуменовых покоях и поминают душу убиенного раба Божьего Феофана. И так усердно поминали, что, случалось, их после тех поминок уж и ноги не держали. Вот оно как бывает, когда, себя не жалея, в горячую молитву всю душу вкладываешь! А что молились языческому божеству Бахусу, невелика беда: боярин-то покойный при жизни тоже ему поклонялся и чарки хмельной мимо рта сроду не проносил.
Акима в его «демонском» облачении в монастырь, знамо дело, не пускали. Как так – демон и вдруг в святую обитель? Негоже то! Да он туда и не шибко рвался. Видать, слишком долго беса тешил, и теперь вблизи святых мест становилось ему не по себе – ну, ровно без спросу в боярскую опочивальню забрёл и ждёшь, что тебя вот-вот за шиворот ухватят. Так он, бывало, устроится в возке поудобнее, кус мяса достанет, баклагу с вином, хлеба, луку и всего прочего, что в таких случаях полагается, и сидит себе, горя не ведая, сколь надобно – жуёт, прихлёбывает, чмокает, хрустит да по сторонам поглядывает. Монахи, мимо идя, на него, как собака на палку, косятся, а он им из-под личины язык кажет – дразнится. «Тьфу, – говорят, – нечистая сила!»
После, под вечер, вынесут, бывало, двое дюжих иноков боярина под белы рученьки из игуменовых палат, в возок погрузят, от Акима крестным знамением отмахнутся и восвояси торопятся. Разберёт Безносый вожжи, коренника по крупу легонечко хлестнёт, и покатят они домой – ещё один день сыска долой, и леший с ним.
Вроде гладко всё шло, а только скоро начались у них непонятные задорины, колкие какие-то занозы. Перво-наперво в Лесной, бывшей зиминской деревеньке, пожар приключился. Боярин Иван, про то сведав, только рукой махнул – ну, пожар, и что с того? Лето на дворе, самое время гореть-то! До зимы далеко, холопы заново отстроятся. А не поспеют, так им же хуже – пущай тогда под ракитовым кустом в сугробе зимуют.
Зато Аким насторожился и дотошно, с пристрастием, расспросил деревенского старосту, который ту весть принёс: почему пожар, сколь домов сгорело и чьих. Внимательно выслушав сбивчивый Старостин доклад, Безносый искоса, со значением поглядел на хозяина. Иван Феофанович, впрочем, взгляда его не заметил – видать, личина золочёная помешала. А может, и не личина, а иное что. Не таков человек был Иван Феофанов сын Долгопятый, чтоб холопам своим в глаза заглядывать, – вот тебе и причина.
Дальше – больше. В середу, что ли, или в четверг пропал один из боярских стражников. Ну, как в воду канул! И главное, заметили не сразу. Вернулись это они из леса, по обычаю, во хмелю, губы сальные лоснятся, глаза осоловелые в разные стороны глядят, – вернулись, стало быть, пересчитались, а одного-то и недостаёт! Не вдруг и сообразили, которого нету, как его звать-величать и каков он был с лица. Потом вспомнили, а что толку? Всё равно нет человека, хоть ты весь род его вспомни до двенадцатого колена.
Стали искать. Сперва, конечно, во дворе – вдруг, пересчёта не дождавшись, где-нибудь пук сена отыскал и спать завалился? После на дороге, коей из «сыска» возвращались, – вдруг под кустом придорожным почивает?
Не нашли, конечно. Тем временем стемнело, и поиски пришлось отложить до утра – так-то, в потёмках на ощупь шаря, и оставшихся растерять немудрено. Была у Акима, и не у него одного, мысль: ништо, к утру, как проспится, сам приползёт. Не миновать ему тогда плетей!
Однако ж не приполз.
Тогда стали искать всерьёз. Дело-то нешуточное! Ветра в поле ловить – это одно, а когда человек без следа пропал, которого ты как облупленного знаешь, с которым вечор ещё пенной чаркой чокался, – то совсем иной разговор. Искали, стало быть, по-настоящему и, как в таких случаях водится, вскорости нашли. Саженях в тридцати от поляны, на которой давеча бражничали, в волчьей яме, – ступил неосторожно, провалился, пал грудью на вбитый в дно заострённый кол, и дух из него вон.
Казалось бы, самое что ни на есть обыкновенное дело: отошёл человек по малой нужде в сторонку, во хмелю под ноги не глядел и жестоко за то поплатился.
А только маячила тут одна мудрёная закавыка. Ну отошёл, ну упал – ладно. А вот, к примеру, сабля при нём была – она где? Кинжал был – нет кинжала. Лук со стрелами – его звери лесные, что ли, уволокли, дабы нору свою от охотников оборонять?
Вот тут-то Аким и призадумался. Боярину ничего говорить не стал, тот бы всё едино не послушал, но с того дня, проезжая через Лесную, всякий раз косился на свежее пепелище, что от недавнего пожара осталось. И ещё настоял, чтоб отныне, выезжая из дома, надевал Иван Феофанович под кафтан крепкую кольчугу. Боярин, понятно, заартачился – дескать, и жарко ему, и тяжко, и на кой ляд, спрашивается, это ему сдалось – на войне, что ль? Аким, однако ж, не уступал, говоря, что мёртвому, поди, не жарко и не холодно, а только на тот свет торопиться незачем – мало ль кто да с какими гостинцами тебя на той стороне поджидает?








