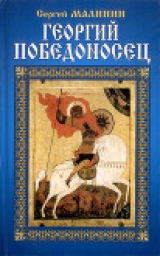
Текст книги "Георгий Победоносец"
Автор книги: Виктория Василишина
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Случалось, когда чёрная ненависть к мучителям на время отступала, как отступает от морского берега в отлив солёная вода, княжна начинала понимать, что лишается рассудка. Но это уже не пугало – наоборот, радовало. Безумцам всё прощается, всё им дозволительно, и не ведают они ни убожества своего, ни душевной боли – живут, яко Божьи птахи, всякой малости радуясь, ею же довольствуясь и ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне не помышляя. Ужель то не любо?
В опочивальне мужа, как и в спальной горнице старого боярина, да и вообще по всей чистой половине терема, оружия было в достатке. Перед божницей теплилась лампада; иного света в опочивальне не было, и в темноте виднелись только иконы да развешанные по стенам острые клинки, отражавшие слабые желтоватые блики Божьего огня. Княжна старалась смотреть на образ святого Георгия, но всё равно видела сбоку от себя это манящее мерцание любовно отточенного, отполированного, разящего железа. И, моля Господа избавить её от лукавого, невольно примеривалась, прикидывала, что взять, когда пробьёт её час. Вон тот бердыш? Тяжёл, неудобен… Шестопёр, булаву, кистень? Всё не то, всё не с руки – того и гляди, себе же голову и расшибёшь… Саблю? Хороша, спору нет, а только с ней управляться – на то, поди, умение надобно, да и сила не женская. А вон тот кинжал дамасский, дымчатый, с сероватыми разводами по голубой искристой стали, пожалуй, в самый раз будет – и красив, и невелик, и сразу видно, что удобен, в самый раз по руке придётся…
Это напоминало странную и небезопасную забаву, вроде стояния на краю крутого отвесного обрыва, когда бездна у твоих ног так и манит, вкрадчивым шепотком напевая прямо в уши свою полную погибельного соблазна песнь. Знаешь, что прыгать нельзя ни в коем разе, а прыгнуть так и подмывает – раскинуть руки-крылья и променять всю свою жизнь на несколько мгновений стремительного и свободного птичьего полёта…
Заворожённая этой песней сирен, княжна поднялась с колен и, повернувшись спиной к иконам, бледной тенью приблизилась к стене, на которой было развешано оружие – не самое старое и грозное из того, что хранилось в доме, зато самое богатое, вычурно изукрашенное. Иные клинки стоили едва ли не больше, чем наследственное имение княжны, на которое вздумали наложить свои жадные лапы муж со свёкром, и это было дивно и дико: на что мужчинам так богато украшать вещи, предназначенные единственно для убийства? Неужто убийство для них и впрямь не грех, а деяние, коим следует перед всем миром похваляться?
Княжне подумалось, что скоро ей представится удобный случай это проверить. Тонкая дрожащая рука, протянувшись, легко коснулась перевитой золотой проволокой рукояти кинжала, пугливо отдернулась, ощутив его холодную твердость, но тут же протянулась вновь. До сего дня княжна Марья ни разу не касалась оружия, и это ощущение было для неё новым… и не сказать, чтоб неприятным.
Она и не заметила, как кинжал очутился у неё в руках. Чтобы лучше его разглядеть, княжна, забыв об осторожности, запалила от лампадки свечу и стала вертеть кинжал так и сяк, любуясь похожими на дымные извивы переливами дамасской стали. Пощупала пальцем остриё, ойкнула, уколовшись, и, по-детски сунув палец в рот, отсосала капельку крови. Крови вытекло совсем мало – всю её выпили эти ненасытные упыри, отец да сын Долгопятые.
В это время внизу громко стукнула дверь, и по лестнице забухали тяжёлые шаги, под тяжестью которых гнулись и скрипели толстые, тёсанные вручную дубовые плахи. Не отдавая себе отчёта в том, что делает, княжна сунула кинжал в просторный рукав, метнулась к выходу, но замерла, сообразив, что не успеет.
Не сводя глаз с двери, она попятилась, пока не ударилась ногой о край ложа. Спохватившись, дунула на свечу: авось в полумраке муж не разглядит, что на стене чего-то недостаёт.
Дверь распахнулась, и в неё, склонившись в низковатом для него проёме, протиснулся Иван – тучный, дебёлый, расхристанный, крепко пахнущий кислым винным перегаром. Заметив, что в горнице кто-то есть, пугливо шарахнулся обратно к двери, но тут же, узнав жену, приосанился.
– Гляди-ка, и звать не надо – сама пришла! – с издёвкой выговорил он заплетающимся языком. – Я ж тебе, дуре, сказывал: погоди, стерпится – слюбится, да и понравится ещё! Ну, скажи как на духу – понравилось? А? Га-га-га!
Смеясь и на ходу стаскивая с жирных плеч кафтан, он двинулся вперёд. Княжна хотела попятиться, но позади было ложе – ложе страдания и позора, а не любви. Поняв, что её час нежданно-негаданно пробил, княжна перекрестилась и распрямила плечи. Ладонь скользнула в рукав, обвив рукоять кинжала, а взгляд обратился к иконе святого Георгия, ища у него поддержки.
Но на сей раз, впервые, пожалуй, за долгие часы, проведённые наедине с иконой, княжна почему-то обратила внимание не на светлый лик святого воителя, а на сатанинский оскал повергаемого им, завитого в тугие кольца чешуйчатого змия. В этом злобном оскале вдруг почудилась бесовская лукавая ухмылка, и, узрев её, княжна в единый миг всё поняла. Святой Георгий вовсе не говорил с нею, наущая зарезать мужа, как свинью. То враг рода человеческого, воспользовавшись её горем и слабостью, нашёл лазейку, пробрался в её бедную голову и стал нашёптывать в уши соблазнительные вещи, ведущие к вечному и невозвратному погублению души…
Ухмылка змия, казалось, стала шире, как бы говоря: что с того, что ты меня раскусила? Поздно, княжна, никуда ты теперь не денешься, всё едино по-моему выйдет!
– Не бывать тому! – твёрдо вымолвила княжна, и спрятанный кинжал серебристой змейкой выскользнул из рукава.
– Че-го? – с угрозой протянул Иван, решивший, что жена дерзнула обратиться с такими словами к нему, своему повелителю. – Гляди, чего удумала, как заговорила! Я тебе муж, а ты мне жена и должна покорствовать. В своём доме я решать стану, чему бывать, а чему не бывать!
Тут он увидел в руке у жены блеск кинжала, и угроза вмиг исчезла из его голоса, сменившись испугом.
– Ты чего это, дурёха? – пробормотал он. – А ну, брось! Брось, говорю! Грех великий! На мужа руку поднять вздумала, жена лукавая?
– Не муж ты мне, – тихо, но с большою силой молвила княжна. – Мучитель ненавистный, аспид, окаянный изверг. Будь ты проклят! Будьте вы все прокляты до седьмого колена! Прости меня, Господи, за мои прегрешения, а мучителей моих во веки веков прокляни, как я их проклинаю!
С этими словами княжна Марья подняла кинжал, ухватив его обеими руками, и с размаху вонзила себе в грудь. Окровавленное тело рухнуло навзничь, мёртвые глаза, не мигая, уставились в потолок, отражая огонёк лампады.
Иван Долгопятый побледнел и затрясся, весь хмель с него как ветром сдуло. Напугало его, ведомо, не зрелище смерти (нельзя испугаться при виде того, как прекращает своё существование соломенное чучело либо старый, никому не нужный глиняный горшок), а предсмертное проклятье жены, в силу которого в те времена верили даже такие толстокожие изверги, как они с отцом. Попы, конечно, когда про такое слышали, плевались да шипели, ровно рассерженные коты. Говорили, будто силу имеет только возглашённая священником с амвона анафема, сиречь отлучение от церкви, всё же иное есть один бесовской соблазн, от коего православным надлежит охраняться животворящим крестом и горячей, от сердца, молитвою. Но на то они и попы, чтоб этак говорить. А вот Иван сам, своими глазами видел, как приходской священник из Лесной, деревеньки, что от Зиминых досталась, углядев впереди себя чёрную кошку, что дорогу ему перебежала, не токмо перекрестился, но и через левое плечо поплевать не забыл. Вот и верь после того его словам! А тут не кошка, а проклятье, да ещё и предсмертное!
Приведённый, чтоб держать совет, Безносый Аким его немного успокоил. «Меня, барин, столько народу перед смертью проклинало, что, ежели всех в одну кучу согнать, хорошая деревня наберётся, – сказал Аким. – А мне, вишь, хоть бы что! Плюнь ты, – сказал, – на то проклятие да разотри. Собака лает – ветер носит».
После стали решать, что делать с покойницей, что людям сказать про её смерть. Аким и тут рассудил здраво: что она руки на себя наложила – её грех, её перед Господом и перед мужем провинность. Начни таиться да прятаться – непременно сплетни поползут: мол, уморил молодой боярин жену, во хмелю насмерть зарезал. Может, конечно, и такое с рук сойти, а может и худым боком обернуться. Царь-то не устаёт повторять, что суд его для всех един – и для бояр, и для последнего смерда. А ну как вздумает напоказ, чтоб слова свои делом подкрепить, этак же и боярского сына Ивана Долгопятого судить? Поди докажи после, что ты не виноват и что кинжал не у тебя, а у покойницы в руках был!
Для порядку – всё ж таки хозяин в доме – разбудили старого боярина и спросили его совета. Феофан Иоаннович почмокал губами, почесал в бороде, водя по сторонам мутными спросонья глазами, и, подумавши, сказал, что поступить надобно так, как Аким придумал, чтоб сплетникам языкатым пищи для пересудов не давать. После чего пал боком на ложе и сызнова захрапел, ровно у него в доме не невестка руки на себя наложила, а мышь в ведре с помоями утопла.
Так и сделали. Ни тела, ни кинжала пальцем не касаясь, разбудили дворню, растолковали, что к чему, и велели боярышню обмывать и к погребению готовить, а заодно и в опочивальне, кровью залитой, порядок навести. Девки да бабы дворовые по обычаю затеяли выть да причитать, но выли тихо, вполголоса, чтоб, упаси боже, Феофана Иоанновича не разбудить. Проснётся – света белого невзвидишь, покойнице позавидуешь…
Похоронили урождённую княжну Милорадову уже на следующий день – зарыли без отпевания за церковной оградой, где самоубийц хоронят. Так они и лежали в рядок – боярышня и две дворовые девки, что через её муженька руки на себя наложили.
А забыли её скоро – скорее, чем могильный холмик с землёй сровнялся. Если Ивану, боярскому сыну, что-то про жену и вспоминалось, так не она сама, а брошенное ею перед смертью проклятье. И ещё досада брала, что жена, которую привык считать просто надоевшим предметом домашней утвари, наподобие лавки, посмела-таки его ослушаться, сделав не то, что ей муж повелел, а то, чего сама желала. И ведь не накажешь её! Мёртвой-то всё едино, кулаком ты её прибить грозишься, за косы оттаскать иль вожжами отхлестать. Беда, да и только.
Однако ж от той беды было у него верное лекарство, даже целых два: вино хмельное да холопьи кровавые слёзы. Вино в себя без меры лил, а кровь да слёзы на землю; так и жил, будто торопясь чужому горю нарадоваться, пока проклятье жены-самоубийцы его не настигло.
Глава 12
Месяца через два после того, в разгар июльской жары, расписной боярский возок мягко катился по пыльной лесной дороге, держа путь в сторону Свято-Тихоновой обители. Долгопятые, отец и сын, сидели друг против друга, глядя в разные стороны и дуясь, ровно между ними чёрная кошка пробежала. На козлах, правя запряжёнными цугом лошадьми, восседало пернатое чудище с длинным золочёным клювом и уже порядком обтрепавшимся от постоянной носки петушиным хвостом. Встречный ветерок играл обтрёпанными перьями, на золочёной личине вспыхивали, пробившись через густой полог сомкнувшихся над дорогой ветвей, солнечные лучики. По бокам возка скакали четверо верховых стражников в синих с золотою тесьмой кафтанах, красных шёлковых шароварах и синих же козловых сапогах. Сабли в такт конской поступи позвякивали о стремена, над головами колыхались хвостатые пики, острия которых то и дело вспыхивали на солнце яркими злыми искрами. Один из всадников держал за повод рослого и толстозадого рыжего битюга, что принадлежал молодому боярину. Любуясь своим конём, Иван Долгопятый нежно поглаживал кончиками пальцев блестящее дуло мушкета, который не смог оставить дома, даже отправляясь в святую Божью обитель.
Дорога была пёстрой от теней и солнечных пятен, по сторонам её царило буйство всевозможных оттенков зелёного цвета, в коем мелькали то медные стволы сосен, то испятнанные чёрным белые станы берёз, то растопыривший мёртвые руки ветвей остов поваленного давней бурей лесного великана. Конские копыта мягко ударяли в дорожную пыль, вокруг стоял несмолкающий птичий гомон. Где-то на весь лес куковала, щедро отсчитывая неведомо чьи года, невидимая кукушка.
– Сказывай, кукушка, сколь лет мне ещё на белом свете жить, небо коптить? – нежданно, как это часто случается со стариками, перейдя из дурного в доброе расположение духа, вопросил Феофан Иоаннович.
Подлая птица издала какой-то сдавленный звук, будто поперхнувшись, и вовсе замолчала.
– Экая дура! – с досадой молвил боярин. – Истинно говорят: птичьи мозги… Эй, ты, птах пернатый! – Тяжёлый боярский посох чувствительно ткнул пернатого возницу в спину меж лопаток. – Тогда ты кукуй, коль твоя родственница со мной, боярином, говорить не желает!
Не оборачиваясь и не бросая вожжей, «птах» принялся куковать, да так громко и дурашливо, что кукованье его больше напоминало кукареканье. Услыхав за спиной, в возке, довольный смех боярина, шут расстарался пуще прежнего, ещё подбавив в кукованье петушиных ноток:
– Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку-кукареку!!! Кудах-тах-тах! Ку-ку!
Посмеиваясь, боярин стал считать эти «ку-ку», не замечая, а может просто делая вид, что не замечает, как пренебрежительно кривит губы сын. Досчитав до ста, Феофан Иоаннович снова ткнул шута посохом между лопаток.
– Уймись ты, чудище неразумное! Люди столь долго не живут!
– Люди не живут, – не оборачиваясь, скрипучим голосом отвечал шут, – а ты, боярин, глядишь, и проживёшь.
Скакавший ближе всех стражник, повернув голову, бросил на шута полный опасливого недоумения взгляд. Кабы кто иной посмел обратиться к грозному боярину со столь дерзновенной речью, тут бы ему, языкатому, и конец. А от этого боярин стерпел, да ещё и посмеивается! Ну, да, сказывают, от шутов своих и сам царь терпит; они, шуты, для торю и есть, чтоб господ правдой-маткой потешать, которую им никто, опричь шута, в глаза резануть не отважится.
– Ты что, нехристь пернатый, меня, боярина, за человека не почитаешь?! – напустив на себя притворный гнев, грозно воскликнул боярин.
– А как же? – не замедлил с ответом шут. – Человеки землю пашут, а боярин над ними поставлен для страху, для порядку и всеобщего благоденствия. Над кем бы ты властвовал, кабы все одинаковые были, и кто б тебе тогда позволил собой помыкать? Что б из того вышло, кабы боярин и смерд из одного теста были вылеплены? Как их тогда друг от дружки отличить?
– А по кафтану, – смеясь, подсказал боярин.
– Стало быть, я тебя нынче ночью зарежу, кафтан твой надену и буду боярин. И никто мне слова худого не скажет, потому как отличить нас только по кафтану можно. Твой кафтан на мне, стало быть, я – это ты и есть… Бороды вот только у меня нету, да то не беда – мочало прицеплю…
– Эй, эй! – опять притворно осерчал боярин. – Я те дам – зарежу! А сто лет кто жить будет?
– Я, – сказал шут. – Кафтан боярский на мне, стало быть, и век боярский – мой, до последнего денёчка… Инда помыслилось: может, ещё лет сто себе накуковать, покуда перья при мне?
– Перья твои при тебе и останутся, – помрачнев, явно задетый за живое, проворчал Феофан Иоаннович. – Будешь много языком болтать, в них тебя, петуха облезлого, и похоронят.
На пухлых губах Ивана Долгопятого мелькнула и пропала без следа полная злого, ехидного довольства улыбка. Похоже было на то, что боярский шут на сей раз потешил не столько боярина, сколько его великовозрастного отпрыска.
– Все под Богом ходим, – сказал Иван неожиданно, и в его устах эта расхожая фраза прозвучала как кощунственная и богохульная насмешка. – Даже боярам сановитым не дано ведать, кто кого переживёт.
При этих словах птичья маска, обернувшись, глянула на него через плечо возницы. Покрытая сусальным золотом бесстрастная деревянная личина сейчас каким-то непонятным образом выражала неодобрение, будто шут был недоволен этим покушением на его привилегию безнаказанно дерзить боярину в глаза.
– Это-то ещё что такое? – нахмурился Феофан Иоаннович. – Ты сызнова за своё?
– А как же мне того не говорить, когда жены моей покойной проклятье не на мне одном, но и на тебе тоже лежит? – упрямо произнёс Иван то, что не уставал повторять отцу на протяжении истекших со дня кончины княжны Марьи двух месяцев.
– А кто в том повинен, ежели не ты? – осерчал боярин, коему разговоры о проклятье княжны-самоубийцы опостылели хуже горькой редьки. – Кто её до того довёл?
– Оба вы хороши, – со свойственной шутам бесцеремонностью встрял в разговор отца с сыном пернатый возница. – Одним миром мазаны, одним перстом деланы, из одних ворот, откуда весь честной народ, вышли, одним лаптем щи хлебаете…
– Ты говори, да не заговаривайся, – сверля тяжким взглядом покрытую шевелящимися на ветру перьями спину, процедил боярин. – Слыхал, чего сынок мой многомудрый рёк? Все под Богом ходим!
– То не мне, – скрипучим голосом уличного скомороха возразил шут, – то тебе сказано было. И ты, боярин, про то не забывай.
Феофан Иоаннович побагровел и разинул рот, готовясь обрушить на шута всю силу своего гнева. Но тут в лесу снова прокуковала кукушка, и шут во все горло прокричал ей в ответ:
– Ку-ку, сестрица!
– Буде! – грозно рявкнул боярин и ткнул его посохом. – Ещё раз прокукуешь – башку проломлю!
– Боле не буду, – смиренно сгорбился шут. – Да боле, мнится, и не надобно.
Не успел кто-либо хотя бы наполовину постичь туманный смысл его слов, как в лесу раздался оглушительный разбойничий посвист, и росшая у обочины высокая, старая, разлапистая ель вдруг пошла крениться, в нарастающем шорохе и треске ломающейся древесины набирая скорость, и с громким шумом рухнула поперёк дороги.
Кони шарахнулись и испуганно заржали, норовя подняться на дыбы и сбросить всадников, упряжка сбилась в кучу. Не успел никто и лба перекрестить, как позади на дорогу пала ещё одна ель, тяжко мотнув в воздухе полновесными гроздьями продолговатых шишек. Сейчас же где-то в чаще отчётливо щёлкнула тетива, и оперённая стрела с тупым стуком вонзилась в спину одному из стражников.
– Разбой! – дурашливым голосом на весь лес заверещал шут, сообщая то, что и без него уж было ясно как божий день.
Поднялась обыкновенная в таких случаях беспорядочная кутерьма. Кони метались и ржали, всадники, сдерживая их, хватались кто за саблю, кто за пищаль; и от первого, и от второго было мало проку, ибо никто не видел, кого следует рубить и в кого стрелять. Стрелы меж тем по одной, парами и тройками продолжали вылетать из лесной чащи, щадя лошадей, но не милуя всадников. Кабы кто-то в это время взялся считать вслух, то не досчитал бы, верно, и до десяти, прежде чем все четверо стражников распростёрлись в дорожной пыли, так густо утыканные стрелами, что напоминали каких-то диковинных ежей.
Боярин Долгопятый стоял в возке, слегка наклонив туловище вперёд, и с выражением тупого изумления смотрел на стрелу, что торчала у него в животе. Выхваченная из ножен сабля валялась у боярина под ногами, руки сжимали древко стрелы, и между унизанных перстнями пальцев густым потоком струилась кровь.
– Все под Богом ходим, – повторил невредимый, каким-то чудом не получивший ни одной царапинки Иван.
Боярин повернул к нему посеревшее лицо, глаза его гневно сузились, но он ничего не успел сказать: сын, высоко задрав ногу в красном сафьяновом сапоге, пихнул его этой ногой в бок, выбросив из возка. Боярин тяжело упал в дорожную пыль и громко охнул, когда торчавшая в его животе стрела с треском переломилась надвое.
Из леса, посмеиваясь, переговариваясь друг с другом и на ходу убирая за спины сослужившие добрую службу лёгкие татарские луки, вышли трое дюжих, кряжистых мужиков. Вооружены они были как попало, а одеты разнообразно и странно – так, будто одёжу свою брали без разбору у разных людей, забирая у кого кафтан, у кого порты, у кого крепкие, дорогие сапоги, а у кого красивую шапку, которая дико и нелепо смотрелась на кудлатой, всклокоченной голове.
– Экие чучела, – разглядев их, пробормотал Иван.
– Тише, боярин, а то так и до греха недалеко, – негромко предупредил шут и, взявшись за длинный клюв, поднял на лоб птичью личину, открывая лицо.
Разбойники встретили этот жест приветственными возгласами.
– Кто таковы? – опасливо косясь на лихих людей, шёпотом спросил Иван.
– Старые знакомые, – с кривой улыбкой и довольно туманно ответил шут.
– Вот не думал, что в нашем лесу кто-то столь долго просидел и до сей поры ни под пулю, ни на дыбу не попал, – с искренним изумлением проговорил Иван.
Он уже начал жалеть о своей затее: эти лихие лесные люди не больно-то походили на тех, кто стал бы держать данное слово, если была возможность безнаказанно его нарушить. И кто его знает, о чём договорился со своими «старыми знакомыми» душегуб Аким! Сейчас прикончат беззащитного, деньги заберут, коней, возок – словом, всё, до исподнего, – и поминай как звали! И кто им в том воспрепятствует?
Один из ватажников, коренастый и чернявый, как грач, цыгановатый мужик услышал последние слова Ивана и весело рассмеялся, блестя белыми зубами.
– Окстись, боярин! – воскликнул он. – В лесу, ежели сметлив да проворен, хоть всю жизнь просидеть можно, горя не ведая. Токмо для этого дурнем набитым надо быть. На что в лесу сидеть, шерстью обрастать, когда Москва под боком? В ней, златоглавой, умелый человек так устроиться может, что хоть и самому царю на зависть! Ладно, что попусту языком-то молоть? Деньгу принёс?
Иван вынул из-под просторного кафтана и подкинул на ладони тяжко звякнувший кожаный кошель.
– Маловата киса, – оценивающе глянув на кошель, протянул чернявый.
– То злато, – пояснил, слезая с козел, Аким.
– Иной разговор, – одобрительно кивнул разбойник. – Дай!
Он требовательно протянул руку. Иван, возомнивший, кто его сейчас начнут резать, отшатнулся и испуганно посмотрел на Акима. Безносый кивнул: отдай, мол, не вводи людей во грех!
– Дорогу-то откройте, православные, – миролюбиво сказал он, пошевеливая вожжами. – Я, хоть и в перьях, по воздуху летать не умею, да ещё и с возком в охапке!
Двое разбойников, посмеиваясь его шутке, отправились убирать с дороги лежащую поперёк неё ель. Поглядев им вослед, Иван Долгопятый увидел, что ель не так уж и велика, как казалась, когда падала. Видно, нарочно выбрали такую, чтоб возок через неё не перевалил и чтоб убрать потом можно было. Это его немного успокоило: по крайности, Аким заранее позаботился о возвращении, а значит, резать молодого хозяина и подаваться в лес безносый шут не собирался.
В это время боярин Феофан Иоаннович, о котором забыли за разговором, вдруг со страшным хрипом и бульканьем поднялся на колени, весь перемазанный белой пылью и тёмной кровью, всклокоченный, страшный, с торчащим из живота обломком стрелы. Не обращая никакого внимания на лиходеев, будто их тут и вовсе не было, он трясущимся окровавленным перстом указал на Ивана.
– Вор! – яростно прохрипел он. – Душегуб! Отца родного погубитель! Проклинаю тебя, как жена твоя тебя прокляла, с потомками твоими до седьмого колена! Чтоб ты в геенне огненной сгорел! Чтоб глаза твои лопнули и на дорогу вытекли! Бесовское отродье, крапивное семя, выродок окаянный…
– Эк он тебя костерит, – с одобрительной усмешкой сказал Ивану чернявый атаман, вынул из-за пояса короткий ржавый меч и, почти не глядя, махнул им в сторону боярина. Раздался противный чавкающий хруст, гневный хрип боярина оборвался на полуслове, и тучное тело мешком свалилось на дорогу. – Люблю это дело, – доверительно сообщил разбойник Ивану и пернатому вознице, после чего наклонился и вытер лезвие о кафтан зарубленного боярина. – Эх, жалко, кафтан испортился! А знатный был кафтанище!
Он говорил не разгибаясь и воровато, с оглядкой на двух других ватажников, которые, кряхтя и лаясь срамными словами, ворочали тяжёлую колючую ель, сдирал с пальцев боярина драгоценные перстни.
– Кафтана тебе жаль, – сказал Аким, распахивая на груди пернатый костюм и запуская руку глубоко за пазуху. – Купишь ты себе хоть полный сундук кафтанов.
– Купить и дурак может, – невнятно откликнулся чернявый, упорно дёргая застрявший на распухшем, мясистом пальце перстень с красным камнем. – Украсть-то оно потешней… Эка крепко сидит! С пальцем, что ль, резать?
– На что с пальцем? – медленно вынимая руку из-за пазухи, лениво произнёс Аким. – Забирай целиком, с боярином…
Чернявый, не разгибаясь, коротко хохотнул, а после удивлённо крякнул, когда широкая и кривая сарацинская сабля, описав в воздухе сверкающую свистящую дугу, с хрустом впилась в его шею.
Прищурив один глаз, Аким положил на козлы окровавленную саблю и посмотрел на мужиков, которые, ни о чём не подозревая, заканчивали оттаскивать с дороги ель.
– Добро, – пробормотал он деловито. – Кажись, проехать можно… Стрельнуть не хочешь, боярин? Иль дай, лучше я стрельну, уж больно руки у тебя трясутся, так ходуном и ходят…
С этими словами он отобрал у слабо сопротивляющегося Ивана дорогой фряжский мушкет, прицелился и спустил курок. Пиратствуя на море, Аким в значительной мере преодолел свою неприязнь к грохоту и пороховому смраду, производимым огнестрельным оружием, поневоле признав его неоспоримые преимущества перед оружием холодным. Мушкет оглушительно бахнул, окутавшись дымом и зло толкнув Безносого в плечо. Иван завистливо засопел, увидев, как один из двоих ватажников взмахнул руками и кулём рухнул на дорогу с перебитым хребтом. Оставшийся, мигом смекнув, что дело плохо, с воем кинулся в лес. Будто по щучьему велению явившийся в руке Безносого нож с коротким и широким обоюдоострым лезвием, бешено вертясь, полетел ему вдогонку и воткнулся точнёхонько под левую лопатку. Разбойник ничком повалился в густой малинник и с треском и шорохом скрылся из вида среди его колючих, унизанных похожими на крупные капли крови ягодами ветвей.
– Всего и делов, – хладнокровно сказал Безносый и только теперь выпрыгнул из возка на дорогу. – Пособи, барин. Негоже батюшку твоего на дороге оставлять, не поймут того люди.
Вскоре возок тронулся в обратный путь. Иван сидел на прежнем своём месте, обняв пахнущий жжёным порохом мушкет, и глядел на окровавленный, вывалянный в дорожной пыли, трясущийся от толчков мешок с прогорклым салом, не столь давно именовавшийся его отцом, думным боярином Феофаном Долгопятым. Никакого сожаления о содеянном он не испытывал. Сие было необходимо, ибо в последнее время боярин много пил и сильно сдал – не так телом, как рассудком. Во хмелю, а бывало, что и на трезвую голову, он всё чаще громогласно винил Ивана во всех смертных грехах, ничтоже сумняшеся валя на голову сына и свои собственные прегрешения и злодейства, коих за долгую жизнь успел совершить предостаточно. С детства привычные обвинения в скудоумии, и без того надоевшие хуже горькой редьки, ныне сопровождались угрозами самого неприятного и зловещего свойства: отлучить от наследства, выгнать из дома, отдать опричникам Малюты Скуратова как погубителя молодой жены, а то и казнить собственной отцовской рукой. Привычная, размеренная жизнь в боярском тереме за считаные недели обратилась в чёртово пекло с такой быстротой и внезапностью, что в голову поневоле лезли мысли о начавшем действовать и прямо на глазах набирающем силу проклятье княжны Марьи.
Всё бы, может статься, и обошлось, не вспомни Иван о Никите Зимине. Свары, угрозы и взаимные упрёки, что ныне с утра до ночи звучали в доме Долгопятых, едва не слово в слово повторяли то, что было написано в памятном доносе про Зиминых. От этой мысли было уже совсем недалеко до следующей: а не разыграть ли, коли так, уже единожды описанное действо до конца? Не свершить ли того, в чём отец облыжно обвинил покойного Никиту? Пускай попробует боярин, какова на вкус его удачная выдумка!
Замысел, сперва мимолётный и шаткий, за какую-нибудь неделю укрепился и пустил в душе прочные корни. Всё решилось окончательно во время разговора с Безносым, когда Иван прямо спросил шута, как тот собирается жить после неизбежной, в положенный Господом срок, смерти Феофана Иоанновича. Намерен он верой и правдой служить новому хозяину или лучше прямо сейчас кликнуть стрельцов, дабы свели его, клеймёного да обезноздренного татя, в расспросную избу?
Аким, который и сам давно уже мучился этим вопросом, артачиться не стал. Выслушав Ивана до конца, не выразил ни одобрения, ни порицания: он уже перешёл на службу к новому хозяину и не видел в его желании избавиться от родного отца ни добра для себя, ни худа. Хочет избавиться – на здоровье, лишь бы сдуру не попался с поличным. Посему организацию убийства Аким целиком взял на себя, для чего пришлось возобновить кое-какие старые, давно, казалось, забытые связи.
И вот теперь убитый лесными разбойниками (а его и впрямь убили разбойники – в том Иван мог с чистой совестью целовать крест и то же сказал бы на любом расспросе, хотя бы и на дыбе, ибо сие была чистая правда) боярин Долгопятый последний раз ехал в своём расписном возке. Над ним вились и жужжали мухи, и сидевший рядом сын боярина не мешал им вкушать обильное кровавое угощение.
Подъезжая к Лесной, они обогнали возвращающуюся с покоса холопку. Платок у неё на голове был повязан по-бабьи, но стан ещё сохранял девичью гибкость. Молодуха поклонилась до земли, не приметив, что один из бар в возке уже не дышит и вскорости начнёт попахивать; Иван же приметил всё, что ему было надобно. За последний год он сильно повзрослел и больше, слава богу, не кидался на девок да баб прямо посреди улицы. Не кинулся и сейчас, а просто сказал Акиму:
– Эту желаю. Нынче же чтоб доставил.
– Мужняя она, – заметил Безносый, который, хоть и не держал смердов за людей, почитал небесполезным знать всех жителей округи если не по имени, то хотя бы в лицо.
– А мне что за беда? – отмахнулся Иван Феофанович. – Оно и лучше даже. Раз замужем, стало быть, дело своё бабье должна ведать. Не придётся, по крайности, на ученье время тратить. А за ребятишками, пока суд да дело, муж приглядит.
– Нету детишек, – сказал всеведущий шут. – И муж в отъезде.
– И того краше, – сказал Иван Долгопятый и пинком отодвинул в сторону мешавшую ему ногу отца.
Аким молча пожал пернатыми плечами и подстегнул лошадей.
Тем же вечером, как стемнело, приглянувшаяся барину молодуха была тайно доставлена в терем, где дворовые бабы голосили над телом боярина Долгопятого. У Безносого при том оказалась прокушена ладонь, и на пленницу он косился с толикой уважения, как на зверя, нежданно оказавшего охотнику достойное сопротивление.
По прошествии положенного срока боярина отпели в монастырском храме и здесь же снесли в усыпальницу со всеми почестями, кои подобали одному из наиболее щедрых покровителей монастыря и жертвователей в монастырскую копилку.








