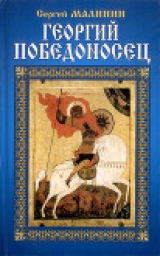
Текст книги "Георгий Победоносец"
Автор книги: Виктория Василишина
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
И уж после всего, начавши злиться и уже обозлившись порядком, ища, к чему б ещё придраться, боярин сообразил главное: ежели Зимин убит, то кто, спрашивается, деревню ему продаст? Ведь сговорились уже, и в цене сошлись, и… Э, да что уж теперь-то!.. И деревни ныне не видать как своих ушей, и головы, очень может статься, не сносить. Кто покойному Зимину первый враг был, каждой собаке ведомо, и царю-батюшке тож. А у него, кормильца, в таких случаях разговор короткий. Есть у него под кремлёвским дворцом каменный пыточный застенок, в коем всё для расспроса надобное имеется. И палач собственный, из Литвы вывезенный, есть – сказывают, знатный мастер, у него и камень заговорит, а не токмо что старый да зажиревший боярин, который после отцовских розог за всю долгую жизнь никакого иного рукоприкладства к своей особе не ведал. Скажешь всё как на духу, и выйдет тебе за то великая царская милость: на кол тебя посадят, а на соседнем колу Ванька, душа безвинная, сидеть будет, поелику сын за отца ответчик. Вотчину на царя отпишут (всё-то ему мало, никак, горемычный, досыта не наестся), и станет он, по кусочку от неё отрезая, худородных выскочек, ласкателей своих лживых, жаловать. Глядишь, и молодому Зимину что-то от царских щедрот перепадёт, и будет сей предерзкий пащенок на исконной долгопятовской земле полновластным владетелем и господином… Нешто можно такое стерпеть? Да от такого поругания семь раз в гробу перевернёшься!
И кто сие устроил? Кто сей змий подколодный, что ужалил Феофана Иоанновича в самое сердце как раз тогда, когда тот менее всего ждал опасности? Да вот же он, стоит на коленках посередь горницы, чистый её дух смрадом своим оскверняя, и глядит на боярина снизу вверх преданными пёсьими глазами – ждёт, по всему видать, чтоб его за добрую работу похвалили.
А работа, что и говорить, добрая. Кабы он, аспид окаянный, нарочно хотел весь род Долгопятых под корень извести, вернее способа и за год не измыслил бы. Погубил, как есть погубил!
– Ведомо ль тебе, пёс, что ты ныне сотворил? – сверкая очами – ей-богу, как сам государь, когда гневался, – свистящим полушёпотом вопросил боярин.
– А как же, батюшка, – утирая рукавом кровь с разбитого лица, столь же тихо, но с гордостью волчицы, что принесла в логово щенкам кровавый кус мяса, отвечал Аким, – ясно, ведомо. Врага твоего лютого смертью казнил!
– Меня! – истово ударив себя в грудь унизанным перстнями кулаком, трагическим шёпотом воскликнул боярин. – Меня ты казнил, а не врага моего! Мне, а не ему главу отсек! Живьём в землю закопал, и сына моего со мною заодно! Погубил ты наш род, но и тебе, псу, не жить!
Тяжёлый боярский посох вновь опустился на плечи Акима, и тот косматым тюком смрадных лохмотьев опрокинулся на пол. Боярин бил его люто, намереваясь убить и даже не допуская мысли о грозящей ему самому смертельной опасности. А такая опасность была: загодя изготовившись снести любые побои, без коих всё едино не обошлось бы, Аким твёрдо положил себе терпеть, сколь стерпится, а после, ежели станет ясно, что живым его боярин не выпустит, зарезать бородатого борова и уйти в лес. Кинжал по-прежнему был при нём, да и без кинжала Безносому ничего не стоило удавить боярина голыми руками: силён-то он силён, благо в хлебе да мясе отродясь недостачи не ведал, но в боевой сноровке он супротив Акима – что дитя малое, кое и ходить-то ещё не научилось, а только и умеет, что на карачках ползать да мамкину титьку сосать.
Лютая смерть приближалась к боярину с каждым нанесённым Акиму ударом – что ни удар, то шаг; что ни пинок, то ещё полшага. Корчась на испачканном кровью полу, Безносый уже нащупал за пазухой изукрашенную каменьями рукоять кинжала, но тут падающие на него сверху свирепые удары вдруг начали слабеть, и Аким понял: боярин передумал его казнить, а может, просто притомился с непривычки.
Так оно всё и было. И притомился, поелику холопа смертным боем бить – сие дело, хоть и приятное, и зело для смерда полезное, утомительно вельми, особливо когда тело не к седлу жёсткому да к ночёвкам в степи у костра привыкло, а к безделию да сладкой неге. И, опять же, одумался. Дурака до смерти забить – работа нехитрая, да только дурак оттого умнее не станет и дело, им погубленное, с его смертью само, по щучьему велению, не поправится. Убить – то безделица приятная, а вот далее что?
Допрежь всего и смерда убитого, и принесённую им голову Зимина – словом, всю эту смрадную дохлятину – придётся из терема убрать и спрятать где-то. Проще всего вывезти падаль в поле и там выбросить воронью на поживу. А кто повезёт? Доверить такое дело никому нельзя: проболтаются – беда будет. Тогда что же – самому о падаль мараться? Нет, то негоже. И заметить могут, и проку от того мало: места-то людные, Москва под боком – найдут покойничка, а при нём голову отрубленную, поползёт по округе слушок, и кто-то непременно припомнит, что был-де у боярина Долгопятого, который убиенному Зимину первейший недруг, безносый палач Аким. Вот он Аким, вот Зимина голова, а кто во всём том повинен, долго думать не надобно: чей холоп, того и ответ.
Можно в землю закопать иль сунуть в мешок, камень тяжкий к тому мешку привязать и в пруду утопить. Вроде ладно: нет тела, нет и дела. Ан и тут незадача, и всё та же, что прежде: кто сие делать-то будет? Опять сам? Оно и не по чину, и подглядит кто-нибудь всенепременно. В боярском тереме у каждой стены глаза да уши имеются, а где они, там и языки болтливые. Господи, что ж это за времена такие настали, что у себя в дому тени собственной бояться надобно – а вдруг то не тень, а шептун государев?
Но это всё пустое. Главное – какой от всего того прок? Да никакого, вот какой! Зимин убит, деревня его прямо из рук уплыла, и, Акима казнив, того уж не поправишь. И напакостил-то он не по злому умышлению, а всем сердцем желая боярину угодить, вину свою давнюю перед ним загладить. Ведь сам, по своей воле пришёл и в ноги поклонился, о милости моля. Так-то и верный пёс, бывает, сдуру, от чрезмерного радения об хозяйском добре дорогого гостя за вора примет да за ногу-то его и цапнет. Пса за ту малую вину убить легче лёгкого, а кто двор по ночам сторожить станет? Хорошие-то псы, поди, тоже на дороге не валяются!
Наскоро всё это обдумав, боярин отставил к стене посох и сказал:
– Так и быть, прощаю. Живи, пёс.
Аким молча простёрся перед ним ниц на замызганном красными полосами и пятнами полу, подумав про себя: «Живи ж и ты, боярин».
После того Феофан Иоаннович стал думать, да так споро и бойко, что мысли у него в голове застучали, как крестьянские цепы на току в разгар молотьбы. Надо было быстро решать, что делать далее – и с Зимиными, и с государевым сыском, и с окаянным безносым бесом. Последнее придумалось скоро, а в ином боярин понадеялся всё на того же Акима: на выдумку тот всегда был горазд, особливо когда выдумывать приходилось всякие пакости. Да боярин и сам уж кое-что придумал, оставалось только обговорить с бывшим палачом всё досконально, чтоб рисковое дело прошло как по маслу, без сучка и задоринки.
Допрежь всего, спрятав Безносого вместе с его страшным даром в чулане, боярин самолично отыскал в людской и разбудил конюха, велев ему немедля отправляться в баню и ждать там человека, коего он, боярин, к нему приведёт. Баню топили не далее как накануне; пар, знамо, уже ушёл, однако ж горячей воды осталось довольно, и той водой конюху надлежало отмыть ночного гостя – пусть не дочиста, ибо без доброго пара и веник не поможет, но так хотя бы, чтоб от него за версту не смердело. «Словечко единое о том проронишь – убью, и могилы после не сыщут», – страшно округлив глаза, пообещал Феофан Иоаннович. Конюх пал боярину в ноги – знал, шельма, что в таких делах хозяин слов на ветер не бросает и, коли пообещал убить, убьёт непременно.
Засим, перерыв мало не весь дом, боярин отыскал в забытом пыльном ларце доставшуюся ему по случаю и до сего дня не нашедшую употребления заморскую диковину вроде плоского прямого ножа с тупым концом, именуемую бритвою, и вручил оную бритву конюху, сопроводив сие действо такими словами: «Хоть всю рожу исполосуй, лишь бы глотка цела осталась. Да гляди, жилу на шее не подрежь! Он помрёт, и ты за ним вослед». После такого напутствия руки у конюха начали трястись так, что это было заметно даже издалека, и Феофан Иоаннович с неудовольствием подумал, что, пожалуй, переусердствовал, стращая холопа: с этакой трясучкой, не ровён час, и впрямь зарежет нужного человека!
После боярин, не заходя более в людскую, сунулся в отдельный, находящийся на отшибе чуланчик, где спал шут Парамошка. Шутом Парамошка был скверным, вовсе не смешным, только на то и годным, чтоб путаться под ногами, кривляться, показывать хмельным боярским гостям свой срам превеликих размеров и в награду за такое искусство получать пинки, тычки и плевки. Питался он по преимуществу объедками, коими любил швырять в него Феофан Иоаннович, а глуп был, как деревянный шпунт, коим дыру в бочке затыкают. В последнем качестве боярин видел главную Парамошкину добродетель: этот, по крайности, повиновался всякому хозяйскому слову, вовсе не рассуждая и ни в чём не сомневаясь. Скажи ему мать с отцом зарезать – зарежет и глазом не моргнёт; скажи живьём в крутой кипяток прыгнуть – прыгнет и не поморщится.
Как раз такой человек ныне понадобился боярину, и, разбудив его (завидев над собой в полумраке грозного боярина, шут с перепугу обмочил порты, коих не снимал даже на ночь), битый час втолковывал дураку, что от него требуется. Убедившись, что Парамошка если ничего и не понял, то, по крайности, затвердил всё слово в слово, боярин вернулся в опочивальню, разложил по столу письменные принадлежности и принялся составлять грамотку.
Грамотку ту он после, будучи в кремлёвском царском дворце, исхитрился незаметно подбросить прямо в государевы покои. Как сие удалось, он бы и сыну родному не признался, и на исповеди промолчал бы: такие вещи на корысть идут, только когда один про них ведаешь, а боле никто.
Грамотку боярин составил с умом, учтя былые свои ошибки. Государственных дел он не касался и в измене Никитку Зимина не винил, сделав главный упор на иное: оный Зимин-де – бражник и гуляка, в гульбе своей стыд и совесть забывший и не токмо царя, но даже и отца родного не почитающий. Будто бы во хмелю не единожды родителя своего, дворянина Андрея Савельева сына Зимина, срамнословно поносил и даже будто бы побивал его кулаками, грозя и вовсе убить. Старший Зимин, в свой черёд, грозил лишить нечестивого отпрыска наследства, а то и пожаловаться на него царю. И вот составителю грамотки будто бы стало ведомо, что Никита Зимин подговорил неких лихих людей отца своего убить, пока тот угрозы своей не исполнил.
Такова была грамотка, коей царь в Большой палате на приёме размахивал. А чтоб гнев государев не остыл, грамотку надлежало подкрепить словами, что Феофан Иоаннович и поспешил сделать, во всеуслышание ославив младшего Зимина гулякой и бражником, до государевой службы неохочим. А когда государь увёл его в свои покои, боярин и вовсе расстарался, расписав ненавистного дворянского сына такими красками, ровно то и не человек вовсе, а сам дьявол в человеческом обличье.
Дело было, конечно, рисковое, опасное. Но боярин рискнул: иного выхода не было, ибо выбирать приходилось между головой младшего Зимина и своею собственной. Кончиться всё это могло худо; выслушав Феофана Иоанновича, государь сощурил глаз, искоса на него посмотрел и спросил с лёгкою насмешкой: «Да ты не врёшь ли, боярин?» На что Долгопятый с поклоном ответил: «Как можно, государь-батюшка? Нешто мне голова на плечах надоела, чтоб пред тобой душой кривить? Известно нам, как ты с криводушными оговорщиками поступаешь, мне такой судьбы, батюшка, и даром не надобно». – «То верно, – подумав, усмехнулся царь. – Ты у нас храбрец известный. На войну тебя калачом не заманишь, всё откупиться норовишь, где уж тебе с царём такие шутки вышучивать!»
И спросил, как он, боярин Долгопятый, мыслит: правда в грамотке написана иль то поклёп облыжный?
Феофан Иоаннович изобразил задумчивость – чай, сам царь спросил, тут с кондачка отвечать негоже – и, огладив бороду, молвил уклончиво: дескать, врать не стану, про то лихое дело мне ничего не ведомо, однако ж недоросль таков, что с него ещё и не то станется. Словом, казнить его, конечно, рано, но донос проверить надобно, не то как бы беды не стряслось.
Ясно, что такую скверну, в коей доносчик Никиту Зимина обвинял, Иоанн Васильевич терпеть не хотел. Тем более что зародилась та скверна не в далёкой укра́инной стороне, не в лесу дремучем, а аккурат у него под носом, в полусотне вёрст от Москвы, у всего честно́го народа на глазах, и была вредна вельми: корысти ради на отца родного замахнуться – сие есть грех величайший и исконных устоев земли русской поругание. Нынче он отца родного за сколько там дестей земли да две худые деревеньки зарезать норовит, а завтра, того и гляди, в царёв кубок яду плеснёт…
Решилось всё быстро и куда как хорошо – лучше даже, чем Феофан Иоаннович надеялся. В поместье Зиминых государь отрядил два десятка конных стрельцов стременного полка под рукой сотника, служилого дворянина Васьки Голого, а боярина просил – не приказал, не повелел, а вот именно просил, да ещё с поклоном! – поехать с Голым и своею боярской мудростью на месте толком обо всём рассудить и приглядеть, чтоб Голый, человек верный, да зело горячий и до крови охочий, лишних дров не наломал.
Проезжая по дороге к Зиминым через свои угодья, боярин нежданно-негаданно наткнулся на сына, что верхом на рыжем немецком битюге, который только один мог долго выдерживать его немалый вес, без цели и смысла разъезжал по полю, аккурат по посевам. Поперёк седла у него лежала богато изукрашенная пищаль фряжской работы, из коей он любил иногда палить – не для охоты, а просто так, для шуму, от скуки. Сведав, куда едут, Ванька, знамо, увязался вослед. Боярин и перечить не стал: пускай полюбуется, бестолочь, как дела-то делаются! А то ещё заупрямится при стрельцах, те поглядят да и скажут: э, что ж сие за боярин такой, коего родной сын ни во что не ставит и нипочём не слушается?
Въехав уже под вечер в деревню и поглядев на бугор, где ещё вчера стоял дом Зиминых, боярин невольно перекрестился: дома как не бывало. Важно безносый дьявол-то потрудился! Ровно татары гостевали, ей-богу…
Сотник остановил на улице какого-то мужика, спросил, где молодой барин. Тот ответил, что у старосты, и показал избу. Сотник махнул рукой своим людям; Феофан Иоаннович ткнул возницу посохом в спину, и кавалькада, тронувшись с места, в два счёта подкатила ко двору здешнего старосты.
Глава 10
Сказать про человека, что он-де главою скорбен и умом недалёк, – значит ничего не сказать. Недоумие тоже бывает разное: один сидит себе день-деньской на лавке, в окошко глядит да слюни пускает, другой то и дело заговаривается, а не то с пеной у рта на людей кидается да рычит, как зверь лесной. Иной живёт себе, живёт, а после пойдёт в лес да на суку повесится либо в омут с камнем на шее скакнёт, а отчего да почему, никто не знает. Вроде и не обижал никто… Словом, люди разные бывают, и то, что одному слабоумием кажется, другому представляется превеликой мудростью, коей он один из всех живущих наделён.
Таков был и Иван Феофанов сын Долгопятый. Дворня и холопы деревенские его боялись как огня, хотя и не могли сказать, в чём причина того страха; отец родной, боярин Феофан Иоаннович, головы над тем не ломая, полагал сына круглым дураком, о чём не единожды сказывал ему прямо в глаза. А дурак – просто слово, и пускай бы тятенька, коль многоумен, попробовал объяснить, что сие слово означает.
Тятенька на то сказал бы: к наукам не способен, в двадцать лет едва-едва «аз» от «буки» научился отличать. В седле, мол, сидит, как куль с зерном, при дворе держать себя сообразно чину не умеет, и кругом, за что ни возьмётся – охотиться ль, за девками ли бегать, саблей махать иль по хозяйству распоряжаться, – проку от него никакого, одни убытки. Пентюх, одним словом, а по-тятькиному – дурак. Только вино пить умеет да срамные песни во хмелю распевать.
Спору нет, так оно всё и было. И наук Иван не превзошёл, и на коне сидел скверно, и кланялся неуклюже, и польстить нужному человеку не умел. А только дело тут было не в глупости. Просто всё это казалось Ивану скучным и ненужным. На что ему быть лихим наездником, когда в хозяйстве возок да сани имеются? На что голову сушить, науки превозмогая, когда на свете учёных людей предостаточно, кои за деньги при нужде всё, что надобно, тебе растолкуют и всё за тебя сделают? На что перед сильными мира сего пресмыкаться, милости их взыскуя, когда и сам ты силён, и всего у тебя в достатке?
Были, конечно, у него свои интересы. Как не быть, человек-то живой! Про него, Ивана Феофанова сына, дворовые девки многое могли б порассказать, да молчали – стыдились. Молодому барину угождать – для дворовых девок работа привычная, никуда от неё не денешься. Да только Иван Феофанович умел сие приятное дело так повернуть, а верней сказать, вывернуть, таково был на выдумку горазд, что девки после его выдумок не то что людям рассказать – вспоминать боялись.
Ещё, помимо порчи девок, Иван Долгопятый любил стрелять. Огненный пороховой наряд был ему люб, и, что б ни говорил отец, в Италию, к фрязинам, он съездил не зря. Потратив немалые по любым меркам деньги, купил он у знатного оружейного мастера в граде Пистойе дорогой новомодный мушкет, который Феофан Иоаннович по старинке да по незнанию именовал пищалью. Мушкет сей был оснащён не фитильным, как стрелецкие пищали, а редкостным и зело дорогим колесцовым замком. Мастер через толмача объяснил Ивану, как тот замок действует: серный колчедан, прижимаясь к колесу, кое вертится, даёт искру, а искра поджигает зелье, то бишь порох, и мушкет пали́т. Что б там ни думал тятенька про его голову, объяснения оружейника Иван понял и запомнил очень даже хорошо: сие ему было и занятно, и любо, не то что жития апостолов.
Стрелять по мишеням ему скоро наскучило – и попадал не всегда, а когда попадал, не шибко радовался. Оружие не для того сделано, чтоб горшки бить, от брёвен щепу откалывать да ржавые прадедовские доспехи дырявить. Оружию кровь надобна, оно для убийства сделано, а всё иное – забавы детские. Метким выстрелом разнося вдребезги очередной глиняный, насаженный на палку жбан или кувшин, Иван мечтал увидеть, как в сторону полетят не черепки, а осколки кости да кровавые брызги. Ей-богу, будто наяву видел, да вот беда: «будто» – не то, что наяву.
Бывало, за околицей случалось ему подстрелить кошку либо бродячую собаку. В белок и прочую лесную живность он обычно не попадал – шибко они там, в лесу, юркие да проворные; пока прицелишься, уж и стрелять не в кого. Но убитое зверьё, хоть бы и дикое, лесное, полного довольства не приносило. Хотелось опробовать дорогой иноземный мушкет на человеке. Ну да, а что такого? Будто седой фрязин из города Пистойи зря старался! Будто деньги ему зря плачены. Горшок, слышь-ка, и камнем разбить можно!
Словом, мечталось поглядеть, как от его пули живой человек на землю падёт и дышать перестанет. Оружие – оно ведь только с виду мёртвое. На самом-то деле в нём великая сила заключена, и силу ту всяк, кто пищаль либо кистень в руки взял, сразу чувствует. Манит оно, нашёптывает: давай, мол, детинушка, попользуйся мною, пусти кому-нибудь кровь!
Другой бы на его месте на войну пошёл – слава богу, царь Иван Васильевич ратникам своим роздыху не даёт, и для воина ныне дело в любое время сыщется. А только на войну Ивану идти не хотелось. Чего он там не видал-то? На войне ведь не только ты, там и в тебя стреляют. А ну как недруг ловчей окажется? Убьют ведь, а мёртвым в гробу лежать, поди, скучно.
Однажды, разъезжая по окрестностям верхом на своём аломанском рыжем битюге, Иван издалека углядел мужика, который воровским манером, с оглядкой, косил траву на барском лугу. Лучшей мишени придумать было нельзя. Сено холоп ворует? Ворует. Наказать его за то надобно? Надобно, да ещё как!
Спешившись, Иван привязал коня на опушке леса, крадучись подобрался поближе, присел за кустом, долго целился, выбирая, пальнуть смерду в брюхо или в голову, выбрал последнее и спустил курок. Дорогой мушкет громко бабахнул на радость хозяину, и тяжёлая, размером с крупную вишню, свинцовая пуля упорхнула в дальнюю даль, не причинив мужику никакого вреда.
Мужик вздрогнул, оглядел, задрав голову, чистое небо, с коего вдруг грянул гром, и, решив, как видно, что то сам Господь погрозил ему перстом – негоже, мол, барское сено воровать, – пал боком на телегу, махнул вожжами и был таков раньше, чем боярский сын успел засыпать в дуло новую порцию зелья.
Иван был так разочарован своею неудачей, что чуть было не пустился за мужиком в погоню. А после, поостыв, сообразил, что Бог его спас: кабы отец проведал, что на покосе нашли мужика с пулей в голове, мигом смекнул бы, чьих рук это дело, и, того и гляди, обломал бы дорогое ружьё об Иванову спину.
А желание кого-нибудь застрелить не проходило – наоборот, крепло, мало-помалу становясь неотвязным, прокрадываясь в сны, которые из ночи в ночь, особенно в полнолуние, делались всё кровавее. И порою, засыпая или, напротив, просыпаясь, пребывая на грани сна и яви, боярский сын начинал понимать, что убить из своего дорогого итальянского мушкета ему хочется не кого попало, а отца, боярина Феофана Иоанновича Долгопятого. За что? Да так, ни за что, для потехи. Как говорится, было б за что – давно убил бы. А если хорошо подумать, так причин набралось бы с три короба. Мало, что ль, отец его розгами сек да за уши таскал? А то, бывало, зачнёт пальцем своим каменным в лоб, яко в дверь, стучать. Стучит и приговаривает: «Учись, башка еловая, думай, не то пропадёшь, когда я помру». Вот и охота было поглядеть: пропадёт или не пропадёт? Да только тятенька помирать что-то не торопился. Крепок был и могуч, как трёхсотлетний дуб, а сын, в тени его произрастая, помаленьку чах – не телом, конечно, но душою и рассудком.
Но греховные мысли об отцеубийстве приходили, как уже было сказано, только на грани яви и сна. Днём же, при ясном солнечном свете, они вспоминались смутно, как привидевшийся дурной сон, и, как сон, казались лишёнными смысла. Только и оставалось, что, покачав головой, сказать: «Приснится ж такое!»
На отца Иван часто злился, полагая, что тот к нему несправедлив и любит его мало. Что сам он с детства никого не любил и во младенчестве мамку-кормилицу за сосок кусал так, что та, бедная, к его колыбели, ровно к лобному месту, подходила, то его не беспокоило. Он – это он, а все иные – сторона. Будто и не люди, а болваны глиняные, чучела соломенные, кои затем только говорить да двигаться обучены, чтоб ему угождать. А отец, хоть, бывало, и угодит, так сразу же либо хулу какую скажет – дурак, мол, Богом обиженный, – либо просто оплеуху отвесит за малую вину, а то и без вины вовсе.
Ну вот для примера взять. Перекупил однова́ Иван у бродячих скоморохов медведя. Велел его на заднем дворе, где когда-то Безносый Аким с луком да ножами упражнялся, на цепь посадить, вынес мушкет и стал в того медведя палить – крови-то хочется, а где её взять? Стрелок он был никудышный, пороху извёл уйму, пуль одних десятка полтора, никак не меньше, а медведь всё живёт – ревмя ревёт, из стороны в сторону мечется, кровью истекая, а никак не помрёт. Злая доля тому медведю досталась; был бы человеком, верно, причислили б к лику святых за такую мученическую кончину.
Потом отец пришёл – надоело ему, видать, пальбу ружейную да медвежий надсадный рёв у себя под окнами слушать. Глянул, что деется, у Ивана мушкет отобрал, к медведю подошёл, дуло в ухо вставил и курок спустил – отмучился, стало быть, косолапый. Ну, так-то, в упор, и дурак сумел бы. Только Иван хотел про то отцу сказать, как боярин кулаком ему в ухо – хрясть! «Изверг ты, – говорит, – изувер. Хоть бы людей постыдился!»
А кого стыдиться – дворовых, что ль? Так они разве люди?
Вот и люби его после этого. И потеху испортил, и ухо после три дня болело.
Коротко говоря, был бы Иван Долгопятый дураком, давно б отца порешил. А только он дураком не был. Кому охота, отца родного убив, самому на плаху отправиться? То-то, что никому. Поелику толку тогда от убийства не видно никакого. И потом, умрёт отец – знамо дело, все его заботы да хлопоты на Иванову голову свалятся. А ему то надобно? Не надобно, нет.
Он иначе устроился. Пил, сколь хотел, а чаще, для запаха только пару чарок приняв, представлялся в стельку пьяным. К пьяному с мудрёными разговорами про царские да боярские дела приставать не станешь, и спрос с него невелик. Глянет тятенька на сынка, плюнет да и пойдёт себе восвояси. А Ивану только того и надобно – развалится на ложе и песни похабные горланит, куражится. Скука потому что.
Вот и в ту ночь, когда Безносый вернулся, Иван хмельным не был – так, капельку разве. За полночь куролесил – знал, что отцу за стеной спать мешает, и оттого вдвое громче пел, старался покрепче родителю досадить. Любо было глядеть, как дворня вокруг увивается, от страха трясясь: и сыну боярскому, поди, онучей рот не заткнёшь, и боязно, что сам боярин, терпение потеряв, порядок наводить начнёт. Сыну-то он ничего не сделает, разве что снова по уху даст, а челяди мало не будет – всяк на конюшню пойдёт. Туда пойдёт, а оттуда, как водится, на карачках выползет. Да и то, если сумеет. А нет, так и на руках понесут: боярская милость – ноша тяжкая, любому хребет переломить может.
После и эта забава надокучила. Крикнув во всё горло: «Плясать желаю!», Иван вскочил с лавки и, будто бы сражённый вином, завернувшись винтом, с грохотом рухнул на пол. Сделано то было нарочно, чтоб дворне дольше возиться, в постель его укладывая: какая-никакая, а всё потеха.
Раздев боярского сына, устроив его на ложе и до подбородка укрыв меховым одеялом (вот дубьё-то, жарко ведь и без одеяла!), челядинцы на цыпочках удалились. Иван откинул воняющее псиной одеяло (на деле-то оно, конечно, не воняло, но ему приятно было думать, что воняет, что и в этом против него заговор), выпростал из-под него руки и стал мечтать. Мечтал он о двух вещах: о том, как, женившись на княжне Милорадовой, позабавится с ней так же, как забавлялся с дворовыми девками на сеновале аль на конюшне, а ещё, по обыкновению, о том, как выстрелом из своего дорогого, инкрустированного слоновой костью и золотом мушкета разнесёт чью-нибудь голову вдребезги, яко перезрелую тыкву.
Мечты его переплетались друг с другом, как пряди в косе деревенской девки; нагая княжна соседствовала в них с мушкетом, а мушкет представлялся вожделенным и манящим, как лоно непорочной девы. После привиделся отец с дырою во лбу, через которую была видна стена позади него; узрев сие, Иван понял, что засыпает.
Глаза его были полуоткрыты, ресницы дробили оранжевый свет лампады на множество неярких, подвижных искр. На божнице среди иных икон виднелся образ святого Георгия: не ведая правды о том, как икона досталась его предку, Иван Долгопятый её не боялся и был даже рад, когда отец принёс её в его опочивальню. Овеянная древней легендой, икона казалась Ивану залогом долгой жизни, полной спокойствия и довольства; Победоносец, поселившись в его опочивальне, пожалуй, махнул рукой на всю остальную Русь и озаботился единственно защитой Ивана Феофанова сына Долгопятого от всех мыслимых бед и невзгод.
Семейная легенда лгала, как и большинство легенд, особенно семейных, но Иван Долгопятый этого не знал, а чего не знаешь, о том и душа не болит – сие, надо думать, было верно при царе Горохе, верно ныне и будет верно во веки веков.
В полусне он услышал, как тихонько скрипнула, отворяясь, дверь, и увидел просунувшуюся в щель голову – страшный, косматый ком спутанных грязных волос, в гуще которых поблёскивали злые паучьи глазки. Пряди, что свисали с головы, перепутались с бородой, составив с нею как бы единое целое; на месте носа темнел лоскут грязной, засаленной кожи.
Когда пропал Аким Безносый, Ивану было не то десять, не то одиннадцать лет. Воды с тех пор утекло немало, но страшный отцов палач врезался в память накрепко. Детские впечатления – самые сильные и в памяти держатся крепче всего; бывает, человек под пыткой не сможет припомнить, что ел сегодня за обедом, а какой-нибудь пирожок, коим угостила в детстве мать, до самой смерти не забудет.
Конечно, обезноздренный душегуб – не пирожок, но Ивану он запомнился хорошо. И теперь боярский сын узнал его с первого взгляда и если удивился, так только тому, с чего это вдруг Аким Безносый забрался в его сон. Он даже бровью не повёл – думал, и впрямь приснилось.
Поглядев на него чуток, косматая безносая голова без единого звука скрылась за дверью. Иван с интересом ждал продолжения сна, но ничего не происходило: перед глазами была всё та же бревенчатая стена с низкой дверью, а в ноздри так и шибал дикий, звериный, лесной дух сто лет не мытого тела.
Тут Иван, конечно, удивился: что-то не помнилось ему, чтоб запахи снились, да ещё такие, прости господи, пакостные!
И понял он, что не сон это, а самая что ни на есть явь. Аким вернулся, в этом не было сомнений.
Придя к такому выводу, боярский сын не удивился и не испугался. Ну, холоп. Ну, ушёл, а после пришёл – что тут такого? Время для Ивана ничего не значило, он его не считал. День, неделя, десять лет, целая жизнь – всё едино, когда живёшь в лени да скуке.
Однако ж Аким был холоп не простой – это Ванька и в десять лет понимал, а уж теперь-то и подавно. Что на конюшне других смердов порол и, бывало, насмерть запарывал – то чепуха, плешь комариная. Знать Иван ничего про их с отцом дела не знал, однако чувствовал: непросто сие, и Аким непрост, и дела их с тятенькой таковы, что про них, может статься, даже Господу Богу неведомо, а ведомо одному только сатане.
А Ваньке-то что с того? Так оно даже потешней. Занятней, по крайности, чем в Свято-Тихоновой обители, в монастырском храме столбом стоять, креститься, непонятные поповы слова слушать и делать вид, будто молишься. Аким-то небось за всю жизнь «Отче наш» не заучил, и какое ему с того лихо? Кого хочет, того и режет, и никто ему, окромя тятеньки, не указ. Сие ль не любо? Да любо! Любо! Ещё как.
Словом, появление Акима Иван воспринял как добрый знак. Стронулось что-то в жизни, пошло вперёд, и в извечной ровной скуке как будто появился просвет. Мысль, пришедшая в голову Ивану, когда он осознал, что безносый палач не привиделся ему во сне, а явился во плоти, была проста. «Не сносить кому-то головы», – сев на ложе, подумал Иван.








