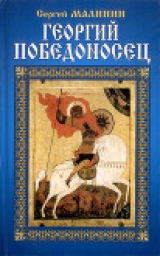
Текст книги "Георгий Победоносец"
Автор книги: Виктория Василишина
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
Глава 11
Выезжая из дома, боярин Долгопятый обыкновенно сажал с собою в возок шута. Шут был новый, взятый боярином неведомо где взамен бесследно исчезнувшего Парамошки. О том, куда подевался прежний барский шут, дворня втихомолку судачила почти целый год, так и не придя к согласию. Одни говорили, что Парамошка, не стерпев своей горькой доли, бежал на Дон иль на Волгу, иные склонялись к мысли, что боярин попросту прибил либо утопил негодного кривляку.
Если последнее было правдой, то топил шута наверняка конюх Агей, что после исчезновения Безносого Акима (за которое вся дворня тогда горячо благодарила Господа Бога) справлял в боярском доме нехитрые обязанности палача. Спросить о том Агея не вышло, потому как сам он был найден мёртвым у себя на конюшне аккурат в то утро, когда обнаружилась пропажа Парамошки. Отчего да почему он помер, долго гадать не приходилось: нашли его голым по пояс, лежащим ничком на лавке, где обыкновенно пороли провинившихся холопов, и на спине его виднелись красные, оставленные плетью рубцы. Рубцов было немного – не то четыре, не то пять, – и через короткое время дворня на своей шкуре узнала, кто был тот таровитый мастер, что несколькими ударами запорол насмерть дюжего конюха. Сведали они сие, когда на место умершего Агея заступил новый боярский шут. Вот уж этот порол так порол! Насмерть, конечно, не забивал – боярин не велел, – но с первой же плети ясно чувствовалось, что, будь на то хозяйская воля, запорол бы в два счёта.
О том, что сталось с шутом Парамошкой и конюхом Агеем, доподлинно ведал один только боярин Феофан Иоаннович. Ведать-то он ведал, да челяди, понятно, про то не сказывал, вот и терялись люди в догадках.
С Парамошкою вышло просто, а с Агеем и того проще. Шута, коему и впрямь была обещана воля и полная шапка серебряных ефимков за то, чтоб вовремя поднёс стрельцам Васьки Голого отсечённую главу дворянина Андрея Зимина, боярин зарубил своею рукой, пока тот сдуру чего лишнего не ляпнул. Сделал, как с самого начала собирался, и сделал чисто – комар носа не подточит. Раз саблей махнул – и готово дело. И не жалко нисколь: дураку туда и дорога.
С конюхом же было иначе. После того как Агей отмыл в бане и обрил наголо ввалившееся посередь ночи в дом косматое лесное чудище, боярин отвёл обоих на конюшню и там велел конюху отпустить гостю цельную сотню горячих – порцию, которую мало кто мог пережить. «За что, ведаешь?» – спросил боярин у обритого чудища. «Ведаю, батюшка», – ответило чудище, прикрывая ладонью страшный, с вырванными ноздрями, нос, и покорно улеглось на лавку, подставив Агею голую, костлявую, перевитую тугими веревками мышц, иссечённую шрамами спину. Глубокие шрамы виднелись у него по всему телу; особенно глубоки и страшны они были на запястьях и лодыжках. Из последнего боярин заключил, что ночной гость не врал, говоря, будто долгие годы томился в неволе у нехристей.
Агей принялся за дело со всем старанием, однако уже после третьего удара обритое чудище подняло голову от лавки и сиплым голосом молвило: «Не скупись, детинушка, валяй крепче! Что ты меня гладишь, яко ладошкой по ложизну?»
Боярин, услышав это, только хмыкнул, а Агей пошёл стараться пуще прежнего. Семь потов с него сошло, уж и задыхаться начал, а чудище на лавке знай себе покряхтывает да приговаривает: «А ну, поддай жару! Шевелись, не то замёрзнешь!» Говорят про иных: шкура, мол, дублёная. Вот дублёная и есть. Ничего её не берёт; поди, из лука в такого стрельни, так и стрела переломится.
После, как все сто плетей были отсчитаны, боярин спросил: «Ну, каков тебе мой заплечных дел мастер?» Другой бы не ответил и с лавки бы не встал, если б вовсе жив остался, а этот попался не таков: поднялся, плечами повёл и про Агеево искусство отозвался срамнословно – мол, не мастер то, а лопух, только на то и годный, чтоб зад им подтирать. Агей пыхтит и помалкивает – притомился, стало быть, да и видно же, что оплошал: столько-то плетей приняв, и племенной бык копыта бы отбросил. А этому ироду хоть бы что!
«Не проняло, стало быть?» – с усмешкой спросил боярин. «Не проняло», – подтвердило безносое чудище. «То, может, сам покажешь, как надобно?» – «А чего ж, – не стал артачиться безносый. – Сам ляжешь, кормилец, аль другого кого уложим?» – «Я те покажу – сам», – прикрикнул Феофан Иоаннович и велел Агею, снявши рубаху, лечь самому на лавку, именуемую кобылою.
Агей лёг, да так боле и не встал. С первого удара конюх охнул, со второго вскрикнул, с третьего благим матом заорал, с четвёртого заплакал, а на пятом испустил дух. Там, на «кобыле», его и оставили – чего с падалью возиться?
После того посадил боярин дворовых девок да баб за шитьё. Всех, кто в том деле был горазд, в одну горницу собрал да ещё и по деревням своим прошёлся, самых лучших швей отобрав. Такой-то артелью можно было за день, много за два, хоть самому царю платье пошить, однако ж возились швеи без малого неделю – уж больно работа была кропотливая. А к концу недели вышла у них одёжа, какую мало кто видывал: кругом сплошь перья птичьи, вместо рукавов будто бы крылья, а сзади хвост приделан, вроде петушиного.
Сказывали, будто был и у царя Ивана Васильевича такой шут, пернатым птахом ряженный, и будто бы, бояр пугая, грозный царь тому птаху, яко божеству, напоказ почести воздавал. Оно, конечно, люди соврут – недорого возьмут, да только Феофан Иоаннович на сплетни не полагался, поелику в палатах у того пернатого божества самолично бывал и премного страху там натерпелся. Однако страх прошёл, а выдумка царская крепко в памяти засела, и слава богу – по крайности, самому ничего выдумывать не привелось.
Ведь как проще всего ноздри вырванные да клеймо на лбу от людских глаз спрятать? Правильно: нацепи личину – и вся недолга. Раззолоченную, на весь лоб, на пол-лица, и с этаким вот предолгим носом, птичьему клюву подобным. А после кудахтай себе на здоровье: кто на шута внимание обратит, кому интересно, что там у него под личиной?
И холопам страх. Одно дело, когда тебя на конюшне Агей, коего ты как облупленного с младых ногтей знаешь, кнутом охаживает. Инда совсем иное, когда кнутом тебя ублажает чудище пернатое с личиной клювастой вместо человечьего лица. Тут от страху одного богу душу отдать можно!
И в дороге хорошо. Сидит себе в возке дурень в перьях, зубы гнилые, редкие скалит, потешает хозяина. Лихой человек на него и не глянет: дурак и дурак, что с него возьмёшь? Вот и вышли однова́ из лесу пятеро. А как же! Боярин без охраны едет, как не выйти-то? Его раздень – всей ватагой год бражничать можно, горюшка не ведая. Вот и вышли – кистенями поигрывают, булавами помахивают, сабельками поблёскивают да лезвия ржавых топоров пальцем пробуют – востро ль? Тут-то птах пернатый себя и оказал. Оглянуться не успели, а уж четверо на дороге лежат и не дышат, а пятый, горемыка, на коленках стоит и кишки свои, дорожной пылью перемазанные, с земли собирает. И рожа таково изумлённая, будто он, тать, сию минуту здесь, на лесной дороге, Господа Бога во всём сиянии славы Его узрел.
И, опять же, потешно. Шутник из Безносого был, как из дерьма пуля: уж ежели и пошутит, так после непременно кого-то хоронить надобно. Да любо было слушать, как он про неволю свою персидскую да турецкую сказывает. Боярин-то, Феофан Иоаннович, моря отродясь не видывал, а Аким, сто горячих получив и вину свою перед хозяином тем искупив, таиться перестал и сказывал всё как было: и про неволю, и про бунт на пиратской галере, и про то, как сам на море разбойничал, и сколь баб да девок – персидских, турецких, эфиопских и всякого иного роду-племени – за то время перепробовал да перепортил. И про «облизьяну» сказывал, и про то, как турецкий военный флот его галеры спалил и потопил, и про всякое иное. Привирал, конечно, для красы, да боярин того не замечал – где ему, сухопутному, морскую правду от морской же кривды отличить?
Целыми вечерами Аким рассказывал, а бывало, что и ночами напролёт. Десять лет – да каких лет! – срок долгий. Покуда всё перескажешь, ещё десять лет пройдёт, а то, гляди, и больше.
А боярин слушал. Бывало, так радовался услышанному, что в ладоши хлопал, а случалось, и слезу пускал. Аким быстро разобрался, что хозяина потешает, а от чего ему поплакать охота, и делал с ним, что хотел: то смешил, то стращал, а то и до того доводил, что боярин после по полночи перед иконами на коленях стоял, истово лбом в пол колотя. И боярину любо, и шуту потешно. Потешался Аким, а сам тем временем думал: «Эге, а хозяин-то постарел! Вот-вот, того и гляди, песок из него посыплется, а там уж и погост не за горами. Каково-то старый шут с молодым хозяином сойдётся? Ладно ль выйдет? А то погонит за ворота, и что тогда – сызнова на большую дорогу с кистенём выходить? Года уж не те, бока к перине пуховой привыкли, а чрево – к сладкому кусу да пенной чарке…»
А молодой хозяин меж тем тоже не молодел – матерел помаленьку, входил в силу. Уж на Акимовой памяти, после того, как он к боярину из дальних краёв воротился, через того аспида, Ваньку Феофанова сына, две дворовые девки руки на себя наложили. Безносый видел Ивана насквозь; то, что боярский сын крови, яко лютый зверь, алчет, было ему любо, да пугало Иваново недомыслие. С малолетства жил, иного страха, опричь отцовских розог, не ведая, а отец, по всему видать, в усердии своём не преуспел: не боялся Иван ни Бога, ни чёрта, ни царя-батюшки, что хотел, то и воротил. То затеет из своего мушкета по петушкам, на крыше терема для красы поставленным, палить, половину окон в дому перебьёт, и чудо Господне, что насмерть никого не застрелит. То, по деревне едучи, приметит девку гожую иль молодуху и норовит прямо тут, посередь улицы, насильно, гвалтом её взять. Девка визжит, орёт, отбивается, а после, как вырвется, бежит по деревне да воет, ровно ей сзади под подол фитиль горящий вставили… Куда то годится? Царь-то не за тридевять земель, а всего в пятидесяти верстах. И царь ведь не какой попало, а – Грозный! Прознает про те бесчинства, прогневается, самого на кол посадит, а вотчину на себя иль на опричнину отпишет. Ваньке туда и дорога, а Акиму чего тогда делать прикажете? На плаху идти? На каторгу бессрочную, в соляные копи?
После Иван женился. Как и хотел, на Милорадовой-княжне. Господи, Твоя воля! Аким-то, грешным делом, думал, что у него сердце давным-давно в камень хладный обратилось, ан нет – посмотрит, бывало, на молодую боярыню, послушает, чего ночью из боярской опочивальни слыхать, и хоть ты плачь, ей-богу! Было понесла, болезная, а после родила хилое дитя с главою преогромной. Дитя то, женска полу, и часа на свете не прожило; Аким не тому дивился, что ребёнок помер, а тому, что после Ванькиных забав девка, оказывается, всё ж таки понести может. И как его угораздило?..
И ведь, казалось бы, чего людям надобно? Деньги есть, земля есть, холопов столько, что в прежние времена князем можно было б зваться, – ежели дерзости достанет, так и великим. Соседей, кои, как соринка в глазу, мешали, под корень извели, даже семени их не оставили. А главное, за то лихое дело государь их ещё и похвалил. Особенно Ивана: дескать, не растерялся, отцеубийцу, что с саблей на государевых людей кинулся, одной пулей уложил, не промахнулся, и дворянство русское ему, псу смердящему, далее хулить и позорить не дал. Одно слово – сокол! Перстень со своей руки пожаловал, а ещё бочку пороху – стреляй, сказал, сколь душа пожелает, совершенствуйся в мастерстве, чтоб враги государя-батюшки одного имени твоего до смерти боялись.
Эк угадал! Стрелять-то молодой боярин охоч, да руки у него, видать, не тем концом и не в то место вставлены. Сам-то Аким там, у Зиминых, не был, но боярский возница ему всё как было после рассказал. Он, возница, от молодого боярина близко сидел и хорошо видел, что в самый миг, когда он за курок-то потянул, рука у него дрогнула, и дуло мало не на вершок в сторону ушло. Сие и называется: попал пальцем в небо. Любопытно, куда б он уцелил, кабы его тот холоп не напугал? Свалил бы какого стрельца, а то и сотника Ваську Голого, и что б ему тогда было вместо царской милости?
Но государь, конечно, с возницей боярина Долгопятого сего не обсуждал. Охота царю со смердом разговаривать! Через то, между прочим, на Руси много неправды испокон веку чинилось, ныне чинится и впредь учиняться будет. Да только Акиму Безносому от того ни жарко, ни холодно. На что она нужна, правда? Кто сверху очутился, тот и прав, вот тебе и вся правда. Свезло боярину с сынком, выкрутились, и даже Зиминых именье, кое по всему должно было в казну отойти, государь, расчувствовавшись, Долгопятым подарил за доблесть и за то, что скверну богопротивную, позорище то кровавое, на корню своими руками изничтожили.
От тех даров великих, от незаслуженной царской милости Иван Феофанович в мыслях выше облаков вознёсся и, похоже было, уж видел себя подле царёва трона – ближе, чем все иные бояре да князья, ближе даже, чем страшный Малюта Скуратов и зять его, Борис Годунов. Даже Аким догадывался, что заносится Ванька не по чину, а главное, не по уму. Отец же его, Феофан Иоаннович, это ещё лучше понимал. Знал боярин и силу боярской зависти, и цену царской милости, а паче всего иного – цену сынку своему, Ивану. Понимал, что доведёт Иванушку его короткий ум при долгом да хвастливом языке до беды лютой, неминучей, и бился, как рыба об лед, пытаясь хоть теперь вложить в твёрдую сыновнюю голову толику ежели не ума, так хотя бы хитрости, без коей при дворе в два счёта пропадёшь. Ан поздно спохватился: как не хотел Иван с малолетства ничему учиться, так и ныне, мужем сделавшись и бороду отрастив, умнеть не пожелал. Ему, как всякому природному дурню, представлялось, что он на свете всех умнее.
Пока он, Иван, с дурью своей за отцовской широкой спиной прятался, то ещё полбеды было. А только боярин в последнее время и впрямь начал стареть, сдавать, всё реже появлялся при дворе и, по всему видать, собрался совсем уйти на покой. Царь того почти и не заметил, благо Феофан Иоаннович, как и прежде, воинской доблестью да государственной мудростью не блистал, угождая великому князю Ивану Васильевичу уж тем, что видимого вреда не чинил. Словом, что был он при дворе, что не было его – никакого различия. Разве что простора в Большой палате поболе сделалось. И видно было, что Иван уж на его место в Боярской думе метит, мечтая там себе славу и почести сыскать, а на деле ища себе позора и погибели.
Чувствовалось, что надвигаются перемены, и оттого Безносому Акиму временами делалось тревожно и неуютно, будто тянуло откуда-то ледяным сквознячком. Откуда сквознячок дует, он видел, а поделать ничего не мог, ибо сквознячок был не из тех, что можно прекратить, просто прикрыв дверь либо заткнув пучком соломы дыру в стене.
Обо всём том Аким обыкновенно размышлял перед сном, сидя в одной рубахе на лавке в чуланчике, унаследованном от покойного шута Парамошки. Пернатое одеяние, в котором он, кривляясь и выкидывая коленца, ходил день-деньской, с утра до поздней ночи, висело на вбитом в стену дубовом колышке; сверху, выставив длинный крючковатый нос, поблёскивала позолотой деревянная птичья личина. С ещё одного колышка свисал широкий кожаный пояс, к коему были привешены четыре ножа разной величины – от старого громадного кинжала, с которым Аким вернулся из заморских стран, до тонкого стилета, а ещё широкая сарацинская сабля. То было оружие личного боярского телохранителя, без которого Аким никогда не покидал чулана. Мешковатый птичий наряд отменно скрывал весь этот арсенал, а клювастая маска прятала лицо, так что никто и никогда не мог с уверенностью сказать, куда смотрит боярский шут и что у него на уме. Под лавкой валялись красные, с загнутыми носами сапоги, которые в сочетании с перьями и клювом придавали Акимовым ногам отдалённое сходство с птичьими лапами.
Аким сидел, широко расставив босые ноги, давая ступням роздых на прохладном, гладко оструганном полу, и рассеянно почёсывал пятернёй видневшуюся в вырезе рубахи покрытую старыми шрамами грудь, на коей не было ни волос, ни креста, а висел на засаленном шнурке золотой персидский динарий, снятый некогда с шеи зарезанного и брошенного в море купца. На обритом черепе поблёскивала отросшая седоватая щетина, среди которой белели полоски ещё двух шрамов; впалые щёки тоже пора было брить, и, с шорохом проводя ладонью по колючему подбородку, Аким мысленно проклинал заморских умников, которые придумали столь глупое и не приносящее никакой пользы занятие, как бритьё. Зачем сбривать то, что уже назавтра вырастет опять? Ежели б Господу было угодно, чтоб мужи ходили с босыми лицами, он бы их такими и создал. Борода же дана мужу, дабы отличить его от бабы, и брить её означает идти супротив воли Господа. Акиму нарушать Божью волю было не привыкать, но то было всё в охотку, а пакостнее занятия, чем скоблить себя пожалованной боярином бритвою, он не знал.
В отдалении, на чистой хозяйской половине, в своей опочивальне, громко, на весь терем, храпел старый боярин. Кто-то тяжко, как однажды виденный Акимом в дальних заморских краях дивный зверь по прозванию «слон», протопал сперва лестницей, а после коридором. Продолжая думать о своём, Аким помимо воли узнал шаги Ивана Долгопятого, коему по походке прозываться б не Долгопятым, а Толстопятым. Пяты у него и впрямь были толсты, телеса дородны, и ходил он всегда так, будто сваи заколачивал – от лени, а ещё, наверное, потому, что, этак ступая, самому себе грозней казался.
Аким зевнул, даже не подумав перекрестить рот, как это было принято. Рот крестят, чтоб туда нечистый дух не влетел, а Безносому Акиму печься о том было, пожалуй, поздновато. Ему, ежели рот и крестить, так затем только, чтоб нечистый дух оттуда обратно на волю не выскочил. А Акиму что? Пущай его выскакивает! Жалко, что ли? Пущай, коли желает, шастает туда-сюда сколь душе угодно. Он, нечистый, Акиму не помеха, а, скорей, подспорье. У кого ж ещё человеку помощи искать, если Бог от него с самого рождения отвернулся?
Он услышал, как скрипнула дверь опочивальни боярского сына, и вздохнул с облегчением: к себе пошёл, не к жене. Стало быть, этой ночью можно спать спокойно, лишнего шума в тереме не будет. Через этот ночной шум Аким одно время чуть было уши перед сном не начал затыкать. Иная дворня, он знал, и затыкала – кто паклей, кто тряпицей, кто чем. А только ему этот простой, казалось бы, путь был заказан. Он ведь не только шут, не только палач, но и в самую первую голову телохранитель, коему денно и нощно бдеть полагается. А как ты станешь бдеть, коли уши заткнуты? Вот и приходилось терпеть, гадая, долго ль ещё молодая жена при таком-то муженьке протянет.
И вот тут-то, стоило ему о том подумать, тяжёлые, заставляющие половицы гнуться и скрипеть шаги в коридоре раздались вновь. Аким прислушался. Молодой боярин, не останавливаясь, миновал опочивальню жены и уже топал по чёрной, людской половине, с каждым шагом приближаясь к чуланчику, в котором ночевал Аким. Боярский телохранитель поправил кожаную нашлёпку на обезображенном носу и почесал в затылке: ну, чего там ещё посреди ночи?
Низкая дверь приоткрылась, и в чуланчик просунулась голова боярского сына. Дивной густоты и красы вьющиеся волосы блеснули в свете лучины, как червонное золото, на толстом, с румянцем во всю щёку, губастом лице золотился редкий белёсый пух, который у Ивана именовался бородою. Глаза, что при свете дня отливали чистой небесной лазурью и казались бы ангельски прекрасными, кабы не были столь малы и столь полны тупой бессмысленной злости, отыскали в полумраке освещённого тусклой лучиной чуланчика Акима, и мясистый короткий палец молодого боярина поманил шута за собой.
Аким живо сунул ноги в сапоги, нацепил личину и потянулся за поясом с оружием. Иван качнул головой, давая понять, что оружие не пригодится, но Аким сделал вид, что не заметил этого жеста, и крепко запоясался поверх рубахи. Он телохранитель, и ему, поди, виднее, когда брать с собой оружие, а когда нет. На тот вопрос ответ простой: если справляешь такую должность, оружие при себе надобно иметь всегда, даже в бане.
Выйдя из чулана, он обнаружил, что в руке у молодого барина горит сальная свеча. Растопленное сало текло по пальцам и капало на подол рубахи и порты, застывая там белёсыми потёками и лепёшками, но Иван Феофанович того, казалось, и вовсе не замечал. Сейчас, когда свечка ярко освещала его лицо, Акиму почудилось, что молодой хозяин чем-то взволнован, а может, даже и напуган. Вином от него разило за версту, но хмельным он не выглядел. Снова молчком поманив за собой Акима, Иван затопал по коридору в сторону своей опочивальни. Аким двинулся следом, подумав меж тем, что все эти таинственные молчаливые жесты были ни к чему: ежели хочешь секретничать, не топай, как целый полк стрельцов, а ежели желаешь топать, так и секретничать незачем: хоть песни во всё горло кричи, всё едино громче уж не получится.
Открыв дверь своей опочивальни, Иван посторонился, давая дорогу Акиму.
– Гляди.
Безносый глянул, крякнул и спросил:
– Твоя работа, барин?
Иван отрицательно замотал головой, но Аким уж и сам видел, что не его. Чтоб этак-то обставиться, у Ивана Феофанова сына, верно, умишка б не хватило. Хотя, конечно, чудилось в нём временами что-то такое, от чего даже Акиму становилось не по себе. Как будто рядом ходил без привязи неведомый и зело опасный зверь. Повадки этого зверя никому не были известны, а раз так, то и предугадать, на кого и когда он прыгнет, не было никакой возможности…
Но теперь боярский сын, похоже, не врал, да и ни к чему ему это было – врать. Посему Аким Безносый, вздохнув, переступил порог боярской опочивальни, на ходу прикидывая, как ему теперь ловчее со всем этим управиться.
* * *
Жена боярского сына Марья Долгопятая, урождённая Милорадова, пробралась в опочивальню мужа тайком, как тать. В этом доме, до сих пор остававшемся для неё чужим и неуютным, у княжны была всего одна отрада, одна только вещь, что дарила ей хотя б видимость тепла да ласки. Этой вещью была хранившаяся в спальной горнице Ивана икона святого Георгия Победоносца. Не зная отчего, княжна Марья тянулась к ней душой, в ней одной находя утешение. Икон в боярском тереме было в достатке, но намалёванные на них святые угодники глядели на молодую боярскую жену холодно, без сочувствия, а порой казалось, что и зло: дескать, Христос терпел и нам велел, и неча тебе, девка, на мужа пенять, Господа тем гневя и от иных, важнейших дел отвлекая.
И только святой Георгий, хоть и считался покровителем воинов, глядел на Марью сочувственно и с сожалением, будто понимая, какая горькая ей досталась доля. Он, как и сама княжна, казался чужим в этом душном тереме. Она прокрадывалась к иконе вечерами, когда Ивана, вот как нынче, не бывало дома. Он часто задерживался допоздна неведомо где, бражничая с такими ж, как сам, гуляками, а то и занимаясь иным непотребством. Каким именно, княжна ведать не хотела, хотя, конечно, догадывалась, ибо судьба двух утопившихся в пруду дворовых девок была ей хорошо известна. В такие вечера она подолгу простаивала на коленях перед образом святого Георгия и украдкой выскальзывала из мужниной опочивальни, когда слышала внизу тяжкий топот его обутых в сапоги с серебряными подковами ног.
В иные вечера, когда муж оставался дома, молодая боярыня часами сидела на лавке в своей горнице, сложив на коленях руки, и остановившимся взглядом глядела в противоположную стену, со смиренной кротостью ведомого на заклание агнца ожидая, когда к ней явится её мучитель.
Того, что делал с ней по ночам Иван, княжна не выдала бы ни на исповеди, ни под пыткой. Да только мнилось, что в том и нужды не было: дома у себя Иван ничего и никого не стыдился, ибо за людей никого, опричь себя, не почитал, так что слышать его мог всякий, кто имел уши. Княжна же, когда доводилось говорить с кем-то из дворни, глаз не могла поднять от великого стыда, а потому старалась, поелику то было возможно, из горницы своей вовсе не выходить.
Бывало, и не единожды, что, утратив стойкость духа, валялась она в ногах у изверга мужа, со слезами умоляя пощадить, избавить от срама и, коли уж совсем невмоготу, удовлетвориться дворового девкой. Понимала, что грешит, оскверняя свои уста такими мольбами, да поделать ничего с собой не могла – ослабла душой через мужнино греховное изуверство. Только проку от того её греха всё едино не было никакого, ибо слёзы да мольбы Ивана пуще прежнего распаляли. «Покорствуй, баба! – кричал он на весь замерший в ужасе и любопытстве дом. – Ибо сказано: жена да убоится мужа своего!»
И сказано-то было не так – вернее, не совсем так. Отец, когда был жив, это место в писании ей растолковал, как и многие иные тёмные места в светлой Божьей книге. Темнота сия происходила допрежь всего иного через нерадивых монахов-переписчиков, кои, переписывая от руки священные книги, что-то могли пропустить, а что-то и от себя добавить. Далее, Священное Писание переводили с эллинского наречия, и толмачи-переводчики, вослед за монахами, много путаницы внесли и туману напустили в прямое и ясное Божье слово. К примеру, то место, где про жену да мужа сказано, можно двояко толковать: кому любо, читает «да убоится», иной же скажет «да почитает».
Однако ж что толку? Ивану-то без различия, боятся его или почитают: он своё хоть так, хоть этак возьмёт и «спаси Бог» не скажет.
Ах, папенька, папенька! Уж как княжна его упрашивала смилостивиться, пощадить, не выдавать за нелю́бого Ивана! Но у них уж всё было твёрдо решено. Отец на её уговоры да мольбы только вздыхал тяжко, хмурился и говорил про покорство, про христианское смирение, да ещё: «Стерпится – слюбится». Не знал он, что́ дочери терпеть-то придётся! Говорил: жених-де завидный, самого боярина Долгопятого сын, а тот ныне в силе, к государеву трону близок. Будешь, говорил он, как сыр в масле кататься, ни в чём отказа не ведая. А упустишь такой случай, прогневишь Господа. Мы-то ныне, почитай, в опале, иные с нами и здороваться не хотят, носы воротят как от прокажённых, и где я тебе при всём том иного жениха сыщу? Нешто хочешь до старости в девках дожить и после моей смерти в монашки постричься?
И матушка, плача, ему поддакивала. Ах, лучше б они дочь свою и впрямь в монастырь отдали, чем на поругание, кое хуже татарского плена!
А теперь и поплакаться некому. Полгода уж скоро, как батюшка с матушкой в земле лежат. Умерли в одночасье – отведали осетрины, которую дочкин свёкор, боярин Долгопятый, в гости заехав, от щедрот своих поднёс, и в ту же ночь скончались в страшных мучениях. Не то осетрина дорогой протухла, не то такова была Божья воля, не то вмешался в дело враг рода человеческого, который, как давно уж приметила княжна, имел в доме боярина Долгопятого свою верную руку – страшного боярского шута, что птаха боярину на потеху представлял. Шут находился при боярине неотлучно, и осетрина та тоже через его руки прошла, так что быть могло всякое.
Да что б там ни было, а дом родительский опустел, и ныне в нём Иван своих друзей, бражников да гуляк, привечал. Соберутся ватагой, жёнок непотребных из Москвы привезут, вином да брагой столы заставят и ну куролесить! Было милое сердцу родовое гнездо, а стал вертеп сатанинский…
Спустя малое время после того, как схоронили родителей, княжна родила хилое, уродливое дитя, которое сразу же и умерло, не захотев даже взять материнскую грудь. Вину за то муж со свёкром, знамо дело, возложили на Марью, и ныне редкий день проходил без злых упрёков – порченая, мол, неплодная дура…
Бесконечно долгие дни были исполнены тягостной муки, а ночи – горьких слёз, коих никто не видел и не слышал. От всего того княжна чахла не по дням, а по часам, и никакая пудра, никакие румяна уж не могли скрыть восковой бледности ввалившихся щёк и пугающе огромных синих кругов под глазами. А давеча сенная девка, заплетая госпоже косы, ахнула и перекрестилась, найдя в волосах густые седые пряди, коих ещё третьего дни и в помине не было.
Серая тоска, как лёд поздней осенью, затягивала чистую воду памяти. Милые сердцу лица родителей, полузабытый, но светлый образ пригожего да доброго дворянского сына Никиты Зимина и даже сморщенное, как печёное яблоко, личико дочери, которая умерла некрещёной и потому была безвинно обречена на адские мучения, – все они теперь виделись смутно, неясно, как через пыльное слюдяное оконце, и все реже вставали перед мысленным взором, будто даже души умерших, опустив бестелесные руки, отступились от княжны Марьи, оставив её на поругание и бесконечную пытку.
Сама себе она всё более напоминала больное, забитое животное, которое, сидя на крепкой цепи, безмолвно сносит жестокие побои, не ведая, в чём его вина, и уже не чая лучшей доли. Но после смерти дочери, когда жизнь мало-помалу начала делаться совсем невыносимой, княжна с испугом ощутила, как в самой глубине души зародилось и стало прорастать что-то новое – неожиданно крепкое, ухватистое, цепкое и чёрное как сажа. Этот новый росток чернотой своей омрачал некогда светлые помыслы, а в голове начал то и дело звучать голос, который насмехался и поносил всё, что княжна до той поры считала незыблемо верным.
«Покорствовать? Давай, – нашёптывал голос, – давай покорствуй и далее, пока совсем в могилу не сведут. А они сведут, им ведь только того и надобно. Отца с матерью уморили и тебя уморят – имение отцовское им досталось, так на что ты теперь надобна?
Почитать мужа своего? Валяй, жёнка, почитай. А заодно, как случится свободная минутка, сходи в хлев да борову в копыта поклонись. Он хоть и в грязи по самые ноздри день-деньской валяется, а всё более почитания достоин, чем твой муженёк. Боров, по крайности, за всю жизнь тебя ни разу пальцем не тронул и слова худого тебе не сказал…
Смириться, как то подобает доброй христианке? Да доколе же можно?! И без того смиренна, кротка, яко горлица, а кому то надобно? Бросили в грязь, растоптали и далее будут топтать, пока совсем с грязью не смешают, так что после и не отличишь, где тут грязь, а где то, что было некогда Милорадовой-княжной…»
Со временем стало казаться, будто голосом, что поселился внутри головы, говорит с нею образ святого Георгия. Бывало, он уже не шептал, а прямо-таки громыхал в ушах так, что княжна пугалась – не услышал бы кто. «Сказано «не убий», – говорил голос, – но воителю, что казнит лютого ворога, сей грех простителен и даже за доблесть почитается. А кто тебе Долгопятые, коли не вороги? Мучители, звери презубастые, мерзостью своей змия, мной попираемого, стократ превзошедшие!»








