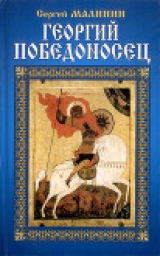
Текст книги "Георгий Победоносец"
Автор книги: Виктория Василишина
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
Он снова завернул икону в промасленный пергамент, для пущей сохранности залив швы свечным салом, обернул поверх пергамента тяжёлой парчой, положил на прежнее место в ларец и опустил крышку. К тому времени, как Степан связал узлом концы мокрой скатерти, боярин у него за спиной тяжко захрапел.
Взвалив бесчувственное, весом мало не в десять пудов, тело на плечи, Степан крякнул.
– Экий ты боров, прости Господи, – молвил он и, прихватив узел с ларцом, с трудом передвигая ноги под двойной тяжестью, вышел из кельи.
* * *
Наутро, к немалому облегчению игумена, обнаружилось, что и боярин Долгопятый, и его конь, и ларец с казной бесследно исчезли, словно их тут никогда и не было. На память о боярине остались только разорённое ложе в отведённой ему для ночлега келье, недоеденный кусок холодной телятины на блюде да пустой кувшин, издававший отчётливый запах монастырского пива.
Тяжёлые главные ворота в стене, что ограждала святую обитель от мирских соблазнов, оказались незапертыми. Инок, стороживший их в ту ночь, был найден сладко храпящим в караульной будке, выстроенной вовсе не для того, чтоб сторожа бессовестно в ней спали, а единственно для укрытия от дождя и зимней стужи. Добудиться его так и не удалось: в ответ на все попытки, вплоть до хлестанья по щекам, инок только пьяно мотал головой, мычал и заплетающимся языком лепетал сквозь сон какую-то непонятицу. Отец Апраксий велел, как проспится, побить негодного стража палкой, а после прислать к нему для наложения подобающей епитимьи, которая, судя по всему, обещала быть довольно тяжкой.
Впрочем, погневавшись для порядка и удалившись после того в свои покои, отец-настоятель вознёс Господу горячую благодарственную молитву за то, что избавил обитель от напасти в лице боярина Долгопятого. Картина была ясна, словно игумен видел всё собственными глазами: ночью, ещё до рассвета, измученный тревожными думами и страхом за свою шкуру боярин оседлал коня, захватил казну, миновал беспечно храпящего хмельного стража, отпер ворота и ускакал куда глаза глядят – может, в Литву или в Польшу, где беглых бояр принимали охотно, а может, и за Урал-камень, в огромную и до сих пор толком не разведанную Сибирь, под крылышко к тамошнему хану. И Бог ему в помощь; пусть едет куда хочет, только б отсюда подальше.
Усердно помолившись и вкусив скудную (ибо Господь охотнее внемлет молитве праведника, чревоугодие же есмь тяжкий грех) трапезу, игумен стал ждать появления стрельцов, коего, по его разумению, было не миновать. Стрельцы, однако ж, не появились ни к полудню, ни к вечерней молитве. Мирное течение размеренной монастырской жизни в тот день было нарушено только сообщением брата Константина, который ходил за курами, о том, что некий злоумышленник похитил из-под несушек все до единого яйца. Игумен в ответ только махнул рукой и сыск учинять не стал. Яйца, бывало, пропадали и раньше, а ныне виновник пропажи был ему ведом: кражу учинил, разумеется, привратник, коему, как ни крути, надобно было хоть чем-то закусывать своё чрезмерно обильное ночное возлияние.
Отстояв вечерю, отец Апраксий удалился в свои покои, но ложиться не стал, будучи твёрдо убеждённым, что царёвы слуги, промедлив по непонятной причине день, уж ночью-то заявятся непременно.
Коротая время, он извлёк из потайного места грамоту, что обратила боярина в бегство, и ещё раз внимательно её рассмотрел – не перечёл, а вот именно рассмотрел, уделяя внимание не столько тому, что было в той грамоте написано, сколько тому, на чём она была написана. Листы были разного размера, цвета (по возрасту: старые – пожелтее, новые – посветлей, хотя такой попался всего один), толщины и шероховатости. Одинаковым в них выглядело одно: все до единого они казались откуда-то вырванными, будто писавший, не найдя иного источника бумаги, надёргал их из каких-то книг. Приказной дьяк, который мог увидеть поступивший донос на боярина Долгопятого и решил зачем-то его о том доносе известить, надо полагать, нашёл бы, на чём написать грамоту. Даже если б дёргал листы из книги, в которой вёл служебные записки, так листы те, верно, были б одинаковыми, а не такими, как эти, собранными с бору по сосенке.
Отец Апраксий поскрёб согнутым мизинцем макушку, подумав между делом, что грамотку сию умнее всего было б немедля сунуть в печку и сжечь, а не ломать над нею голову. Впрочем, стрельцы, когда явятся, искать станут боярина, а не его бумаги. Боярина ж в малый ларчик не спрячешь, а стало быть, и заглядывать в тот ларчик стрельцам ни к чему. Да они и читать-то, поди, не умеют. Оставь бумаги хотя б и на столе, на них и не глянет никто…
Тогда, стало быть, так. Приказной дьяк этой грамотки не писал. И дело тут даже не в бумаге, а просто – ну на что тому дьяку рисковать головой ради какого-то боярина?
Кто-то из ближних царёвых людей? Тоже вряд ли. И бумагу сыскали б, дорогих книг не зоря, и писали б иначе, без льстивого этого подобострастия… Да и не писали б вовсе, ежели подумать. Зачем писать, когда всё прямо в лицо сказать можно? Так оно и скорей, и проще, и надёжнее.
Из холопов, из дворни кто-нибудь? Сие и вовсе ни в какие ворота не лезет. И грамоты те холопы не ведают, и причины боярина любить у них навряд ли имеются, и, опять же, зачем писать, когда сказать можно? Да и потом, откуда холопу, дворовому мужику, узнать то, чего даже боярин не знает, а ведает один царь? И в тереме у Долгопятого, между прочим, навряд ли хоть одна книга сыщется, чтоб лист из неё выдернуть…
И кто, опричь самого царя, придворных и приказного дьяка, через руки которого донос прошёл, мог про тот донос знать? Простой вопрос, и ответ на него простой: только доносчик, и боле никто. А только зачем доносчику боярина о своём доносе извещать? Вот этот вопрос уж похитрее будет…
В изощрённом жизненным опытом и науками уме отца Апраксин начала брезжить какая-то смутная догадка – что-то насчёт доносчика, который сам зачем-то предупредил боярина о доносе, и достаточно большого количества книг, собранных в одном месте, до которого тому доносчику было не слишком трудно добраться, – но разглядеть, что там такое брезжит, отец-настоятель не успел: в дверь его кельи вдруг забарабанили, да так сильно и настойчиво, словно в монастыре случился пожар.
Смекнув, что этот ночной «пожар», скорее всего, щеголяет в красном форменном кафтане стрелецкого стременного полка, игумен быстро сгрёб в кучу и спрятал от греха разбросанные по столу бумаги и крикнул стучавшему, чтоб тот вошёл.
В келью просунулась всклокоченная, с выпученными глазами голова одного из иноков. Выражение монашьего лица игумена не удивило, а вот слова, произнесённые им, заставили отца Апраксин изумлённо приподнять мохнатые брови.
– Батюшка, отец Апраксий, скорей! – скороговоркой затараторил инок. – В обители у нас нечистый дух поселился!
– А подойди-ка сюда, сын мой, – маня инока пальцем, ласково позвал игумен.
Монах послушно подошёл и, когда настоятель подался вперёд через стол, сам, не дожидаясь приказания, ибо было ему не впервой, дохнул отцу Апраксию в лицо.
Настоятель слегка поморщился: изо рта у монаха так и разило смрадом гнилых зубов. Впрочем, вином оттуда не пахло, и это было решительно непонятно: ежели не пил, так откуда нечистой силе взяться?
Отец Апраксий встал из-за стола и, направляясь к двери, решительно потребовал разъяснений. Разъяснения были ему немедля даны, и из тех разъяснений настоятель, положа руку на сердце, ничегошеньки не понял.
Рука об руку они пересекли тёмный монастырский двор и вступили в открытую настежь дверь келейного корпуса. Возле двери, что вела в подвал, уже толпилось около десятка кое-как одетых, взъерошенных со сна иноков. При появлении настоятеля они почтительно умолкли, и в наступившей тишине отец Апраксий явственно услышал доносившийся откуда-то, как показалось, из-под земли приглушённый, но леденящий душу и явно нечеловеческий вой. Вой сменился нечленораздельными воплями, исполненными такого ужаса и ярости, что игумен почувствовал, как у него зашевелились волосы, и осенил себя крестным знамением.
Когда по приказу игумена кто-то из братьев неохотно отворил дверь подвала, завывания и вопли стали слышны более явственно. Человеческая глотка просто не могла рождать столь богопротивные звуки; сомнений не осталось: в обитель проник нечестивый дух, и отец Апраксий подозревал, что знает, как сие могло случиться. Нечистого, несомненно, приволок за собой боярин Долгопятый и, по всему видать, как-то его перехитрил, приковав к монастырским стенам сильным чернокнижным заклятьем. И теперь, лишённый свободы передвижения, запертый в подвале ненавистного ему Божьего дома, демон выл и скрежетал зубами от ярости и страха, призывая на помощь все силы ада, дабы те помогли ему вновь обрести свободу. Потому-то боярин и покинул монастырь второпях, до света, украдкой, как тать, что знал: отец Апраксий может с христианским смирением принять всё что угодно, кроме осквернения священной обители.
Окрепшим голосом игумен принялся отдавать распоряжения, необходимые для того, чтоб подготовить всё к обряду изгнания беса. Дикие вопли и сатанинский хохот в подвале то затихали на короткое время, то начинались вновь; это было так страшно, что братия непрерывно крестилась и шептала молитвы, а отец Апраксий, грешным делом, думал, что предпочёл бы такой напасти обстрел из осадных мортир.
Начавшаяся в ту ночь отчитка с перерывами на еду и сон продлилась без малого неделю. Бес попался зело упорный и сильный, и ничем его было не взять – ни молитвами, ни песнопениями, ни ладаном, ни святой водой, коей отец Апраксий собственноручно опрыскал, казалось, каждый камень в монастыре и особенно в монастырских подземельях. Валясь с ног от усталости, игумен бродил по каменным заплесневелым лабиринтам, размахивая кадилом и властным, хотя уже и слегка осипшим голосом повелевая бесу убраться обратно в пекло, из коего он вылез. При нём неотлучно находился брат Варфоломей, добровольно вызвавшийся сопровождать отца Апраксин в этом небезопасном предприятии. Он светил игумену факелом, подавал необходимое и, не проявляя страха, укреплял решимость отца Апраксин своею решимостью. Видно, доблесть, о коей когда-то рассказывал игумену княжич Загорский, осталась с братом Варфоломеем даже тогда, когда его покинула память, и за эти шесть бесконечных дней и ночей отец-настоятель проникся к нему искренним уважением. Он бы, наверное, даже и полюбил брата Варфоломея, кабы не одна задняя мыслишка, что время от времени приходила игумену на ум, отвлекая от важного дела.
На третий день отчитки вопли беса начали мало-помалу слабеть, заставив отца Апраксин воспрянуть духом и с новыми силами приняться за дело, а к исходу шестого стихли окончательно и более не возобновлялись. Едва добредя до своих покоев, игумен без сил повалился на ложе и уснул каменным сном без сновидений, не успев даже снять сапоги, коими пришлось заняться служке.
Через час, однако, отец Апраксий вдруг пробудился, а пробудившись, немедля ощутил полную ясность ума. Все части головоломки встали на свои места, все загадки отгадались сами собой, словно во сне игумен успел коротко переговорить с Господом и получить от него все необходимые разъяснения.
Помолившись, поплескав в лицо студёной водой из рукомойника, натянув сапоги, разгладив бороду и покрывшись клобуком, отец Апраксий нанёс краткий визит в монастырскую библиотеку, после чего вернулся в свои покои и велел служке разыскать и привести к нему брата Варфоломея.
Последний вскоре явился и, остановившись на пороге, первым делом взглянул на высокую стопу пыльных книг, что громоздилась на самом видном месте с краю стола. Игумен, внимательно наблюдавший за его лицом, заметил что-то вроде невесёлой улыбки, на краткий миг искривившей губы монаха.
– Скажи-ка, сын мой, не хочешь ли ты исповедаться? – ласково осведомился отец Апраксий. Несгибаемая сталь приказа, таившаяся внутри этой ласки, как таится до поры в ножнах острый булатный клинок, сегодня угадывалась легче, чем обычно. – Может, покаешься?
– В чём, отче? – не убоявшись звеневшего в голосе игумена булата, смиренно удивился брат Варфоломей.
– Так уж и не в чем? – Отец Апраксий дотянулся до ларца, со стариковской медлительностью поднял резную крышку (ларец мастерил брат Варфоломей, и игумену тот ларец очень нравился) и неожиданно резким движением выбросил на стол перед собой ворох измятых, разрозненных, надёрганных листов. – А кто книги священные испоганил и осквернил? Скажешь, не ты?
Брат Варфоломей на мгновение склонил голову, но тут же выпрямился вновь.
– В том каюсь, – твёрдо ответил он. – В ином же не раскаиваюсь. Привелось бы вдругорядь – то же самое сделал бы.
– Ишь ты, – криво усмехнулся игумен. – Ну, да я от тебя иного и не ждал. На отчитку в подклеть со мной пошто ходил? Боялся, что до срока злодейство твоё раскрою?
– Боялся, – признался чернец.
– А кабы я и впрямь свежую кладку сыскал, тогда что?
Леший промолчал, потупив взор.
– Убил бы, – ответил за него иеромонах. – Как Бог свят, убил бы.
– Не по злому умышлению, – сказал Леший.
– Ну, ведомо, единственно по нужде, – хмыкнул игумен. – а после сказал бы, что это бес надо мною верх взял. Хитёр! Ну и что ныне прикажешь с тобой делать?
Леший развёл руками.
– Твоя воля, – просто сказал он. – Я и противиться не стану. Мне, отче, ныне всё едино.
– А злато боярское где?
– Того не скажу, – неожиданно упёрся чернец. – Ни к чему тебе, отче, его злато. Чёрное оно, кровью политое. Не от Бога оно, от сатаны.
– А тебе, стало быть, и от сатаны сгодится…
– И мне ни к чему, – помолчав, молвил Леший. – В пруду я его утопил, дабы добрых христиан блеском своим греховным не искушало.
– Так, – тяжко произнёс игумен, подавив греховное желание в сердцах плюнуть на пол. – Экий ты, право… Стало быть, вернулась к тебе память?
– Лучше б не возвращалась, – глухо отозвался чернец.
– Вот и я так же мыслю, – вздохнул отец Апраксий. – Всё я понимаю, одного в толк не возьму: пошто стрельцы по боярина следам до сей поры к нам в обитель не пожаловали? Иль не было доноса?
– Был, – признался Леший. – Да я его в приказ не понёс, спалил.
– Пошто?
– Долгопятым не хотел уподобиться, – сказал чернец.
– Иного ты не хотел, раб Божий, – сказал игумен. – Не хотел ты, чтоб стрельцы, по монастырю шаря, вопли те услыхали и боярина вызволили. А ныне что ж?.. Коль доноса не было, боярин перед царём чист. Выходит, стало быть, что в моей обители не монахи, а злодеи укрываются, кои бояр родовитых без вины живьём в стены замуровывают! Да ежели царь про то сведает, он не токмо тебя, а и меня с тобой заодно на кол усадит! Братию на Соловки сошлёт, а монастырь с землёй сровняет.
– Того не миновать, – согласился Леший, и в его голосе игумену почудилась насмешка.
Отец Апраксий помолчал, заново обдумывая то, что за это утро уж успел обдумать не единожды. Выдавать злодея царю нельзя, а брать на душу новый грех, казнить своею волей не хотелось – и без того уж нагрешил сверх всякой меры, того и гляди, чаша терпения Господнего переполнится, и будет тогда беда пострашнее царской немилости. Оставалось одно: отпустить с миром.
– Бог тебе судья, – молвил он, приняв окончательное решение. – Ступай на все четыре стороны, чтоб через час даже духу твоего в обители не осталось. Увижу тебя иль хотя бы услышу, что ты поблизости вертишься, – так и знай, предам анафеме. Ступай! Глаза б мои на тебя не глядели, душегуб…
Назначенное игуменом время ещё далеко не истекло, когда Степан с непокрытой головой, в обтрёпанном и выгоревшем подряснике, подпоясанном обрывком верёвки, вышел из ворот Свято-Тихонова монастыря на дорогу, что вела через памятные ему места – через лес, где когда-то укрывался, потом через Лесную, где жил с молодой женой и где осталось пепелище собственноручно срубленной избы, и далее, через вторую деревню покойных Зиминых, – прямиком к вотчинному имению бояр Долгопятых и кладбищу, за оградой которого притаилась в зарослях безымянная могилка. Могилку ту надлежало сыскать и наконец-то поклониться ей до земли, отдав покойнице последнюю дань. О том, что станет делать далее, Степан не думал: Русь велика, лесиста, и для человека, умеющего держать в руках топор, на ее просторах дело всегда сыщется.
Проходя мимо монастырских прудов, он увидел десятка два братьев, которые, раздевшись донага, что-то искали в мутной воде – кто у берега прощупывал дно шестом, а кто нырял на глубине, то и дело показывая небу, а стало быть и Господу, голый незагорелый зад. Губы тронула невесёлая улыбка, и, отвернувшись от своих вчерашних братьев, Степан широко зашагал к синевшему в отдалении лесу.
* * *
Пушкарская слобода, что протянулась вдоль берега Яузы, по обыкновению, дымила так, что небо над ней можно было разглядеть лишь с трудом, да и то не всегда. Дымили печи, в коих чумазые, как черти в аду, полуголые мужики отжигали древесный уголь, курились едким паром литейные ямы, а плавильные печи распространяли по слободе такой смрад, что непривычному человеку здесь было по-настоящему трудно дышать. Мелькали лопаты, наперебой стучали топоры, лоснились голые, покрытые чёрными разводами смешанной с потом грязи спины, помахивали плётками десятские, раздавалась надсадная, сиплая брань. Гнилые, покосившиеся частоколы и чёрные от старости, по самые окна вросшие в землю избы не добавляли пейзажу привлекательности; впрочем, в те времена пейзаж мало кого интересовал, а уж в Пушкарской слободе охотников полюбоваться красотами природы было и вовсе днём с огнём не сыскать.
Менее всего природа интересовала крепкого, не старого ещё человека в надетом на голое тело кожаном фартуке, который, обходя, а кое-где и перепрыгивая изъезженные тележными колёсами грязные лужи, скорым шагом двигался к одному ему ведомой цели. По его слегка запачканному сажей лицу было видно, что человека гложет изнутри сильное нетерпение, а может, и тревога. Так оно и было: он и впрямь двигался к большой цели, и чем ближе та становилась, тем сильнее делался страх возможной неудачи, тем большим делалось нетерпение. Жалко было, что и в работе нельзя продвигаться вперёд так, как в ходьбе: захотел – пошёл скорее, захотел – и вовсе бегом припустил. Поспешишь – людей насмешишь, то всем ведомо. А поспешить хотелось; хотелось поскорее увидеть творение своих рук, плод замысла, на который до него не отваживался ни один человек на всём белом свете.
На дворе стояло лето от сотворения мира семь тысяч девяносто четвёртое, от рождества же Христова тысяча пятьсот восемьдесят шестое – третье по счёту лето правления на Руси царя Фёдора Ивановича. Человек, что почти бегом, увёртываясь от едущих навстречу подвод и отгоняя хворостиной собак, шёл по закопчённой, провонявшей едкими парами расплавленной меди улице Пушкарской слободы, звался Андреем Чоховым. В прошлом беглый холоп родом из-под Нижнего, он ещё в молодые годы был приставлен к пушкарскому ремеслу повелением самого государя Ивана Васильевича и достиг в том ремесле великих высот: лил пушки, а после сам же из них и палил, ломая стены, башни и ворота ливонских крепостей. Ныне пушечный литец Андрей Чохов по велению царя Фёдора Ивановича воплощал в жизнь свой давний дерзкий замысел: готовился отлить бомбарду, равной которой до сих пор нигде не было.
Сворачивая с улицы в большие, косо повисшие на разболтавшихся петлях, наполовину приоткрытые ворота, Чохов озабоченно посмотрел в затянутое дымной пеленой небо. Дело близилось к вечеру, дневной свет понемногу уходил, а это означало, что резчики вот-вот бросят работу и разойдутся по домам: при свечах тонкой работы не сделаешь, непременно хоть что-то, да испортишь.
Он успел. Резчики трудились в просторном, плотно запиравшемся на ночь от сквозняков сарае, посреди которого на козлах возвышались гигантские деревянные детали, которые, будучи собранными воедино, должны были послужить основой для литейной формы, из коей впоследствии с Божьей помощью выйдет небывалая по размерам и мощи бомбарда. Подмастерья, обливаясь потом, полировали до едва ли не зеркальной гладкости уже готовые части, втирали в них масло, и округлые деревянные бока формовочных заготовок лоснились так же, как и их спины. Запахи олифы и свежей древесной стружки, коей был густо усыпан земляной пол, забивали даже едкую, давно ставшую для Чохова привычной вонь медных окислов и серы.
Главный мастер-резчик, склонившись над заготовкой, заканчивал вырезать затейливый узор, что двойным кольцом опоясывал запальную часть будущей бомбарды. Вошедшего он не заметил, торопясь завершить работу при дневном свете. Чохов, как обычно, подавил желание его поторопить: резчик был знатный, и подгонять его не требовалось – он, как и сам Андрей Чохов, всегда трудился изо всех сил и делал всё так ладно, как только мог.
Сердито махнув рукой на подмастерья, который сунулся было к резчику, чтоб сообщить о приходе важного гостя, Чохов медленно двинулся вдоль гигантской заготовки, придирчиво осматривая её со всех сторон.
Сделано было, как всегда, чисто – без сучка, без задоринки, как тому и быть надлежит. Чохов остановился, любуясь рельефным изображением царя Фёдора Ивановича в короне и со скипетром в руке верхом на коне. Царь, по мнению Чохова, получился прямо как живой, но, чтоб никто не перепутал, над ним виднелась аккуратно вырезанная рельефная надпись: «Божиею милостию царь и великий князь Фёдор Иоаннович, государь и самодержец всея Руси».
На верхней части будущего ствола легко читались ещё две надписи: справа – «Повелением благоверного и христолюбивого царя и великого князя Фёдора Иоанновича, государя и самодержца всея Руси, при его благочестивой и христолюбивой царице великой княгине Ирине», а с левой стороны – «Слита сия пушка в преименитом граде Москве лета 7094, в третье лето государства его. Делал пушку пушечный литец Ондрей Чохов». Оглядевшись по сторонам, пушкарь украдкой провёл кончиками пальцев по буквам, из которых слагалось его имя, погладил шелковистый на ощупь деревянный бок и повернулся к резчику.
Тот уже закончил работу и, сдув с рельефного узора остатки стружки и древесной пыли, ласково, совсем как до этого сам Чохов, оглаживал ладонью выпуклости сложного орнамента. Заметив Чохова, коротко кивнул – в рабочее время церемонии меж ними были не приняты, ибо Чохов, хоть и был головой всему делу, признавал в резчике равного себе если не по положению, то по мастерству.
Рядом с гигантским комлем будущей бомбарды даже богатырская фигура резчика казалась щупловатой. Упавшие на лоб волосы, схваченные кожаным шнурком, плохо скрывали страшный, протянувшийся от темени до середины лба бугристый шрам; ещё один, потоньше, начинаясь от левой брови и пересекая чудом уцелевший глаз, терялся в густой русой бороде. Судя по этим отметинам, прошлое у резчика было непростое, но Чохов никогда его о том не спрашивал: прожив не самую лёгкую жизнь, он научился уважительно относиться к чужим секретам.
– Пожалуй, что и готово, – произнёс наконец резчик слова, которые Чохов давно хотел услышать. – Ещё разок-другой маслицем пройти, чтоб лучше впиталось, и можно форму засыпать.
– Слава те, Господи! – перекрестился Чохов. – Спаси тебя Бог, Степан! Вот уважил так уважил! Глянуть-то можно аль запретишь?
– Гляди, – усмехнулся Степан, отступая в сторону.
Чохов склонился над рельефом, водя по нему рукой и отпуская в адрес мастера и его доброй работы хвалебные словечки. Доброе слово и кошке приятно, тем более что в данном случае добрые слова шли от сердца и были воистину заслуженными.
Вдруг чёрная от въевшейся копоти рука пушечного литца замерла, потом вернулась обратно и ещё раз провела по углублению меж двумя рельефно выступающими лепестками. Чохов сощурил глаза и сунулся носом чуть ли не в самую заготовку, пристально вглядываясь в орнамент.
– Что за притча? – не предвещающим ничего хорошего тоном спросил он. – Ты чего это тут наворотил?
Степан вздохнул: гляди-ка ты, приметил! Ничего от него не утаишь. Ну и что ныне делать?
– Где? – спросил он невинно.
– Ты блаженным-то не прикидывайся! Где-где… Да вот!
Палец пушкаря упёрся в россыпь мелких, едва заметных глазу рельефных буквиц, хитро упрятанных в завитках растительного орнамента. Резчик вгляделся, изумлённо поднял брови, а после, будто вспомнив что-то, сказал:
– А! Так то для пущей красы. Ты глянь только, как любо вышло!
– Я те дам «любо»! – понемногу закипая, с угрозой пообещал не любивший самовольства в ответственном деле Чохов. – Нешто мы так договаривались? Нешто ты мне такое малевал? И какая в тех пигалицах краса? Их ведь и с трёх шагов не разглядишь!
– То-то, что не разглядишь, – сказал резчик. – Чего тогда шуметь?
– Порядок должен быть! – негодовал Чохов. – Слыхал ты аль нет? Порядок! Сей же час самовольство своё убери, чтоб духу его тут не осталось!
Услышав слово «самовольство», резчик понял, что спорить бесполезно: теперь пушкарю хоть кол на голове теши, всё равно будет стоять на своём.
– Сейчас не получится, – угрюмо проворчал он. – Свет уж неверный, того и гляди, напортачу. Завтра, коль не передумаешь, срежу всё наголо, не кричи токмо.
– Не кричи… – сердито передразнил Чохов. – На тебя не кричать, тебя поленом по хребту колотить надобно! Да где такое полено сыскать, чтоб тебя, лешего здоровенного, проняло?
– А вот, – с готовностью предложил резчик, указав на деревянную модель чудо-бомбарды.
Чохов хмыкнул, понемногу остывая.
– Вот разве что, – проворчал он. – Оно б и ничего, да работы жалко. Обломится ведь и эта дубина об твои плечи! А?
– Очень может статься, – с напускной серьёзностью подтвердил резчик.
– Ладно, – вздохнул Чохов. – Сегодня, так и быть, отдыхай, а завтра чуть свет безобразие сие убери! Не подведи меня, Христа ради, Степан, – попросил он. – Уж мочи нет терпеть!
– Не подведу, – со вздохом пообещал резчик.
Часом позже, стоя на деревянном мосту через Яузу и глядя, как в отдалении золотятся в закатных лучах купола и башни Кремля, Степан гадал, как ему теперь быть. Замысел, который поначалу выглядел как обыкновенное озорство, ныне пустил в душе корни, и отказаться от него было тяжко.
Как-то раз, постигая в монастырской библиотеке азы грамоты под началом пожилого библиотекаря и писца брата Павла, он наткнулся на странную книгу, в коей, сколь ни бился, не сумел прочесть ни словечка. Буквицы были все знакомые, а вот складываться в понятные русские слова не желали, хоть ты тресни. Он было решил, что книга писана на каком-то иноземном наречии, а после всё-таки спросил брата Павла, что сие должно означать. Старик с охотой объяснил, что сие не иноземная речь, а тайнопись, придуманная нарочно для того, чтоб тот, кому не надобно, не мог написанного прочесть и секреты писавшего сведать. Тайнопись, говорил брат Павел, есть замок, а каждому замку положен ключ. У кого ключ имеется, тот замок отопрёт и абракадабру сию без труда переведёт в понятные слова.
Тогда он спросил, есть ли тот ключ у брата Павла, воображая себе большой медный ключ с затейливой бородкой, каким отец-настоятель запирал, уходя, дверь в свои покои. Брат Павел, который отчаянно скучал, дни напролёт просиживая в душной келье среди пыльных книг и нескончаемых списков, развеял его заблуждение, с радостью пустившись в объяснения. Он даже помог брату Варфоломею осилить первую страницу тайнописной книги; далее Варфоломей читал уже сам, с некоторым разочарованием убедившись, что никаких особенных секретов книга не содержит.
После он забыл о тайнописи, а вспомнил совсем недавно, когда ему опять начали сниться странные сны. В тех снах являлся ему всадник в светозарных доспехах и развевающейся по ветру багрянице, с золотым светоносным копьём в руке. Всадник ничего не говорил, только смотрел с немым укором, и Степан скоро догадался, что то за всадник и в чём он его укоряет. Пожалуй, Степан тогда и впрямь сплоховал, оставив икону в склепе, – ну, ровно закрепил тем самым и увековечил право Долгопятых на безраздельное владение чудотворным образом святого Георгия.
Соваться в монастырь нельзя – там его мигом узнали бы, и злопамятный отец Апраксий, памятуя о постигшей его в поисках боярского золота неудаче, мог, чего доброго, не ограничиться обещанной анафемой, а придумать что-нибудь более действенное. Поди, если поискать, в монастырских подклетях и пыточный застенок сыщется!
Доверить свой секрет другому человеку, хотя бы и попу на исповеди, Степан тоже не мог – что-то внутри не пускало. Тогда-то он и вспомнил про тайнопись, решив оставить подсказку будущему спасителю чудотворной иконы не на бумаге и не на камне, а на задуманном мастером Чоховым гигантском медном чудище, которое, мнилось, на долгие века переживёт и своего создателя, и Степана Лаптева, и царя, волею которого было вызвано к жизни.
И на тебе – велено завтра же убрать! А он столько провозился с теми мелкими буквицами! Кабы не они, давно б уже работу закончил. Хорошо, хоть Чохов не знает, сколько времени он на то «самовольство» убил. И то, поди, догадается – мужик ведь неглупый… То-то взовьётся!
За рекой наперебой звонили колокола, созывая прихожан к вечерней молитве. Над куполами церквей кружились вспугнутые тем звоном галки; ветер то и дело доносил со стороны Пушкарской слободы едкие испарения расплавленного металла и горький запах дыма. Внизу неспешно несла свои мутноватые воды Яуза, с негромким журчанием обтекая дубовые сваи моста. Выставив к небу растопыренные закостеневшие лапы, под мостом проплыла дохлая собака – задержалась ненадолго, зацепившись за торчащую из воды корягу, потом оторвалась и, лениво покачиваясь и кружась, поплыла дальше, скоро скрывшись из вида за излучиной реки. Провожая её взглядом, Степан угрюмо размышлял о том, что человеку только представляется, будто он властен над своими делами и поступками, будто он способен сам, по своему разумению решить хотя бы мелкую мелочь. На самом-то деле всё предрешено заранее, и остаётся только плыть по течению, уподобившись этой дохлой собаке и для пущего с нею сходства растопырив руки и ноги…
Его мрачные раздумья были прерваны гнусавым, дребезжащим голосом, который вдруг раздался прямо у Степана за спиной, прося Христа ради подать убогому на пропитание. Резчик обернулся, нашаривая у пояса кошель, и увидел одетую в грязные лохмотья согбенную фигуру с протянутой рукой – то бишь именно то, что и должен был увидеть.
Нищий испуганно отпрянул, споткнувшись и едва не растянувшись на досках настила. Степан помрачнел ещё больше, решив, что побирушку напугало его обезображенное шрамами лицо. Люди часто пугались, впервые видя его, а иные и пальцем тыкали – экий, дескать, урод! Обычно Степан не обижался – привык, а вот сегодня испуг нищего калики показался обидным. И было отчего! На себя б сперва поглядел, а после других пугался. Что оборванный да грязный, то ещё полбеды; беда, что вместо носа тряпица засаленная, а сквозь редкие седые волосы на лбу воровское клеймо проглядывает. Глаза мутные, гноящиеся, из-под тряпицы тоже слизь сочится, в приоткрытой пасти редкие пеньки гнилых зубов виднеются…








