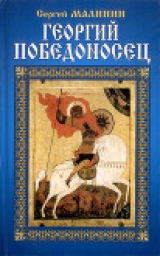
Текст книги "Георгий Победоносец"
Автор книги: Виктория Василишина
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
Степану-то что? Послужит, коль надобно, тем паче что у него в этом деле свой интерес имеется. А с князем, хоть он вроде и не худой человек, и Никиту помнит, мужичьему сыну взасос целоваться ни к чему. Сие давно каждому мужику ведомо: полюбит барин – беда, а разлюбит – того горше!
Вспять до Марьина оврага добежали к рассвету – верхом-то, знамо, сподручнее, чем на своих двоих. Караульных вырезали, как цыплят, никто и пикнуть не успел. Степан, грешным делом, сильно из-за тех караульных беспокоился: самому-то, в одиночку, нипочём до света не управиться, а вояки, коих княжич ему в помощь отрядил, и подвести могут. Однако ж народ подобрался бывалый, неробкого десятка и осторожный – одно слово, ертоульные, вчерашние порубежные стражи, к лихим ночным делам привычные.
Караульщика, что овраг со стороны болота стерёг, Степан нарочно напоследок оставил. Высмотрел нехристя в лопухах, которые по берегам ручья росли, пустил стрелу. Повалился караульный головой в ручей, будто перед смертью решил водицы испить, и к своему аллаху тихо отошёл. Тут, в десятке шагов от болота, Степан со сноровкой бывалого лесного охотника смастерил самострел, тетиву натянул и стрелу из своего колчана – приметную, с пёстрым кукушечьим пером – на неё наложил. Он, пока от оврага до русского лагеря шёл, всё голову ломал: а куда б он сам, приведись очутиться на месте Безносого Акима, при такой оказии подался? Оно, конечно, податься можно на все четыре стороны, а только самый верный путь к спасению, мнилось, лежал через болото. Кто тех мест не знает, тому оно непроходимым покажется, а стало быть, и подстерегать беглеца на его краю никто не станет.
Как солнце над лесом показалось, подал княжич сигнал, и пошло дело. Степан стоял со всеми в ряд, пускал стрелу за стрелой, и всякая его стрела крымчака наповал жалила – ни одна, а было их при нём без малого два десятка, даром не пропала. После, как стрелы вышли, взялся за саблю да за топор, побежал со всеми вниз, в овраг, – крымчака русским железом потчевать, чтоб он, нехристь, от того угощения дорогу в здешние места навек позабыл.
Рубился Степан лихо – вот именно, что за пятерых, как княжич Ярослав про него и думал. Работал обеими руками – в одной сабля, в другой топор, – крестил направо и налево, только мертвецы, как снопы, в стороны отлетали. Никакого азарта или тем паче упоения он при том не испытывал: сеча была просто ещё одной тяжёлой, опасной и грязной работой, что навалилась после бессонной ночи и долгого, утомительного перехода. Было, как на пожаре или при наводнении: только успевай поворачиваться, за соседом приглядывай да себя береги.
Потом сквозь дым да мельканье острого железа увидел, как Безносый крутится и приседает, будто в пляс пустился, увёртываясь от сабли татарина в богатом распоясанном халате – по всему видать, тутошнего воеводы. Ясно было, что крымчак винит перебежчика в измене и хочет с ним за ту измену расквитаться. Хотел, да не поспел – нашла его стрелецкая пуля, пал татарин, а Безносый на расседланного коня прыгнул и наутёк пустился – как Степан и думал, в сторону болота.
Часть крымчаков, числом около двух десятков, за ним увязалась, чая, что безносый проводник их из смертельной ловушки выведет. Один из тех татар, на Степаново счастье, а себе на беду, как раз мимо скакал. Степан его саблей с конской спины смахнул, коня за повод ухватил и сам на него запрыгнул. Тут ещё один крымчак набежал – этого топором. Увяз топор меж рёбер, намертво застрял, а доставать времени не осталось – пропал топор, с коим уж сколько лет не расставался. Жалко!
Поскакал оврагом Безносому вослед. Поначалу то и дело приходилось от татар отмахиваться – они, болезные, уж не столько врага истребить чаяли, сколько хотели коня у него отнять и подальше от этого пекла убраться. Но Степан, конечно, не дался – ещё чего! После и своих и чужих поменьше стало, а затем сеча и вовсе осталась позади, за поворотом оврага.
Вот тут-то выставленные по Степанову совету в конце оврага фальконеты один за другим и выпалили. Стреляли дробом, и Степан, который такого дива до сих пор в глаза не видывал, ужаснулся: и кони, и люди, и деревца молодые по сторонам оврага – всё так кубарем на землю и посыпалось. Скакало оврагом мало не два десятка верховых, а осталось пятеро, и впереди всех, ведомо, Безносый. На пути целая куча мала – кони в судорогах бьются, люди покалеченные криком кричат, и над всем этим дым пороховой, как туман, стелется, и в дыму стрелецкие пули посвистывают.
Всему тому дивясь и стараясь Безносого из виду не упустить, Степан заметил, что его тоже зацепило. Просто ударило что-то в бок – ну, ровно тупой палкой ткнули. Он и внимания не обратил: некогда. Безносый, бес заговорённый, стрелецкий заслон прорвал, через фальконет перемахнул и был таков, а татар, что за ним скакали, уж, почитай, всех до единого перебили. Последнего Степан на скаку поперёк спины саблей полоснул и даже глядеть не стал, как тот с лошади валится, – крикнул стрельцам-заслонщикам, что свой, и дальше помчался.
Когда вслед за Безносым перепрыгивал через установленный на деревянном раскате фальконет, татарский конь за край раската копытом задел. То ли конь попался худой, то ли седок для него тяжёл оказался, а может, просто не повезло; словом, как бы ни было, полетели они кубарем, да так, что любо-дорого глянуть – конь сам по себе, седок от него отдельно. Оно и хорошо, что седла не оказалось, – запутался бы в стремени, застрял и если не шею, так ногу б наверняка сломал. А так только лук за спиной хрустнул. Тоже, между прочим, жалко – лук-то был куда как хорош!
Глянул на коня – всё, отбегался конь. Бьётся на земле, пытается встать, а ничего не выходит – видно, ногу сломал. Кинулся по оврагу бегом, страшась Безносого упустить, и тут-то заметил, что с левого бока вся рубаха кровью набрякла. И сразу больно стало – ну, прямо ни вдохнуть, ни выдохнуть. Разозлился Степан: да нешто из-за такой малости, как случайная пуля или картечина шальная, он аспида безносого упустит?! Не бывать тому!
Побежал, стало быть, дальше. Сорвал на бегу пук каких-то листьев, под рубаху сунул и к ране прижал – покуда и так сойдёт, а там видно будет. Бежал из последних сил, понимая, что всё едино не поспеет. Пешему за конным не угнаться, особенно если конный от смерти бежит, а у пешего в боку такая дыра, что туда ежели не кулак, так палец наверняка просунуть можно.
Продрался через заросли, листья кровью своей пятная, выскочил на прогалинку, где самострел ставил, – ну, так и есть! Лежит на боку татарская лошадёнка, издыхает, и стрела у неё в груди торчит. А Безносого, ведомо, и след простыл.
И вдруг кусты у самой воды раздвинулись, и на прогалину вышел Безносый – с непокрытой головой, с клеймом на лбу, в татарском халате и с тяжёлой турецкой елманью в руке. Поглядел на Степана, мигом приметив и оценив и хриплое дыхание, и пропитавшийся кровью подол рубахи, что выглядывал из-под шкур, усмехнулся щербатой гнилозубой пастью и сказал гнусаво:
– Так вот ты каков, Леший. А я, вишь, решил дождаться старого дружка. Уж больно стрелы у тебя приметные, – он кивнул в сторону убитой лошади. – Я такие уж видывал.
– Знамо, видывал, – сказал Степан. – Ништо, Безносый. Где стрела сплоховала, сабля своё возьмет. Ныне за всё заплатишь: и за Зиминых, и за жену мою, горлицу ненаглядную, и за боярина, и за то, что татар сюда привёл.
– Эк важно! – рассмеялся Безносый. – Ты кто таков, чтоб с меня плату требовать? Все, про кого говорил, ныне косточки в земле парят. Скоро и ты, смерд неразумный, за ними в землю пойдёшь.
– То мы ещё поглядим, кого земля вперёд примет, – пообещал Степан.
– Знамо дело, поглядим, – согласился Безносый. – Гляди, смердушко, покуда есть чем!
Степан шагнул вперёд. Безносый вдруг сделал быстрое, неуловимое движение левой рукой, в которой что-то блеснуло, и Степаново плечо ожгла короткая боль. Скосив глаза, он увидел торчащий из плеча короткий нож, вырвал его из раны и бросил на землю.
– Везуч. Я-то в глотку целил, – сказал на это Аким и, быстро шагнув вперёд, взмахнул елманью.
Степан отразил удар своей саблей. Клинки глухо лязгнули, скрестившись, от удара разом онемела кисть руки – Безносый оказался неожиданно силён и проворен, а из Степана вместе с кровью вытекали последние силы.
– Попляши напоследок, милок, – нанося страшные удары, приговаривал Аким. – А то, может, споёшь? Горлица твоя, помню, так-то сладко под боярином пела! Бывало, по часу слушал, оторваться не мог. А когда и сам к ней захаживал… поворковать.
– За то я тебе сперва ворковалку твою отрежу, – ощущая вызванный лютой ненавистью прилив сил, пообещал Степан, сопровождая каждое слово сабельным ударом, – а после самого на куски изрублю и в болото брошу!
– Торопишься, холоп, – куражился Безносый, – не уловивши бела лебедя, да кушаешь!
– Это ты, что ль, белый лебедь?
– Ну, не ты ж, морда лапотная!
– На свою морду глянь, каторжник безносый!
– То не с каторги, – ловко орудуя тяжкой елманью, ухмылялся Аким, – то царёва печать, коей он моё чело отметил, дабы такие, как ты, смерды неразумные, издалека государева человека видели и место своё ведали!
– Оттого, видать, ты рыло своё от людей и прячешь, пёс клеймёный!
– На ж и тебе отметину!
С этими словами оттеснённый к самой воде Аким, изловчившись, рубанул Степана саблей по голове. Расширенный, утяжелённый конец елмани при таком ударе делал её подобной топору, своей тяжестью многократно увеличивая силу удара. Глаза у Степана закатились под лоб, и он, хрипя, с залитым кровью лицом упал на колени.
– А голова у тебя крепка, – с насмешливым уважением протянул Аким, снова занося над собой елмань. – Видно, из твёрдого дерева вытесана. Ништо, сейчас мы и этот комель расколем!
Он ухватился за рукоять елмани обеими руками, собираясь не иначе одним ударом располовинить надоевшего хуже горькой редьки Лешего до самой земли, и тут Степан, коему по всему полагалось бы уже испустить дух, коротко и сильно ткнул его саблей в открытый живот. Клинок вошёл под грудную кость, погрузившись до половины. Безносый удивлённо разинул рот, выронил елмань, постоял немного, будто решая, в какую сторону упасть, а потом повалился спиной в стоячую воду болота.
Какое-то время из чёрной болотной воды торчала похожая на покосившийся надмогильный крест сабля. Она медленно погружалась в трясину; скоро над водой виднелась одна рукоять, потом и она пропала. Потревоженная ряска тихо сомкнулась над местом, где упокоился безносый душегуб, но Степан этого уже не видел.
Глава 17
Ещё десять лет прошли, пролетели и сгинули, будто и не было их. Боярин Долгопятый за это время вконец остепенился, родил себе второго сына и даже как будто подобрел – может, время да спокойная жизнь так на него повлияли, а может, оказало себя отсутствие пернатого шута, который во время памятного похода боярина на войну куда-то пропал, как в воду канул.
Боярин о своём шуте не горевал. Первое-то время, конечно, беспокоился – а ну как Леший по его боярскую душу явится? Однако о Лешем с тех пор тоже никто и слыхом не слыхивал, и со временем боярин о той напасти и думать забыл. А раз Лешего нет, то и телохранитель боле не надобен. Ну его совсем, душегуба окаянного! Через него боярин такого страху натерпелся, что едва от того страху богу душу не отдал.
Во-первых, дело, ему доверенное, Аким провалил. Боярина подстрелил, как уговаривались, и крымчаков Девлет-Гиреевых в тыл князю Воротынскому провёл, а дальше у него всё наперекосяк пошло: и крымчаков княжич Загорский, ертоульного полка воевода, сыскал и побил, и сам Аким куда-то запропастился. Боярин, про то сведав, ни есть, ни спать не мог: а ну как Безносого княжич полонил, и ныне тот в расспросной избе на дыбе томится? Всё ведь скажет, пёс, всю подноготную выложит как на духу!
Потом, когда Воротынский большой кровью Девлета наголову разбил, привезли домой раненого боярского холопа, что в той битве участвовал. От него и дошёл до боярина слушок, что будто бы после вылазки в Марьин овраг ертоульные княжича Загорского на потеху бродили по всему лагерю в золочёной птичьей личине, точь-в-точь такой, как та, с которой Аким на людях не расставался. Стало быть, Аким и впрямь из того оврага не ушёл – то ли взяли его, то ли просто убили, неважно. Важно, что личину его, всей округе знакомую, в лагере видели и, откуда она взялась, знали. А ну как заметили начальные люди – князь Воротынский иль, к примеру, тот же Загорский Ярослав? Это ж измена, а за измену государь, поди, по головке не погладит!
Но обошлось, не заметили, а заметили, так внимания не обратили – мало ль чем простые ратники на отдыхе тешатся!
Даже милость царская боярину вышла. Про его ранение сведав, государь, сказывали, смеялся долго, а после пожаловал ему бархатную, шитую жемчугами да золотом подушечку, чтоб, когда садишься, под больное место класть. Тоже измыслил милость – на жемчугах сидеть! Оно и со здоровым-то задом не шибко приятно…
А всё ж таки добрых пять лет боярин из-за того дела был как на иголках. Успокоился только тогда, когда князь Воротынский, в немилость впав, сослан был в Белоозеро и по дороге в ту ссылку богу душу отдал. Загорский-княжич к тому времени уж давно на далёком балтийском побережье с ливонцами воевал; Иван Феофанович денно и нощно Бога молил, чтоб его там убили, и внял Господь – убили-таки, и стало после того у боярина на душе совсем спокойно.
Словом, жизнь вошла в колею и потекла, как когда-то, ровно да плавно, как тому и быть надлежит. Старый шут при такой жизни боярину только мешал бы, напоминая о грехах, которые тот старался скорее забыть. С глаз долой, из сердца вон – вот и весь сказ про того шута. Да и какой из него шут? Пугало воронье! Пропал, и шут с ним.
После тех лихих дел боярин в Свято-Тихонов монастырь зачастил. Молился в монастырском храме, истово бил земные поклоны, а после с игуменом отцом Апраксием в покоях его запирался и, как встарь, бражничал под неспешную, чинную беседу. Бывало, что и ночевать оставался, когда уж совсем после тех бесед лыка не вязал.
Вот и в тот день боярин, по обыкновению, приехал в монастырь. Игумен встретил его ласково, с крыльца сошёл и прямо на дворе, у возка, благословил, после чего на глазах у всей братии троекратно облобызал. Праздника никакого не было, но вином от иеромонаха попахивало уже с утра, что боярин и не преминул отметить. Раз игумен во хмелю, стало быть, в храм и ходить не надобно, можно сразу за стол садиться. Оно бы и недурственно, поелику аппетит у боярина от свежего воздуха да дорожной тряски зело взыграл – так бы прямо на ходу лошадь из упряжки вынул и съел.
Отец Апраксий кликнул случившегося поблизости чернеца и велел ему распрячь боярский возок, свести лошадей на конюшню и задать им овса. Чернец молча поклонился. Боярин на него глянул и даже вздрогнул, такая у Божьего человека оказалась страхолюдная образина. Бородища, как у лешего, через левый глаз сабельный шрам, а на лбу, прямо посерёдке, ещё один, да такой, будто его промеж глаз топором рубанули или Господь, прицелившись хорошенько, молнией прямо в темечко угодил. И кого только в монастырях не привечают!
– А сие что за богомерзкое видение? – спросил боярин у игумена.
– То не видение, – благодушно, как всегда, когда бывал под хмельком, возразил игумен, – то брат Варфоломей.
– Вот так брат! – хохотнул боярин. – Вылитый леший!
При этих его словах чернец вздрогнул, опустил глаза и, втянув голову в плечи, занялся лошадьми.
Игумен же подхватил боярина под руку и, миновав дорожку, что вела к храму, повлёк в свои покои, на ходу объясняя, что брат Варфоломей никакой не леший, а обликом зело страшен оттого, что во время нашествия Девлет-Гирея какой-то крымчак угостил его по голове саблей. Иной бы от такого удара дух испустил, говорил отец Апраксий, к брату же Варфоломею Господь явил особую милость, позволив ему выжить. Привезли его в монастырь после стычки в недалёком отсюда Марьином овраге всадники князя Загорского, и сам молодой князь с ними прискакал, дабы упросить отца Апраксия явить милосердие к раненому, который, по его словам, в жизни много грешил, но и многие грехи искупил своим геройством. Ежели княжича послушать, выходило, что, кабы не этот человек, крымчаки очень просто могли бы нашу рать побить и Москву взять, отчего произошли бы на Руси великие беды и напасти.
Отец Апраксий тогда сказал княжичу, что о милосердии его, смиренного раба Божьего, просить не надобно, ибо милосердие есть первейшая христианская добродетель, которую он, отец-настоятель, сам блюдёт свято и братию денно и нощно тому ж наущает. Правда, поглядев на раненого, тут же добавил: милосердие, мол, милосердием, однако с такой дырой в голове сей спаситель земли русской долго не протянет. Чудо, что до обители довезли, а всё иное в руце Божьей…
Раненый, однако ж, оправился на диво скоро. Оказался он зело смышлён, до учения охоч и в любой работе ухватист, а такие люди в монастыре лишними не бывают. Одна беда: память ему татарской саблей начисто отшибло. Ничего про себя не помнил: ни кто таков, ни как зовут, ничего. Даже про Марьин овраг не помнил и про то, как с крымчаками дрался. Видно, в прежней жизни был он и впрямь многогрешен, а когда свершил благое дело, Господь в великой милости своей сам, без покаяния, грехи ему простил и память о тех грехах у него отобрал – чего, в самом деле, человеку попусту мучиться?
Назвали его, безымянного, сперва Василием, а когда он, окрепнув и осмотревшись, попросился на послушание, нарекли Варфоломеем. Память к нему так и не вернулась, однако на способность внимать слову Божьему сие никак не повлияло. Приняв постриг, за год с небольшим освоил грамоту, коей до того, по всему видать, обучен не был, а помимо всего иного оказался ещё и знатным резчиком.
Разговор шёл уже за столом, на коем чего только не было – и дичь лесная, и рыба из монастырских прудов, и соленья разные, и варенья, а уж пива, вина да браги с избытком хватило б и на десятерых. Пищу вкушали с дорогой серебряной да золотой посуды, коей, не случись в своё время на пути татарского войска брат Варфоломей, ныне б храниться в войлочном шатре какого-нибудь крымчака – хоть бы, к примеру, и убитого в Марьином овраге мурзы Джанибека. Помыслить страшно, что из драгоценных кубков, куда только самое лучшее вино наливать, раскосый нехристь кумыс хлебал бы!
В своё время отец Апраксий в поте лица своего превзошёл сложную науку, именуемую риторикою, и не упускал случая ею воспользоваться. Наука-то, хоть и эллинская, была хороша и зело для дела полезна, ибо позволяла строить свои речи таким манером, чтоб собеседник, ни о чём не подозревая, забрёл в расставленную тобою словесную ловушку и сам, по своей воле, предложил то, о чём ты его хотел просить, да не чаял выпросить.
Вот и ныне игумен пустился неспроста в многословное жизнеописание вовсе не интересного боярину брата Варфоломея. Геройство его в бою с крымчаками и даже охота, с коей наущался грамоте и всему иному, ныне пришлись очень кстати. От Марьина оврага и пробитого черепа нынешнего чернеца игумен плавно и совсем незаметно перешел к Девлет-Гирею и славной победе князя Воротынского, а от хвалебных речей – к смиренному, но горькому сетованию по поводу великой крови, которой стоила та победа. И Москва сгорела, и народу полегло видимо-невидимо…
– А меж тем, – крепнущим голосом продолжал отец Апраксий, щедрой рукой подливая гостю вина, – всего того кровопролития можно было и избежать, кабы случилась вблизи места сражения некая чудотворная икона, через которую Господь уже однажды явил православному воинству свою милость, обратив в бегство татарские полчища.
Увы, рассыпать перлы красноречия перед Иваном Долгопятым было то же, что метать бисер перед свиньями.
– Это как же? – прочавкал он, заедая тонкое заморское вино жирной свининой. – Что ж я, с иконой должен был на войну отправиться? Окстись, отче! Война ведь, а не крестный ход! Да и знаешь ведь, что до войны настоящей я так и не доехал, подстрелил меня татарский лазутчик, чтоб в него черти в аду так до веку стреляли…
Игумен подавил горестный вздох, плеснул в боярский кубок ещё вина и продолжил упрямо гнуть своё, здраво рассудив, что, коль скоро намёков да околичностей боярин не понимает, надобно бить прямо в лоб.
– А вот хранилась бы она в монастыре, – мечтательно проговорил он и благочестиво возвёл очи горе, – как бы было гоже! Братия б на неё денно и нощно молилась, а когда икона намолена, сила её во сто крат возрасти может. Вынесли б её на поле брани – вот именно, крестным ходом, – глядишь, Девлет бы и отступил, гнева Божьего убоявшись…
Оказалось, что лоб у Ивана Феофановича твёрдый и что просто так, с наскоку, его не прошибёшь.
– Могло, могло такое случиться, – тяжко кивая головой, с значительным видом проговорил он. – Икона-то старинная, чудотворная. А только чего ныне про то говорить? И без иконы татарина прогнали, слава тебе, Господи…
– Татарина прогнали – швед придёт. Или немец. Или поляк какой, – окончательно плюнув на дипломатию, пошёл напролом игумен. – В монастыре-то, поди, сохраннее! А у тебя, батюшка, дети малые, неразумные. Далеко ль с ними до беды?
С боярскими детьми до беды и впрямь было недалеко. Вернее, младшенький, годовалый Алёша, пока что был дитя как дитя, разве что плаксивое – по всему видать, просто по малолетству не успел ещё явить себя миру во всей красе. Старший же, Гаврила Иванович, в свои одиннадцать лет уже стал сущим наказанием для всех, даже и для отца, который старался пореже его видеть. Ходил плохо, говорил и того хуже, зато, чуть что, ревел так громко и злобно, что хоть ты из терема беги. Нрава был угрюмого и нелюдимого, кошек и иную мелкую живность мучил нещадно, и дворню, хоть от земли ещё толком не отрос, тиранил люто. Когда наказывали, мстил – то отцу шубу бобровую ножом изрежет, то матери за мягкий упрёк кулаком глаз подобьёт, а то, было, схватил со зла скамейку и на глазах у всех высадил той скамейкой новёхонькое, только что вставленное окошко с тонким затейливым переплётом. Скамейка-то была тяжёлая, но и дитя уродилось на славу – пожалуй, даже крупнее, чем сам боярин в его возрасте был. Телом истинный богатырь, а умом – дурачок, карла злобный. Трижды пытался терем поджечь и однова́ исхитрился-таки, поджёг. Спасибо, заметили вовремя и потушить успели. И на икону святого Георгия, что правда, то правда, косился так, словно прикидывал, как бы ему изловчиться и тайком от всех её в печку сунуть.
Удар был хоть и поспешный, необдуманный, но при том мастерский, и угодил он в самое больное, незащищенное место, пробив даже неуязвимую броню боярского самодовольства. Однако ж отец Апраксий и тут не преуспел – вернее, преуспел совсем не в том, в чём тщился преуспеть. Задеть-то он боярина задел, и задел больно, презрев ради благого дела многие христианские добродетели, но вот свершить сие благое дело, сиречь сломить знаменитое упрямство боярина Долгопятого, ему и на сей раз не посчастливилось.
По самую макушку налившись тёмной кровью, боярин подался к игумену через стол, протянул руку и сунул отцу Апраксию под нос мясистый волосатый кукиш.
– А сие видал?
– Не видал, – отшатываясь от кукиша и крестясь, молвил отец Апраксий.
То была почти правда: кукиша он не видывал с тех пор, как сделался настоятелем монастыря, а это случилось так давно, что всё, что было прежде, уже подёрнулось дымкой забвения и казалось далёким сном.
– Так полюбуйся, – предложил боярин и в самом деле ещё какое-то время удерживал кукиш против игуменова лица, будто затем, чтоб отец-настоятель мог получше разглядеть эту нехитрую комбинацию из трёх пальцев. После боярину, видать, стало неудобно сидеть, навалившись на стол туго набитым пищей и налитым вином чревом, и он откачнулся назад, убрав, наконец-то, руку и расплетя сложенные в обидную фигуру пальцы. – На чужой каравай рот не разевай, – наставительно продолжал он, схватив кувшин и до краёв наполняя вином свой кубок. – Ишь, чего захотел – родовую святыню ему подавай! Мало я и предки мои твоей обители жертвовали? И ныне жертвую, не скуплюсь… А ты последнее отнять норовишь? Гляди, осерчаю! Гроша ломаного боле не дам и детям своим накажу, чтоб наперёд не давали!
– Господь… – слабым голосом начал отец Апраксий, мысленно кляня беса, что дёрнул его за язык.
– А Господу всё едино, какому монастырю я жертвовать стану, – хладнокровно добил его боярин. – Нешто в одной твоей обители Бога славить умеют?
– Не гневись, Иван Феофанович, – признав полное поражение перед тупым упрямством Долгопятого, смиренным голосом молвил игумен. – Не для себя старался, а для блага всего православного люда. Коль что не так, прости да забудь. А в обитель езди. Хоть и не жертвуй, а всё ж приезжай. Привык я к тебе, любо мне с тобой. Уж больно ты хороший, душевный человек!
Грубая лесть, как всегда, оказала благотворное воздействие на расположение духа Ивана Феофановича. С довольным видом хрюкнув, он стал высматривать на столе, что бы ещё такое съесть.
– И ты мне люб, отче, – сказал он, рукой хватая с блюда мясистую куриную ногу и плотоядно облизываясь. – Прости и ты меня, ежели в каком грубиянстве повинен.
– Бог простит, – сказал отец Апраксий. – Давай-ка лучше батюшку твоего, Феофана Иоанновича, помянем по христианскому обычаю.
Помянули покойного боярина, поговорили о том, каков он был набожен, к простому люду добр, на поле брани доблести, а в мирной жизни иной добродетели исполнен. Под такой разговор было выпито и съедено столько, что уж и дышать трудно сделалось, а не токмо говорить. Иван Феофанович откинулся от стола, привалился жирными лопатками к стене и, давая себе роздых, рассеянно ковырял пальцем в зубах. Как всегда, когда гостил у игумена, после доброго застолья недоставало пляшущих дворовых девок иль какой другой потехи. В иные времена, по слухам, и жизнь была иная, но Иван Долгопятый той жизни уж не застал. Тёзка его, царь и великий князь Иван Васильевич, щедро наделив монастыри землями, строго-настрого запретил чинить в святых обителях пьянство и блуд. И сюда влез, окаянный! До всего ему дело, всякого норовит к ногтю прижать, и чем дольше правит, тем лютее. Вот и приходится им с игуменом бражничать один на один, затворившись в покоях. А с другой стороны, ежели подумать, хороши, видать, были монахи, коль их пришлось царскими указами да стрелецкими бердышами к монашескому смирению плоти приводить!
Взгляд его рассеянно скользил по неровно оштукатуренным, белённым известкою стенам, на коих, опричь икон, ему не за что было зацепиться. Заскучав, боярин повернул голову и поглядел в открытое по случаю летней жары окошко, из коего веяло тёплым, душистым, прилетевшим с дальних лугов ветерком. К запахам луговых трав и сосновой хвои примешивался несильный, но легко различимый аромат конского навоза, доносившийся со стороны монастырской конюшни. По вытоптанному до голой земли, лишь вдоль стен обрамлённому зелёной муравой двору, сутулясь, брёл куда-то по своим делам рослый чернец, богатырского сложения которого не могли скрыть ни согбенная спина, ни просторный, выгоревший на солнце подрясник.
Будто почувствовав на себе взгляд боярина, чернец обернулся, оказавшись тем самым уродливым братом Варфоломеем, о котором столь долго толковал игумен. На краткий миг взгляды их встретились, и Иван Феофанович испуганно отшатнулся от окна. А когда снова в него выглянул, чернеца на дворе уже не было.
Испуг прошёл, но боярин ещё долго скрёб в бороде и хмурил брови, гадая, отчего это во взгляде убогого калеки-чернеца ему вдруг почудилась свирепая, неутолённая жажда убийства…
* * *
Брат Варфоломей и правда ничего не помнил.
То есть помнил-то он многое. Помнил, как срубить избу и сложить печь, как вырезать из грубой доски конька, чтоб увенчать крышу, или ажурный наличник с петухами, цветами да травами. Помнил, как поймать в быстрой реке хитрую рыбину, как расставить в лесу силки да ловушки, как подстрелить из лука дикого кабана или принять на рогатину медведя. Помнил травы – какие для заживления ран, какие от прострела, от лихорадки, от зубной боли и от любой иной хвори. Где и когда их собирать, как сушить, как толочь да заваривать, помнил. Как косить траву, ходить за скотиной, как наточить до бритвенной остроты топор – словом, как справить любую хозяйскую мужичью работу, он помнил преотменно.
А вот про себя не помнил ничего, даже имени.
Брат Серафим, монастырский богомаз, бывало, говаривал: это, дескать, оттого, что крымчак тебя по голове ударил, а не по рукам. Имя да звание голове памятны, вот они от того удара из неё и выскочили. А работу руки помнят, и, раз руки целы, ремесло твоё в них осталось.
Видно, так оно и было. Иного объяснения новонареченный брат Варфоломей не нашёл бы, даже если б искал. А он и не искал вовсе – на что оно ему сдалось, то объяснение? Память – не монета, и там, где потерял, её уж не сыщешь, сколь ни ищи.
Ещё брат Серафим сказывал, что ему, Варфоломею, надобно денно и нощно Господа славить за чудесное своё спасение. Ибо, когда привезли его в монастырь ратники князя Загорского, был он вовсе не жилец.
Новонареченный Варфоломей и тут не спорил. Когда с него повязки сняли, ощупал он себя и понял: воистину, свершилось чудо Господне. В левом боку, аккурат где рёбра, яма, а в голове так и вовсе ямища. Срослось неправильно, вкривь и вкось, но срослось всё ж таки, хотя по всему и не должно бы. По правде говоря, тот крымчак, иль кто там ещё его так изукрасил, брата Варфоломея насмерть убил. Сам он, толк во врачевании ран откуда-то понимая, за такого раненого, поди, и не взялся б, а если б и взялся, так потому только, что нельзя человека, который ещё дышит, оставить под забором подыхать, как шелудивого пса.
Да с ним самим, видать, так же и вышло: приняли его монахи, чтоб на голой земле не преставился, а выходить не чаяли. А он выжил, и что сие, если не чудо? Игумен, отец Апраксий, сказал, что чудо это предивное братия монастырская усердной молитвой снискала. Может, и так. А может, и по-иному как-то; может статься, имел на него Господь какие-то свои виды, вот и не дал раньше срока в землю уйти.
Первое время маялся, гадая, есть ли у него семья и если есть, то где. Хотел искать, а после передумал: как искать-то, ежели не ведаешь, кого ищешь? Хотели б, так сами, поди, давно сыскали б. Да и на поиски те его голова подстрекала, а сердце подсказывало: не ходи, пустое. Нет у тебя никого, опричь монастырской братии, вот с ней и оставайся.
Он и остался. Первое время за лошадьми ходил, дрова для бани колол и иной чёрной работой пробавлялся. Изредка захаживал к брату Серафиму в иконописную мастерскую – сам не ведал, что его туда тянет, но тяге той не противился. Брат Серафим, на старости лет сделавшийся зело сварливым да вспыльчивым, его, знамо дело, гнал, особенно на первых порах. Потом попривык, а может, просто рукой махнул: чего гнать-то, ежели он назавтра сызнова явится? Вреда никакого не чинит, не говорит даже, стоит себе в сторонке да глядит – ну, будто и нет его. После оглянешься, а в келье уж всё чистотой сверкает, кисти да горшочки с красками по полкам аккуратно расставлены, всякая вещь на своём месте, а брата Варфоломея и след простыл. А однажды вот так стоял-стоял да вдруг возьми и скажи: сюда-де кармину не худо б добавить. Хотел брат Серафим умника взашей выгнать и поленом по хребту на дорожку благословить, а после глянул на свою работу и призадумался: может, и впрямь добавить кармину? Мазнул разок на пробу – и заиграла икона, прямо изнутри неземным светом озарилась. А брат Варфоломей сзади говорит: «И будет. Теперь, мнится, в самый раз».








