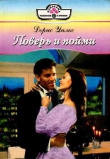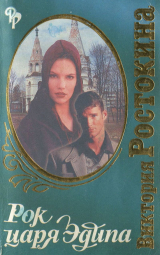
Текст книги "Рок царя Эдипа (СИ)"
Автор книги: Виктория Ростокина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
«О чем это я? – одернула она себя. – Ревнивая мать или ревнивая… Нет, мать! Я – мать!!!»
Глава 15
Почтовый роман
В тот год осень в Москве выдалась настоящая – золотая, солнечная, теплая.
Никто не встречал Инну в аэропорту. Их тургруппу вез в гостиницу экскурсионный автобус. Инна ехала в Россию налегке, с одной сумкой, как ездила везде и всюду. Сумка, правда, была большая – внутри, в отдельном полиэтиленовом пакете, ярком и объемистом, были подарки Леше. Пятнадцатилетнему Леше, с которым она наконец собиралась встретиться, не таясь и не скрываясь.
Джинсы Инна выбирала долго, боясь ошибиться в размере и гадая, что же сейчас модно в Союзе. Она купила джинсы на вырост, учла, что Леша высокий, в отца, а покрой выбрала классический. Темно-синие «Levi’s», без всех там кнопок и заклепок.
«Классика – это то, чего он лишен. У них все время какие-то моды», – думала Инна и по этому же принципу искала кассеты к плейеру, который тоже везла в подарок. Леша, наверно, никогда не слышал старый джаз. Вдруг ему не понравится? Может, не рисковать, расспросить улыбчивого негра-продавца, что сейчас слушают пятнадцатилетние. Через год это будут слушать и в Союзе. Но какая-то нелогичная, несуразная, глупая гордость заставляла ее выбирать музыку для своего сына, как для взрослого, близкого человека, которого знаешь очень давно. Луи Армстронг, Элла Фицджералд. И еще, конечно, король рок-н-ролла Элвис Пресли. Инна все же купила одну кассету с какой-то новомодной ритмичной музыкой, под которую обычно лихо отплясывали чернокожие подростки. И еще одну, новый альбом некой бритоголовой ирландки, имя которой Инна все время забывала, но песни, однажды услышав, запомнила. Слова были простые и незатейливые, но в музыке, голосе – столько страсти и боли, сколько не изобразишь, тщательно продумывая, как понравиться публике…
«Узнает ли он меня? Как будет разговаривать? Какого он сейчас роста?» – думала Инна, глядя на мелькавшие за окном московские улицы.
Москва менялась.
На тротуарах с лотков торговали фруктами. Инна наблюдала эти новшества с любопытством, но без всякого интереса. Ее интересовала только встреча с сыном.
В гостинице «Россия» где их поселили, в своем одноместном номере, подойдя к окну, Инна глядела на Москву-реку, эту узкую, грязную и любимую реку, и вспоминала…
Две недели назад, когда Тэда не было дома, она сняла трубку телефона и, не давая себе опомниться, передумать, быстро набрала номер.
Длинный гудок. Второй.
«Сейчас трубку возьмет папа – и все. Я не смогу с ним поговорить. Леша! Лешенька! Сыночек! Хоть бы ты был дома, хоть бы ты подошел к телефону!»
И затаив дыхание, с сердцем, бьющимся у горла, услышала в трубке юношеский голос:
– Алло.
– Леша?
– Да.
– Леша, здравствуй…
– Здравствуйте. Кто это?
– Это… Это…
«Что же ему сказать? Имя? Или что-нибудь соврать? Нет, – не трусить! Главное – быстрее».
– Это твоя мама.
На другом конце была тишина.
Инне казалось, что она уже не дождется ответа.
– Да? – как будто удивленно спросил он. Так можно было переспросить, идет ли на улице дождь. – Здравствуйте.
– Я… Я скоро буду в Москве. Давай увидимся? Я тебе кое-что привезу…
«Идиотка! Зачем я это сказала?! Как будто приманиваю. Он сейчас обидится и бросит трубку».
– Давай увидимся… – повторила она.
– Давайте, – спокойно сказал он.
И замолчал.
– Я приеду… – недели через две-три… куплю тур… сейчас это просто… Я приеду и позвоню тебе… Хорошо?
– Хорошо.
«Все. Надо класть трубку. Он не будет со мной разговаривать. Он будет отвечать на вопросы из вежливости. Все! Быстро заканчивай разговор! Сейчас же!»
Она в который раз приказала себе, мысленно кричала на себя, ругалась. Ни одному человеку она бы не позволила этого.
– Леша. Я приеду и позвоню. Я позвоню… только тебе. Боюсь, что дедушка не захочет меня слышать…
Молчание в ответ.
– Я позвоню, Леша… До встречи…
– До свидания.
Он не положил трубку первым. Молчал и ждал.
Она первая нажала кнопку.
И заплакала. Она не плакала очень давно. Она никому не позволяла довести себя до слез…
И вот она в Москве, в гостиничном номере, Инна отвернулась от окна. Можно было позвонить прямо сейчас. Нужно было. Но ей было страшно.
Пересилив страх, она подошла к журнальному столику, дотронулась до трубки.
«Нет, не могу. Страшно! Он почувствует мой страх, он станет меня презирать: вот еще, чувствительная натура, сына бросила, а теперь от волнения слова сказать не может. Ничего. Завтра позвоню».
Завтра была экскурсия в Кремль.
Маленькая, юркая рыжеволосая девушка, гид и переводчик их тургруппы, полукруглыми взмахами тоненькой руки предваряя каждую свою новую реплику, будто очерчивала, обозначала окружающий мир.
Инна, как и все, задавала ей какие-то вопросы. Как и все, по-английски. Девушка была русская, ее звали Лена, но Инна почему-то не хотела говорить с ней по-русски.
В этом городе она хотела говорить по-русски только с одним человеком.
И не могла.
Вечером того дня она раз пятнадцать набирала номер.
Было занято.
«Вдруг телефон сломался? Или отключили?» – с тревогой думала Инна.
И тут же себя успокаивала: «Леша говорит с кем-то. Ему пятнадцать, у него наверняка много друзей, подруг… Я здесь буду целую неделю!»
На третий день к ней в номер после очередной экскурсии завалились соседи, жизнерадостная американская семья: мама, папа и двенадцатилетние сыновья-близняшки. На экскурсии она заинтересовалась их мини-видеокамерой – «восьмеркой», и теперь они показывали ей, что наснимали.
Американцы были уверены, что их шумное общество и видеодневник нужны Инне. Ведь она так интересовалась, как они управляются с этой техникой.
Им было невдомек, что она спрашивала просто так, лишь бы что-то у кого-то спросить, чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей о единственном человеке, ради которого приехала сюда.
Вечером четвертого дня вообще началась какая-то телефонная мистика. То было занято, то, наоборот, длинцые гудки. Раза четыре Инна попадала не туда, причем все в разные квартиры. Кто-то обложил матом, кто-то вежливо и сухо посоветовал правильнее набирать номер, кто-то, буркнув: «Нет таких», бросил трубку, а веселый девчоночий голос сказал:
– А он в Америку уехал. Знаете, женился и в Америку уехал.
Хихиканье в трубке сменилось короткими гудками.
Инна грустно усмехнулась.
Наконец на пятый день Инна дозвонилась.
И услыхала знакомое отцовское:
– У аппарата.
Она тут же повесила трубку.
«Нет! Не буду с ним говорить. Только с Лешей… Вдруг Леша ему рассказал, что я звонила. Вдруг они договорились, что дед не позовет его к телефону».
Преодолевая страх, она позвонила через пятнадцать минут.
Опять: «У аппарата», опять молча положила трубку.
Еще через полчаса было занято. Инна уже испугалась, что сейчас начнется вчерашнее, проклинала старые московские АТС и снова набрала номер через пять минут.
– У аппарата… Говорите же! – И в глубь квартиры: – Алексей! Скажи своим дружкам, чтобы они мне тут не молчали в трубку!
Шаги.
Юношеский голос:
– Алло.
– Леша, это мама. Я в Москве.
Молчание.
Голос отца:
– Опять этот твой Серега?
И голос Леши не в трубку:
– Нет.
– А кто? Кто это такой хам?
– Дед, ты его не знаешь. – И в трубку: – Алло.
– Леша, ты меня слышишь?
– Да.
– Ты… Ты свободен завтра вечером?
– Да.
– Давай встретимся. Где-нибудь в центре. Посидим в ресторане. Или в кафе. Или погуляем… Может быть, зайдешь ко мне? Я живу в гостинице «Россия». – Инна не знала, что еще сказать, что предложить.
– Лучше на Чистых прудах. В «Джале», – наконец сказал Леша.
– Где?
– В «Джалтаранге». Это индийское кафе. На пруду. Там, где столики на улице. В семь часов, нормально?
– Нормально, – обрадовалась Инна.
– До завтра, – Леша повесил трубку.
На следующий день в половине седьмого Инна вошла на небольшую открытую площадку между кафе и берегом пруда. Нашла свободный столик, положила на него яркий большой пакет, отодвинула стул, села. Но через минуту встала, начала прохаживаться около своего столика взад-вперед, стараясь не особенно часто оглядываться по сторонам. И все время глядела на часы…
В половине седьмого Леша вышел из метро. Увидев, что трамвая нет, прошел мимо остановки, не замедляя шага.
Он шел по правой стороне бульвара и старался ни о чем не думать. Только о том, что, если на следующей остановке его догонит трамвай, он все же подъедет на нем до «Джала»… Трамвай со звоном затормозил у остановки именно тогда, когда подошел Леша, и он вошел в распахнутые двери.
Вот трамвай катится вдоль по бульвару, слева появляется «Джал», а вот и столики у пруда, там пьют кофе длинноволосые хиппушки, и панки с булавками в ушах и на куртках, и разные другие тусовщики, и простые, незаметные люди… И среди них возвышается… Двигается, ходит, как львица в клетке, оглядывается вокруг… Высокая, стройная, светловолосая… Знакомая, будто видел где-то совсем не здесь, будто знал всегда…
Леша приник к стеклу, пытаясь разглядеть, увидеть…
Но трамвай ехал мимо, остановка была дальше, сейчас надо было выйти, вернуться по берегу пруда обратно, пройти между столиками и…
Двери со скрипом открылись… Сделать шаг вниз, на асфальт. И зашагать туда…
Леша не двинулся с места. Он вцепился в поручни так, что побелели костяшки пальцев. Он смотрел в разверстые двери, пока они не захлопнулись…
Трамвай довез его до «Новокузнецкой». Там он поднял голову, спохватился, выскочил и вбежал в метро…
В своем первом письме Леше Инна писала:
«Я ждала два часа. Я не решалась позвонить вечером, а на следующий день я уже улетала. Может быть, тебя задержали в школе и ты не смог прийти? А может быть…»
Дальше она полстраницы туманно и запутанно объясняла то, что укладывалось в одну фразу: может быть, Лешу не пустил дед. Инна была уверена, что Николай Павлович непременно вскроет письмо, поэтому старалась писать об их ссоре как можно лояльнее, надеясь, что тогда он все же передаст письмо своему внуку.
Когда прошло два месяца, а ответа все не было, Инна решила, что отец перехватил письмо и писать не имеет смысла. Но все же написала второе письмо.
«Лешенька, как ты там? Нашла ли тебя рыжая девушка Лена, передала ли от меня пакет? Там джинсы, всякие футболки и носки, а еще плейер и кассеты. Может быть, у вас молодежь такую музыку не слушает. Но мне все это нравится. А тебе?»
Инна ничего не писала о своих опасениях, что Лена оставила пакет себе. Она понимала, что опасения были глупыми. Она хорошо заплатила Лене, и эта маленькая рыжая гидша показалась ей человеком, который честно выполнит просьбу.
О том, что Николай Павлович может прочитать ее письмо, она уже не думала. О нем она больше и не писала.
Она написала подряд три письма и новогоднюю открытку.
В письмах рассказывала о своей жизни на ранчо, об Америке. Написала, как погиб его отец, как она рожала, умоляла простить за то, что оставила его, надеялась, что он ее поймет.
Прошло три месяца.
Ответа не было.
Приближался Лешин день рождения.
«Как его поздравить? – думала Инна. – Боюсь, что письма не доходят. Что отец их выбрасывает. Или сам Леша, не читая. Или читает и выбрасывает без сожаления, лишь бы забыть поскорее… Боже, я всего боюсь. Нет, так нельзя».
И тут ее осенило.
Года два назад, когда они с Тэдом были в Нью-Йорке, на какой-то вечеринке она разговорилась с одной эмигранткой – писательницей, чуть старше ее.
Может быть, из-за выпитого или из-за русской речи, но она говорила с этой чужой женщиной как с подругой.
Рассказала, что у нее в России растет сын. Что страшно скучает, мучается. И что постоянно придумывает для сына сказки. Даже начала рассказывать одну.
– Ой, Иночек, это же надо срочно публиковать. Потрясающий наив! Вы… вы литературный Пиросмани! – перебила ее писательница.
И стала показывать Инне свои скучно-заумные эссе в эмигрантской прессе.
Ее похвалы Инна сочла бы просто пьяным бредом, но через два месяца писательница позвонила ей и сказала, что редакция ждет ее сказки. Сказала тоном деловым и уверенным.
«Пусть ждет. Все равно не дождется. – Инне вдруг стало очень легко и хорошо. – Они не мои. Они Лешины. Они только для него».
Обо всем этом Инна написала сейчас в письме. Хотела еще написать, что отлично понимает, что эти сказки могут вызвать у Леши раздражение, что они опоздали, что не это нужно от матери…
Но не стала. Просто начала на отдельном листке:
«Жил был Лешень.
Лешень жил в комнате над диваном. Под потолком. Там у него было гнездо, как у ласточки. По утрам Лешень вылетал из гнезда и летел куда хотел…»
Сказка получилась на пять страниц.
«Что я делаю? – в ужасе думала Инна, запечатывая письмо. – Теперь-то он точно возненавидит меня с моей сентиментальной чушью».
Ей опять было страшно. Еще сильнее, чем тогда, когда говорила по телефону. Сильнее, чем в Москве.
И Инна опять приказала себе: «Не бояться!» И опустила конверт в почтовый ящик.
Через полтора месяца от Леши пришло письмо.
Он отвечал на многие ее вопросы. Писал, что учится хорошо, только по русскому и истории тройки. Что дед здоров. Что джинсы носит, что музыка – классная, он только эти кассеты и слушает, батареек для плейера не напасешься.
Он ничего не писал только о несостоявшемся свидании в «Джале». И о сказке тоже ничего не писал.
Инна перечитывала письмо и плакала, улыбаясь.
Он принимал ее. Он становился сыном.
А она – матерью.
Глава 16
Модный театр
Жара страшная.
Вспоминается детский восторг от маминых «шпилек», оставляющих дырочки в нагретом асфальте. Сейчас легкие матерчатые туфли, кажется, прилипают к расплавленному на солнце тротуару. Нет, конечно, только кажется…
Инна шла быстро и вроде бы бесцельно. То есть цели не знала. Но знала, на что охотится.
«Загнанный зверь. Животное, бегущее от собственного инстинкта. Сезон охоты открыт, господа-товарищи! Безумная мать (перемать!) охотится на произведения искусства!»
Так думала, шагая вперед, глядя по сторонам, развлекая и подхлестывая саму себя.
«Но должны же быть где-то все эти кинотеатры, театры. Бары, в конце концов. В Москве, говорят, открылось несколько приличных баров, где всех этих новых бандитов мало, а хороших музыкантов – много…
Нет. Бар – это не то», – почему-то решила Инна, шагая дальше.
«Да и кинотеатр – тоже не то. Я, похоже, вообще не знаю их нынешней жизни. То почему-то жду, что все здесь как в Штатах, то думаю, что попала в каменный век. Кино они наверняка смотрят только на видео. А вот театр может быть только в театре…»
И тут же взгляд ее зафиксировал театральную кассу у станции метро.
Инна прибавила шаг…
– У вас есть что-нибудь современное… интересное для молодежи с хорошим вкусом, – попыталась объяснить Инна, наклонившись к окошку. – Ну, понимаете… Как когда-то «Современник», Таганка…
Киоскерша, сухая дама неопределенного возраста, тут же поняла. Назвала какую-то фамилию, которая явно не требовала комментариев. Инна сразу почувствовала себя здешней, советской, будто и не уезжала, – вместо того чтобы расспросить, кто это, чем знаменит, что поставил, она согласно закивала: мол, как же, конечно, знаю.
«Что за трусость? Почему? Разве стыдно чего-то не знать? Столько лет считаю себя свободным человеком… Неужели вся моя свобода зависит только от страны?»
Киоскерша уже говорила что-то о спектакле, на который рекомендовала сходить. Инна кивала с понимающим видом, а сама пыталась вспомнить фамилию режиссера. Фамилия моментально исчезла, испарилась из памяти. Осталась лишь ассоциация, ощущение: короткий звук, как топориком щепу – на мелкие лучины для растопки… Инна уже судорожно придумывала, как теперь узнать адрес этого знаменитого театра, но киоскерша сама объяснила ей, как проехать, добавила:
– Вы же знаете, у них нет своего помещения.
– Конечно, знаю, – кивнула Инна.
Отдала деньги – и понесла добычу домой…
Да, Инна боялась. Трусила. Никакой свободы, никакой уверенности. И не из-за какой-то киоскерши. Просто не было земли под ногами, каждый шаг – как в вязкую пустоту, каждая минута – как неритмичное тиканье сломанных часов.
«А если они вообще не ходят в театр? Никогда? А если Леша заупрямится, выкинет еще какую-нибудь глупость? Или Надя вдруг откажется пойти? Мол, голова болит, извините. Все вежливо, естественно, ненаигранно. Она же умная. Не захочет отвлекаться, развлекаться, приобщаться к искусству всем вместе. Захочет своего Лешу проверить, отпустить со мной вдвоем. А как вернется – в глаза заглянуть… Я бы сделала именно так…»
Будто споткнувшись об эту мысль, Инна остановилась у двери, медля доставать ключи.
«А ну не ври самой себе. Не ври! Ведь пошла бы с ним одна и без этой Нади, сидела бы рядом, искусство – это чистое и возвышенное наслаждение, ничего предосудительного, все играют свои роли… Нет. Не вру. Правда хочу пойти втроем, посмотреть хороший спектакль всем вместе – и забыть там обо всем, выйти оттуда настоящими, нормальными людьми…»
Инна повернула ключ в замочной скважине, вошла и прямо с порога провозгласила:
– Надя, Леша! Мы сегодня вечером идем в театр.
Квартира молчала. Потом отец откликнулся из своей комнаты:
– Чего кричишь? Нету их.
Инна почувствовала себя ватной куклой, из которой вытянули проволочный каркас.
Но через полчаса пришла Надя (она ходила за хлебом), через полтора – Леша. Оба они восприняли известие о вечернем культпоходе спокойно.
Собираться начали заранее.
Инна заперлась с Надей в ванной и под прямым светом электрической лампочки – голой, без абажура вкрученной в патрон, торчащий из стены над зеркалом, – стала объяснять, что такое макияж и чем он отличается от малярных работ и боевой раскраски индейцев.
Надя слушала внимательно, произнося быстро-заинтересованно «мгм» и опасаясь кивать головой.
«Кожа у нее, конечно, не очень хорошая. Просто плохая. И цвета лица никакого. Я в ее возрасте… А что – я? Что от меня осталось – не на лице, а там, внутри? Да и что могло остаться… Все Юра с собой забрал».
– Сейчас подводка снова в моде. Но тебе она, по-моему, не нужна. Ну что? Решай, – говорила Инна вслух.
И Надя раскрывала глаза, сосредоточенно глядела на Инну снизу вверх, будто решая что-то действительно важное.
«Ах, какие у нее глаза! Как вишни. И взгляд светится. Не дай Бог ей никакого горя. Не хочу, чтобы у нее – как у меня!»
И Инна провела кисточкой по Надиному веку – твердым и точным движением.
– А теперь сама.
Надя пыталась провести линию над левым глазом абсолютно симметрично. Получилось не так аккуратно – Инна поправляла, чувствуя себя то ли ювелиром, то ли микрохирургом.
В итоге Надя превратилась в девушку семидесятых годов.
Театральная публика была вроде бы разношерстной, но все были чем-то неуловимо похожи друг на друга, как старые пластинки, которые пылятся в углу рядом со сломанным проигрывателем, становясь одинаковыми черными виниловыми кругляшками в разных бумажных конвертах. Все эти экзальтированные стареющие дамы в шелках и трикотаже, шумные и развязные, как юные девицы; и юные девицы, одетые в черное, угрюмые, как брюзжащие старики; и старики в экстравагантных пиджаках и рубашках, бросающие куда-то в толпу пылко-умиленные взоры, как влюбленные юноши; и юноши, жеманно ломающие руки и опускающие взгляд, – все это Инна, конечно, не раз уже видела. Нью-Йорк, Нью-Йорк, живая легенда, миф о полной свободе, который еженощно творят заново во многих барах, таких же, какие есть в изобилии и в Мюнхене, и в Амстердаме. Инна даже побывала там пару раз из любопытства. Но быстро поняла, что это ее любопытство вроде похода в зоопарк, и стало неприятно не от того, что вокруг, а от того, что в себе…
Но тут было по-другому. Здешняя публика жила своими страстями и интересами будто напоказ, будто оглядываясь через плечо и отчаянно выкрикивая: вот, смотрите!
«И эта девица-вамп, которая говорит с Лешей и Надей, – какая-то вся ненастоящая, замороженная… Но пусть говорит. Мне хотя бы не надо ничего объяснять, выяснять».
К Наде с Лешей подошла Иришка.
– Хорошо выглядишь, котик, – улыбалась она Наде. – Вы откуда здесь?
– А мы… вот… в театр решили сходить, – произнесла Надя, недоуменно оглядываясь вокруг и пытаясь обнаружить многочисленных Иришкиных поклонников.
– Мама взяла билеты, – невозмутимо сказал Леша. – Мама, познакомься, это Ира.
– Мы с Надеждой учимся вместе, – Ира протянула ей руку, улыбаясь и скользя взглядом из-под полуприкрытых век по лицу Инны и мимо, куда-то вбок.
– Это Ира нас с Лешей познакомила, – успела вставить Надя.
– Очень приятно, – Инна пожала протянутую ладонь с длинными ногтями, покрытыми черным лаком.
С ранней юности по силе рукопожатия, по ощущению от кожи другого человека Инна безошибочно понимала, что это за человек.
«Несчастная, неуверенная в себе девочка. Жутко волнуется. А с виду и не скажешь». И Инна улыбнулась Ире открыто и дружелюбно.
Ира вновь жеманно улыбнулась в ответ.
«Как она изменилась! – недоумевала про себя Надя. – И что она здесь делает? Она же из дискотеки не вылезала. И эта короткая стрижка… И черное она никогда не носила…»
Одного Лешу, похоже, не интересовала ни Иришка, ни факт столь неожиданной встречи, ни одежда и манеры окружающих. Он смотрел застывшим, отстраненным взглядом поверх голов, в голубых глазах – тусклый блеск льда.
«О чем он думает? Что за этим холодным взглядом? Я же чувствую… Меня ему не обмануть», – подумала Инна, кивая на прощание Иришке.
А Иришка уже стремительно пробиралась сквозь толпу. Надя проследила за ней взглядом – она подошла к молодому человеку, увлеченно беседующему с другим юношей. Молодой человек носил прическу каре и кивнул Иришке с рассеянной улыбкой, не удостоив и взглядом.
«Зачем она? Зачем она так? Унижается, стоит рядом. Ждет от него слова, как милости, – мысленно ужасалась Надя. – И это наша Иришка, за которой весь институт бегает. Зачем все это… И зачем она нас сюда привела?»
Надю потянули за рукав. Она дала Инне увести себя и покорно заняла свое место.
Посередине. Справа – он, слева – она. Впереди – сцена. Надя застыла, глядя прямо перед собой. Она боялась пошевелиться, боялась повернуться, будто, если взглянешь вправо-влево – окаменеешь, застынешь навеки.
На сцене происходило нечто вполне обычное – две женщины замышляли убить третью. Она была несомненно богаче, вероятно, красивее и, возможно, более любима, чем ее две сестры. Сестер играли мужчины. Их хозяйку – тоже.
Надя пыталась сосредоточиться на игре актеров, на их лицах, разрисованных гримом такими же четкими плавными линиями, как виньетки в журналах десятых годов, которые она видела в книжном шкафу у одной своей подружки, коренной москвички.
«Костюмы, танцы, декорации – смотрю на это и думать должна об этом», – приказывала себе Надя.
Но что-то холодное, злое, пугающее мешало спокойным мыслям об искусстве. Надя поняла, что она даже на сцену смотреть не может – взгляд ее съезжает вниз, на затылки сидящих впереди, и ее ничего не интересует, и только одна мысль бьется в голове:
«Зачем она нас сюда привела? Сейчас какую-то глупость скажу. Гадость какую-нибудь», – с ужасом подумала Надя.
И тут же, не давая себе опомниться, не поворачиваясь, свистящим шепотом:
– Инна Николаевна, вам нравится? Лека, а тебе?
Леша невозмутимо пожал плечами.
– Это… интересно, – негромко произнесла Инна. – Понимаешь, есть древняя традиция… в японском театре… В антракте поговорим, хорошо?
Надя быстро-быстро закивала; мол, конечно, разговаривать неприлично, все понятно.
«Она привела нас нарочно».
И девушка вновь застыла, глядя прямо перед собой.
«Что теперь будет? – лихорадочно размышляла Инна, косясь то на Надин профиль, то на лицо Леши, похожее на непроницаемую маску. – Что я наделала! Почему не расспросила, что за спектакль, что за театр…»
«Да, она привела нас сюда нарочно. Чтобы мы, глупые, посмотрели, как современные люди живут. И с кем живут…»
«Надо сейчас Наде объяснить, рассказать… И Леше, и Леше тоже… Он умеет молчать. Это мне не нравится. Надя – нет, хоть она и тихая… Вот сказала же… Что же теперь будет?! Она наверняка сейчас сидит и думает, что…»
«Она хочет нам показать. Наглядно. Без всяких разговоров, намеков. Вот, детки, все бывает: мужики женщин на сцене играют, а мужики в зале это смотрят и другим мужикам глазки строят…»
«Я их сюда привела – значит, для меня все это – обычно. И значит, я сама такая, и…»
«И все это, детки, нормально, и мама с сыном – тоже нормально. Может, она и меня с ними как-нибудь потом позовет… Вместе… Втроем…»
«И значит, между мной и Лешей что-то может быть… Я же вижу, она сидит, а у нее в глазах что-то темное ворочается. Наденька, девочка, неправда все это, не думай так, это все случайно! Что же теперь будет?!»
«И не будет никакого антракта…»
«Неужели без антракта? Как же…» – Инна судорожно взглянула на часы.
И заметила, что Надя перехватила ее взгляд.
– Понимаешь, Надюша, в старинном японском театре и в китайской опере тоже… – нагнулась, зашептала Наде в ухо.
– Женщин играли мужчины, – закончила фразу Надя (негромко, но и не шепотом). – Инна Николаевна, я знаю. Давайте потом поговорим. – Взглянула на Инну, улыбнулась и вновь вперила взгляд в сцену.
На сцене жертве подавали яд. Но хозяйка не хотела или просто не могла стать жертвой, она отказывалась от напитка настолько бесхитростно, что было не ясно, знает ли сам автор пьесы, почему она не хочет пить – разгадала коварный замысел или просто капризничает?
«Все пропало. Теперь я для нее враг… – подумала Инна. – Но как держится, как улыбнулась! Молодец, Надя!»
«Все понятно. Это не она нас сюда привела. Это они меня сюда привели. Он и она. Вместе».
Надя ощущала себя металлическим осколком между полюсами магнита из какого-нибудь примитивного школьного опыта. Маленьким ребенком, который схватился за обрывки провода.
«Я ведь хотела все исправить. Сходить в театр по-человечески – и то не получается, – думала Инна, совсем перестав следить за сценическими страстями. – А собственно, что «исправить»? Я кто – преступница? Или совершила проступок, который надо исправлять?»
Кто-то, кажется, умирал на сцене. Звучал душераздирающий шансон.
«Нет. Не совершила. Еще не совершила».
Инна искоса взглянула на Лешу:
«А он? Что он? Якобы воплощенное спокойствие. Но я же тебя знаю, я же тебя всего чувствую, Лешенька, от меня-то ничего не скроешь. Ведь все равно сорвешься, такого натворишь… Но о чем ты сейчас-то думаешь?»
Леша был непроницаем, будто в стеклянном колпаке.
«Ох, тяжело это все, – подумала Инна с такой тоской, что в груди что-то сжалось, заныло. – Тяжело и страшно. Что теперь будет-то?»
А был конец спектакля.
Были аплодисменты, цветы, все хлопали долго, вызывали актеров несколько раз.
И Инна, Надя, Леша тоже встали и хлопали, монотонно, вместе со всеми. Лишь бы не двигаться, не разговаривать, не смотреть друг на друга.
Впрочем, Леша, приложив ладонь к ладони, просто стоял, будто отдыхая после изнурительной, тупой работы.
Потом все многоголовой медлительной живой массой поползли к выходу.
Переминание с ноги на ногу стало единым, размеренно-неправильным ритмом. Казалось, никакого движения вперед не происходит и происходить не может. Инну все время прижимали к Наде, а Надю – к Леше, но слева и справа были люди, притиснутые так же плотно, но совершенно чужие – и ощущение собственного тела и прикосновений к нему просто исчезало.
Когда их наконец вынесло в фойе, рядом снова оказалась Иришка.
– Ну как вам? – улыбнулась она, закуривая сигарету в длинном мундштуке и шагая вместе с ними к выходу.
– Замечательно! Прекрасно! Просто слов нет! – заговорила Надя радостным голосом.
Иришка, похоже, сочла восторги искренними – и оживилась, будто ее наконец включили в сеть и нажали нужную кнопку:
– Котик, ведь правда, он гений! Просто гений. И все мальчики его гении. Я имею в виду актеров, – пояснила она, повернувшись к Леше. – А вы на «Лолиту» не ходили?
– Так он и «Лолиту» ставил? – со светским любопытством спросила Надя. – Как интересно! Нет, мы не ходили, это должно быть жутко интересно!
«Что она несет? – думала Инна, глядя на Надю. – Мне от стыда хочется сквозь землю провалиться. Насквозь, в Америку, к Тэду – проснуться у себя в постели и подумать: «Что за чертовщина приснилась».
Но все было на самом деле. Здесь, сейчас. Все длилось в тягучем настоящем времени дурного сна, происходящего наяву.
– Котик, «Лолиту» не расскажешь, «Лолиту» надо смотреть. Жалко, они сейчас ее не играют, – продолжала тем временем Иришка. – Но если вы постоянно ходите…
– Нет, мы не постоянно, – сказала Инна. – Мы сюда совершенно случайно попали. Я взяла билеты, даже не зная, что это за театр.
Изумление и даже брезгливость появились на Иришкином кукольном лице.
– Я, честно говоря, не поклонница подобных изысков. Может быть, это у меня возрастное.
Иришка кивнула и вновь растянула губы в улыбке, но тут ее окликнули:
– Ирэн!
Ее звала какая-то девица маленького роста в парике из длинных снежно-белых искусственных косм.
– Ирэн, ты едешь?
Девица стояла в большой компании, в которой был и молодой человек со стрижкой каре, общения с которым явно жаждала Иришка.
– Еду! Лечу! – И, послав всем троим воздушные поцелуйчики, Иришка исчезла.
– Она очень изменилась, – сказала Надя задумчиво.
И было непонятно: делится ли она впечатлениями с Лешей, который знал Иришку раньше, или объясняет ситуацию Инне. Или просто произносит что-то вслух, чтобы не сказать то, о чем думает.
– По-моему, совсем не изменилась. Как была дурой, так и осталась, – ответил Леша.
Больше не разговаривали.
В метро Инна села, закрыла глаза, сделав вид, что задремала. Дома хотела сразу принять душ, но ее опередила Надя – юркнула в ванную, заперлась.
Инна осталась снаружи. Не уходила в свою комнату, стояла, прислушиваясь к плеску воды.
В ванной Надя, беззвучно рыдая, смывала слезы, плескала холодную воду в лицо полными горстями. Но слезы текли и текли. А стрелки на веках размывались, но не смывались – хорошую американскую подводку водой не смоешь.
«Нет! Не хочу об этом думать, не хочу этого понимать! Это все случайно было, она случайно такие билеты купила. Нет, не могу!» – рыдала Надя, видя себя в зеркале сквозь слезы и воду.
А за стеной, в коридоре, Леша подошел к Инне. Шагнул бесшумно, быстро – и оказался совсем рядом, так что дыхание обожгло ухо, тыльная сторона ладони коснулась бедра.
– Ну, на «Лолиту»-то мы с тобой пойдем. Да?
Это «да» прозвучало почти утверждением.
«Отойди!» – мысленно крикнула-взмолилась Инна. И негромко, ледяным тоном произнесла:
– Нет. Мне этот театр не нравится.
– При чем тут театр, – тоже негромко, сбивчиво, на выдохе.
И хотел сказать еще что-то, но Инна перебила:
– Иди спать, спокойной ночи.
Выставив вперед ладони, мол, все, ухожу, Леша отступил к двери в свою комнату. И скрылся внутри.
Тут же распахнулась дверь ванной. Надя, не поднимая глаз, тихой скороговоркой произнесла: