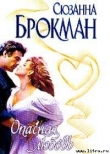Текст книги "Тщеславие"
Автор книги: Виктория Лебедева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Глава 18
Слава опять исчез, я звонила ему каждый вечер из единственного гарнизонного телефона-автомата, и днем с работы, даже утром звонить пробовала, но все было бесполезно – дома никто не брал трубку. Лора исчезла тоже, Сергей буркнул мне в ответ: «Здесь такая не проживает». Я не знала, что и подумать. Вернее, знала отлично, но от этого знания мне легче не становилось, наоборот… Я, можно сказать, была в панике. Перемещалась – подобно сомнамбуле – по привычному до отвращения маршруту и была глуха к стараниям преподавателей; не могла уснуть без приличной порции валерьянки. И все ходила, ходила к овощному магазину, отстаивала очередь к телефонной будке, ледяными пальцами прокручивала ржавый с одного бока диск, а потом считала гудки: один, два, три… двенадцать, тринадцать, четырнадцать – а мне колотили в стекло страждущие: «Девушка, не задерживайте!», и я выходила, снова становилась в конец очереди, но увы…
А недели через три трубку наконец подняли…
– Алло? – вопросительным женским голосом сказала трубка, и сначала я подумала, что ошиблась номером, но все-таки попросила на всякий случай:
– Будьте добры, позовите, пожалуйста, Славу…
– Очень жаль, – ответила трубка, – он сейчас не может подойти. – А потом доверительным полушепотом расшифровала: – Он в душе.
А я на другом конце провода ловила посиневшими от холода губами чистый воздух начала декабря, и округлое слово «Лора» перекатывалось где-то глубоко в горле, но срывалось, проскальзывало и никак не хотело выйти наружу.
– Надя? – после небольшой паузы сказала трубка тоном вопроса-утверждения.
– Да, – выдавила я с усилием.
– Привет, – сказала трубка ласково, – ты меня что, не узнала?
– Почему? Узнала…
Ты извини, – замялась трубка, – это все как-то случайно вышло, понимаешь?
– Чего уж тут непонятного…
– Знаешь, Надь, нам надо встретиться и поговорить, – гудела трубка примирительно, – приезжай к нам в гости, пива выпьем. Мы же взрослые люди, мы не будем из-за ерунды ссориться, правда?… Ну, приедешь?
– Нет.
– Почему?
– Глупый вопрос.
– Но нам же надо поговорить, и я уверена, все сразу объяснится!
– Да не хочу я с тобой разговаривать! Никогда! – прокричала я Лоре и в бешенстве нацепила трубку на покореженный рычаг.
На следующий же день Слава объявился в институте – взгляд виноватый и довольный, а по щекам – характерные красные пятна: волнуется. А я не понимала, все мое существо отказывалось понимать произошедшее. «Это неправильно, здесь какая-то ошибка, – вертелось у меня в голове, – так нельзя, его надо остановить!»
– Пойдем-ка прогуляемся, – сказала я Славе, и он безропотно последовал за мной на улицу.
Сначала мы тупо шли вдоль шоссе, уворачивались от встречных прохожих, не смотрели друг на друга и молчали, и это была наша самая первая настоящая пауза… С неба сыпал то ли снег, то ли тополиный пух, мне было жарко, безумно жарко, и я начала торопливо стягивать перчатки.
– Ну? – не выдержал Слава. – Что?
– Сам же знаешь, – отозвалась я.
– Да, – кивнул Слава и тут же искренне возмутился: – Я только не понимаю, зачем ты так с Ларисой, что она тебе сделала? Ты пойми, ведь она уже сейчас – глубоко несчастный человек, ее только пожить берут, но разве любит кто-нибудь?!
Я остановилась и молчала, шок нагрянул на меня на половине следующего шага и на половине слова. А он продолжал все агрессивнее:
– Это что же получается? Гуляй с кем хочешь, только чтобы я их не знала, да?
– Ты не понимаешь…
– Нет, понимаю! – уже почти кричал Слава. – Сам не ам и другим не дам!
Но он не понимал, на самом деле не понимал… Ведь он практически приглашал меня «держать свечку». Я представила себе Лору, как она сидит на кухне с длинной сигареткой между пальцами и сравнивает его «мужские достоинства» с аналогичными «достоинствами» Сергея и Толика, и всех других, кто у нее там был в жизни, и рассказывает, у кого что длиннее, а у кого – лучше действует… И, черт возьми, какая гадость… Я не могла больше общаться с Лорой, физически не могла…
– Мы с тобой все равно жить вместе не сможем, – продолжал кричать Слава, – потому что ты давишь, я себя швалью последней чувствую, такая ты у нас правильная!
Ну что я могла ему сказать, я не имела права объяснять ему. И глупо было бы говорить о Лоре плохо, он был ослеплен и воспринял бы это лишь как проявление ревности. Бесполезно, все было бесполезно, но меня уже понесло, и я начала уговаривать:
– Ну пожалуйста, остановись! Подумай как следует! Просто подумай! Хочешь мир спасти? Тогда помоги и мне! Ты же никогда не спрашивал, как я живу… А знаешь, почему мой отец умер? Напился и замерз в сугробе, под забором. Ты ведь был у нас, ты же сам все видел, но я же не жалуюсь…
– Ну-у-у, – протянул Слава и громко хлюпнул посиневшим от холода носом, – глядя на тебя, мысль о защите пропадает сама собой… Ты – сильная… Я уже подумал, и знаешь, Наденька, ты не права! Что ты делаешь?! У нас ведь с тобой такие отношения! Потому что ты другая, просто другая! Мы с тобой обязаны остаться друзьями! – Он опять почти кричал, а потом неожиданно взмолился – Ну пожалуйста, не ломай!
– Что ломать-то, – я развела руками, – все вроде уже сломано.
– Ой, – лицо Славы отобразило крайнюю степень брезгливого отвращения, – вот только не надо делать из меня Хулио Аморалеса, я тебе, кажется, никогда ничего не обещал! Это ты с самого начала за мной ухаживала!
– Да я просто люблю тебя, – ответила я неожиданно для себя самой.
– Я знаю, – уже нормальным голосом сказал Слава. – Ну и что?
И теперь уже я сорвалась и заплетающимся языком выкрикивала;
– Тогда зачем? Зачем все это было? Зачем ты?…
– Я просто хотел с тобой поиграть… Что, нельзя? – Слава изумленно пожал плечами. И не было обмана, и правды тоже не было, просто мы так привыкли… Мы все так говорим, и наши длинные горячие фразы на просвет напоминают решето, а каждое отверстие – это запасной выход, это вариант последующего бегства. Как там у «Битлов»? Морс дырок…
– Я это где-то уже читала, – сказала я просто так, чтобы что-нибудь сказать, а в голове стучало: «Только улыбайся, Надежда Александровна, улыбайся, не дай затоптать себя! И губы мои как по команде расползались в насмешливую гримасу. А Слава зацепился за последние слова и начал:
– Вот именно, нам только об этом и следует говорить с тобой, о театре, о книгах! А на все остальное – плевать! Так что подумай!
Да только что тут думать… Ну как мне было объяснить ему, что я не хочу проживать чужие жизни внутри чужих текстов, что все хорошие книги имеют плохой конец, а я хочу по-настоящему, не на бумаге…
До дома я добралась на чистейшем автопилоте, открыла дверь, скинула ботинки под трельяж, прошла в комнату и тихо улеглась, уткнувшись в подушку.
– Что случилось? – спросила мама тревожно. – В институте что-нибудь?
– Нет, отстань…
Но мама моя отставать не умела и продолжала пытать:
– Ну, Надь, ну что случилось? Ну расскажи, я же твоя мама…
И тут я сделала глупость, я не выдержала и все ей рассказала. Рассказ получился путаный, бессвязный, перемешанный со слезами и соплями, а мама молча сидела на своем диване, и лицо ее становилось багровым. Когда я замолчала и только тихо всхлипывала, уткнувшись носом в подушку, она вдруг вскочила с дивана и, потрясая руками перед своим налившимся кровью лицом, заорала:
– Господи, помоги! Как же мне надоели твои истерики! Уже скоро двадцать два! Да когда же тебя наконец трахнут?!
Больше я ей никогда ничего не рассказывала… Просто я не могла…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава 1
А потом было много месяцев тяжелой соленой тишины, похожей на морскую воду, и когда она накрывала меня с головой, то уши закладывало и я начинала в ней тонуть.
Двигалась в стороне от направлений, мимо работы, мимо диплома и госэкзаменов: все – у разных преподавателей, в разные дни, так надо, все – на дежурные, ничего не значащие пятерки, «подумай о чем угодно, только не плачь»; а в голове истово плещутся обрывки слов, живут своей жизнью без правил, рваные, несуразные, и с упорством просятся на волю, хоть в каком-нибудь виде. Сказать никому ничего нельзя, объяснить – нельзя, все, что ты произнесешь, туг же превратится либо в глупость, либо в пошлость, но ты же чувствуешь – у этого словесного бардака нет ничего ни от глупости, ни от пошлости, только доказать не можешь, онемела, почти умерла. А потом не выдерживаешь, тянешь из стола лист бумаги, в клетку или в линейку, и записываешь, с ошибками, почерк малопонятен, а все-таки это лучше, нежели полное безмолвие, легче, что ли…
Так называемое творчество – суть крышечка для выпускания пара, и когда кажется, что тебя вот-вот разорвет изнутри, то непроизвольно заламываешь руки вверх и приоткрываешь ее, пар оборачивается синим шариком, нервно скачущим по бумаге.
Предать бумаге – все равно что предать огню… Вот оно слово, и оно саднит нестерпимо, но это совсем обычное слово – полновесное клише, ширпотреб, хоть и правда, и его просто необходимо вымарать, заменить, найти витиеватый эпистолярный эквивалент этому бывшему крику, дабы не унизить сильнее то, что и без того, честно говоря, в грязи валандается.
Со стороны все предельно просто – «Бермудский треугольник: он, она и я», кто же не разочаровывался по первому разу, и куда похлеще, подумаешь, горе! Забудь! А ты ощущаешь себя хитросплетением кровоточащих сюжетных линий, тебе больно. Нет, конечно, ни слез, ни жалоб, это боль на уровне ультразвука и для восприятия здоровыми организмами не предназначена, но правда заключается в том, что забывать ты не умеешь вовсе. И тогда, тогда… ну что тебе остается, пиши, контора! Добро пожаловать в эфемерный мир поэзии…
– Идиотка! – кричит мама из кухни в комнату, и в голове мигом рисуется отчетливое изображение ее гневом налившихся глаз. – Посмотри, на кого ты стала похожа! Разве можно из-за какого-то козла так себя мучить!
Что ей сказать? Нечего.
А в тебе, чуть ниже горла, перекатывается: это неправильно, неправильно, это просто недоразумение, восьмерка на колесе Фортуны, и с ней надо что-то делать, исправлять как-то.
Кстати, об исправлении. Исправить по собственной воле ничего нельзя, но это понимаешь много позже. А поначалу перебираешь самые что ни на есть тривиальные способы.
Звонить? Глупость. Телефон – это только один из горчащих плодов технического прогресса, он плохо предсказуем: ты вечно попадаешь не туда, или трубку не он поднимает, или дома никого нет, и одному абоненту в общем-то все равно, а другому – слишком больно, а главное – глаз не видишь, и обязательно представляешь себе, как они смеются, вперяются в телевизор, книгу, газету, компьютерную «стрелялку», дырявят плохо побеленный потолок, с обожанием охватывают точеную фигурку (Лоры?): «Встретиться? Извини, не могу, работы – по горло, как-нибудь в другой раз»; представляешь, как зазеванный рот стыдливо укрывается ладонью и как пальцы тянутся к рычагу: «Ой, сорвалось… Одно слово, техника». И этого вполне достаточно, чтобы понять: не метод, так – лишняя нервотрепка.
А институт уже далеко позади, нет больше шанса на обязательные официальные встречи во время лекций, экзаменов или зачетов, так просто и естественно разошлись когда-то тесно смеженные пути-дорожки.
Случайное столкновение в метро? Москва, конечно, город маленький, но… Один шанс на тысячу среди этого броуновского движения. Не помогает даже длительное выстаивание в точках возможных пересечений, твое порядком потрепанное терпение обязательно иссякает за полминуты до появления лирического героя, и ты делаешь шаг в сторону эскалатора, маршрутки или троллейбуса, и он, лирический герой, даже не замечает, как поглощают твою сгорбленную спину членистокрылые двери.
Можно еще как бы случайно заскочить на работу к Людмиле Евгеньевне: вот она сидит за кассой, а ты подходишь и опускаешь на тарелочку примятые разноцветные бумажки, столько-то в такой-то отдел, и… «Ой, Надюша! Здравствуй! Куда же ты исчезла, совсем забыла нас», – а глаза… А глаза смотрят в сторону, смущенно и даже, может быть, виновато, пальцы машинально пересыпают монетки в одном из нижних отделений… Нет, не годится, она всегда была на моей стороне, но ошибалась, ах как жаль, что она ошибалась, и незачем портить человеку настроение своими плохо сформулированными просьбами о помощи и о пощаде, мольбой на уровне взгляда, ну чем она может помочь? Разве может помочь третье лицо? Нет. Только случай. Да и тот – вряд ли, ведь колесо Фортуны неисправно и обманывает тебя с завидным постоянством.
В общем, что бы ты ни делал, результат – минус бесконечность.
И вот тогда, только тогда планы в голове становятся абсурдны до совершенства и так непохожи на привычную правду, что начинают постепенно осуществляться.
Глава 2
Планов было два: просто абсурдный и абсолютно неосуществимый.
Первый, абсурдный, заключался примерно в следующем: нужно каким-то образом попасть в число сотрудников телевидения и снова оказаться в поле Славиного зрения, а уж там как-нибудь разберемся. Абсолютно неосуществимый, на бумагу переложить трудно, но я все-таки постараюсь: в результате этого плана я должна была написать нечто гениальное, стать слегка знаменитой, и вот тогда Слава все прочитает и все поймет, поскольку о ком и для кого же мне писать, если не о Славе и не для Славы, он – моя единственная тема, а значит, оценить написанное мной по-настоящему сможет только он один, и пусть все остальные громко аплодируют, мне эти аплодисменты на фиг не нужны, лишь бы он, Слава, прочувствовал, оценил и вернулся, и вот тогда все будет расставлено по местам уже окончательно, он больше никогда не посмеет меня презирать… и не любить не посмеет…
Странно, но, против всякой логики, я начала с осуществления именно этого последнего плана, а именно: подала для начала документы в Литературный институт имени А.М. Горького.
В истоках этого смелого и, я бы даже сказала, наглого шага стоял небезызвестный брат Михаила Кубрика – Алексей Кубрик, поэт из города Балашихи Московской области, прошедший в свое время конкурс в двадцать пять человек на место. «Чем я-то хуже?» – подумала я самоуверенно, хотя стихов Алексея Кубрика никогда и в глаза не видела и понять, чем я хуже, не могла просто по определению. Потом призвала на помощь одну из маминых знакомых, светскую леди Марину Сергеевну, тридцати пяти лет от роду, обладательницу двух не слишком удачных дочерей школьного возраста, двух любовников: одного – кавказской, другого еврейской национальности, тоже, кстати, не слишком удачных, – шумного рыжеволосого мужа, человека ревнивого и недалекого, а также давнюю почитательницу моих поэтических талантов, и мы в четыре руки стали готовить мою вступительную подборку исходя из ее взрослых, сложившихся вкусов.
У Марины Сергеевны было огромное количество знакомых везде, и, покопавшись в растопыренной телефонной книжице, она легко отыскала номер одного из своих старых приятелей, бывшего выпускника Литературного института, а ныне – банковского служащего. После недолгих уговоров (отказать в чем-либо Марине Сергеевне было практически невозможно) старый приятель согласился, так уж и быть, просмотреть подборку стихов молоденькой протеже, и мы сговорились встретиться в вестибюле метро «Китай-город» для передачи рукописи на предварительный просмотр профессионалу.
Народу в вестибюле было, как обычно, море, и я потеряла лишних двадцать минут на игру в загадалки: он – не он, поскольку по внешнему виду писатели, как ни странно, совершенно не отличаются от нормальных людей.
В результате Виктор сам обнаружил меня при помощи очень простого приема: он поочередно подошел ко всем стоящим вдоль стен вестибюля девушкам и спросил, не его ли они ждут. Не то чтобы я его совсем не заметила, но почему-то именно его кандидатуру отмела сразу как неподходящую, пока краем глаза наблюдала, как какой-то мужчина – очень худой, очень коротко остриженный, в белом и совсем легком, не по сезону, плаще – пытается заговаривать со всеми подряд представительницами прекрасного пола, начиная от самых томных и неприметных и заканчивая яркими <вамп». Время от времени он скользил по мне глазами, но всегда – мимо, и подходил к кому-то другому, я уже начинала подозревать в нем опасного маньяка или как минимум проходимца, и только когда он, с выражением полной безнадежности, дошел-таки до меня и спросил, не Надя ли я, ситуация наконец прояснилась. «А на поэта я вовсе не похожа», – отметила я про себя, но Виктору ничего не сказала, только папку с рукописью передала.
– Я вообще-то на прозе учился, у Орлова. Ну, который «Альтист Данилов» и всякое прочее, – сказал мне Виктор с явным недоверием в голосе. – Вас Марина об этом не предупредила? Нет?
Я честно помотала головой в знак отрицания.
– В общем… Я ничего не могу обещать… – Виктор подбирал слова, кажется, отыскивая наименее обидные. – Я, разумеется, посмотрю… поскольку обещал… но… надеюсь, вы понимаете, что…
– Ну что вы, не беспокойтесь, я все понимаю, – успокоила я его.
– Вот и хорошо, вот и правильно, – пробормотал Виктор, с трудом запихивая папку в свой набитый бумагами дипломат. – Свяжемся через Марину, дней, скажем, через десять… Но если что… ну, вы понимаете… Тогда увольте.
– Спасибо! – сказала я. – Извините за беспокойство! И он, наскоро откланявшись, канул в недрах метрополитена.
Примерно через неделю к нам в квартиру вплыла леди Марина Сергеевна и передала мне из рук в руки обрывок тетрадного листа с Викторовым телефоном.
– Он звонил мне вчера на работу, – величественно изрекла леди Марина Сергеевна, – просил тебя перезвонить. По-моему, ему понравилось.
Я тут же помчалась на улицу, к телефону-автомату, и перезвонила.
Виктор был гораздо приветливее, чем при первой встрече. Он долго и путано объяснял мне что-то про «искру Божью», а потом добавил, что подборку передал своему другу, настоящему поэту, дабы утвердиться в своем мнении.
– Вы, Надя, позвоните мне дней через пять, друг мой прочитает и, может, посоветует что-нибудь дельное. Хотя сам я думаю – у вас проблем с творческим конкурсом быть не должно, так что готовьтесь сразу ко вступительным экзаменам.
Я даже не удивилась его похвалам. Не от самоуверенности. И не от осознания собственной гениальности. Просто после истории со Славой и Лорой я ощущала себя немножечко мертвым и плохо прописанным персонажем круто сваренной мелодрамы для дам и, казалось, навсегда утратила способность удивляться.
О, ирония судьбы! Другом Виктора оказался небезызвестный уже Алексей Кубрик, балашихинский поэт (очень, кстати, хороший поэт, как выяснилось), брат Мишки Кубрика.
Он привел меня в институт, посадил против себя в пустующей аудитории номер четыре и в течение часа терпеливо объяснял, почему половина моих стихотворений никуда не годится и их надо срочно аннулировать из вступительной работы. Когда же от почти восьмисот строк осталось примерно триста, он удовлетворенно отряхнул ладонь о ладонь и сказал:
– Ну, ты особенно не расстраивайся. Остальные, как я понимаю, вполне конкурентоспособны. Можешь хоть завтра в приемную комиссию нести. Поверь мне, бывает куда хуже!
А потом он дал мне совет: кроме того, чтобы сдать работу на конкурс, неплохо еще было бы подойти с ней (с работой) к мастерам, которые в следующем году себе семинары набирают, чтобы уж наверняка. Многие так делают, ничего предосудительного в этом нет.
Потом зашел на кафедру творчества и разузнал фамилии потенциальных руководителей. Потом сообщил, что их можно застать в институте только по вторникам – в день семинаров. Потом показал дверь, за которой принимают на конкурс работы. А потом навсегда исчез из моей жизни, и даже в кулуарах ЦДЛ, Литфонда, Союза писателей и прочих подобных местах я его ни разу больше не встречала. Ей-богу, жаль. По многим причинам. Например, я почему-то, даже не знаю почему, не смогла сказать Алексею, что раньше училась вместе с его младшим братом. А интересно было бы узнать, как Мишка, что с ним, но увы…
Внутри институтского двора, как и внутри обоих зданий, все было маленьким и ветхим. Печально серели оспины облезлой краски на стенах, протекали потолки, миниатюрные окна, запорошенные рыжей грязью пополам с инеем, напоминали старинные надтреснутые монокли, и если бы не обязательная прямоугольная форма, это сходство было бы полным. Двери скрипели надрывно, кафель и паркет были старчески беззубы, а ступени истерты подошвами многотысячной армии потенциальных гениев, которые бродили здесь вверх и вниз с момента создания института: с классиками под мышкой, с извечной «беломориной» (косячком?) в уголке губ, со своими системами метафор и образов, мер и весов, и под их весом все постепенно приходило в упадок, а далекая от всяких творческих проявлений рыночная экономика была холодна и равнодушна к литературным проблемам.
Потенциальных мастеров было двое, и не важно, как их звали, скажу только, что первый полностью отображен был своей же собственной поэтической строкой: «Не я участвую в войне, война участвует во мне», а второй, царство ему небесное, рад был встретить в текстах «харю Кришны» и преклонял колено перед Бродским.
Сначала я направила стопы свои на семинар потенциального мастера номер один.
Как можно более интеллигентно спросила я у монументального господина в грязно-розовом пиджаке, здесь ли занимается семинар под руководством такого-то? Господин курил с отрешенным видом прямо перед дверью актового зала, и водянистые глаза его устремлены были куда-то в одному ему видимые дали. Вопрос пришлось повторить, и погромче, потому что первый дубль благополучно прошел мимо господина, его совершенно не коснувшись, и насмерть грянулся о стену за его спиной. На дубль два я удостоилась медленного и мелодичного: «Чего-о-о?», а на третий получила насмешливый кивок в сторону дверей актового зала. Господин вплыл в помещение следом за мной и не слишком осторожно прикрыл дверь. Великовозрастные студенты Высших литературных курсов громко захлопали раскладными стульями, вставая.
Я тихонько пробралась за колонну и опустилась на один из стульев, такой же обшарпанный, как и вся остальная институтская обстановка. Господин взошел на кафедру и объявил тему занятия: «Поэзия и крест».
За спинкой каждого стула мной были обнаружены маленькие откидные парты, все сплошь исписанные и исцарапанные подрастающей литературной элитой. Прелюбопытные там имелись записи, надо сказать, и все в основном стихотворные.
Пришли дождливой осенью,
Таинственней, чем стих.
Кого, помилуй Господи,
Мне выбрать из троих?! —
вопияло с одной; другая парта, кажется – трехстопным хореем, хотела какого-то Ваню Голубничего, а третья констатировала жестко, по-мужски:
Я стою на асфальте, в лыжи обутый,
То ли лыжи не едут, то ли я…
Кому интересно, подберите рифму самостоятельно.
А на доске тем временем появилась такая вот картинка:

Я не сразу поняла, что это обозначает; больше всего этот рисунок походил на пересечение оси абсцисс с осью ординат, если б не безделица: две лишние указующие стрелки. Прислушавшись к не слишком чистой дикции мэтра, я с удивлением узнала, что сие творение – не что иное, как схема стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус». «Что ищет он в стране далекой?» – стрелочка вправо; «Что кинул он в краю родном?» – стрелочка влево; «Под ним струя светлей лазури…» – стрелочка вниз; «Над ним луч солнца золотой» – стрелочка вверх; а вокруг схемы скоро вращается рука мастера (в пальцах накрепко зажат кусочек мела), наглядно изображая студентам «бурю», которой «он, мятежный» «просит».
После окончания семинара я, все еще находясь в легком шоке от только что увиденного, осторожно подошла к мастеру и, заикаясь, спросила, не согласится ли он до конкурса просмотреть мою подборку стихов, я как раз в этом году собираюсь поступать и просто мечтаю попасть на семинар именно к нему.
– Девушка, не искушайте судьбу! – изрек мэтр и, бегло окинув меня взглядом с ног до головы, сделал широкий жест рукой – так, наверное, Чацкий руку вскидывал, когда требовал: «Карету мне, карету!»
Я облегченно пожала плечами, извинилась и повернулась к выходу – со стены на меня смотрел громадный и строгий Горький, усы его были унылы, брови – укоризненно сдвинуты, а над головой просвечивали маленькие корявые рожки – полустертый след чьего-то вандализма.
Мастер номер два напоминал немного Оле Лукойе и немного – Михаила Горбачева, у него были добрые лучистые глаза и успокаивающие жесты профессионального гипнотизера. Он вежливо выслушал мою бессвязную речь, бегло просмотрел стихи, потом, так же бегло, меня и спросил:
– Девушка, а у вас в личной жизни все в порядке?
– Да, спасибо, все отлично, – соврала я уверенно и постаралась лучезарно улыбнуться ярко накрашенными губами (по случаю выхода «в свет» я тщательно оделась и наштукатурилась).
Взгляд мастера заметно погрустнел:
– А вы нормально зарабатываете?
– Ну, не жалуюсь… – Я повела плечами, а про себя подумала: «Врагу не пожелаешь таких заработков».
– А есть ли у вас образование? – продолжал он.
– Да. Техническое. Как раз прошлым летом институт закончила. Радиоинженер.
– Тогда зачем вам учиться? – искренне удивился мастер.
– В смысле? – не поняла я.
– Ну… Вы понимаете… У вас же все в полном порядке. Личная жизнь, зарплата и все такое. А литература счастливых людей не терпит. Да-с. Глубины в них мало, в счастливых-то… Так что я вам не советую. Хотя вы, конечно, не без способностей. Да только дальше едва ли пойдете. Для этого, видите ли, нужна определенная эмоциональная нагрузка…
Он поднял на меня свои лучистые глаза и, увидев, что я порядком погрустнела, поспешил меня обнадежить:
– Да вы не отчаивайтесь. Год на год не приходится. Может, в этот раз такой народ поступать захочет, что и посмотреть не на что. Я буду вас иметь в виду. Ладушки?
И он ласково погладил меня по плечу. Я поблагодарила его и удалилась восвояси.
К дверям приемной комиссии добралась почти машинально, сдала документы, к метро пошла; уже не надеялась, что конкурс пройду, не так-то все оказалось просто, как хотелось.
Но… Но оставался еще план номер два. Просто абсурдный. «Эх! Пропадать, так с музыкой! – решила я. – Завтра же на телецентр поеду, ну чем черт не шутит?!»