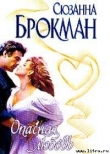Текст книги "Тщеславие"
Автор книги: Виктория Лебедева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Глава 16
Сентябрь перевалил за середину, подернулись осенней оранжевой сединой деревья, и появились у подъездов непросыхающие лужи. Я стала немного понимать телецентровское арго, Юлька научилась составлять предложения из двух-трех слов, Герман перешел из учеников в водители и катался на троллейбусе номер тридцать четыре от Киевского вокзала до Юго-Запада, здание АСК-1[6]6
АСК – аппаратно-студийный комплекс.
[Закрыть] было исхожено мной вдоль и поперек в тщетных поисках, а Слава все не встречался и оставался совершенно для меня недосягаемым.
Дома было шумно, но не весело.
Маленькая Юлька разбегалась на своих неверных, колесу подобных ножонках по коридору, хватая на пути все, что плохо лежало. Она вытряхивала из стеллажей книги за цветные корешки, смахивала с трельяжа на пол расчески и флакончики с косметикой, похищала из чрева кухонной плиты крышки от кастрюль и гремела ими, со всех своих невеликих сил бия одной о другую. Юлька по нескольку раз в день стягивала с обеденного стола скатерть и любила за шнурок проволочь по квартире Германов ботинок, с интересом разбирала на запчасти погремушки и уже посягала на пульт от телевизора. В результате все шкафы, до которых она только могла дотянуться, были перевязаны веревочками или заперты на ключ, а все мелкие предметы по возможности убраны на верхние полки и антресоли.
Дочка стала совсем взрослая, она уже твердо знала, что писать надо вовсе не в штаны, а «на гаршок», но, заигравшись, регулярно забывала выполнить эту нехитрую процедуру и в промокших колготках, громыхая об пол пластмассовым горшком-черепахой, ковыляла на поиски мамы или бабушки, чтобы сообщить: не обессудьте, я знала, но забыла…
Бабушка уставала, бабушка сердилась… Теперь она, еще недавно рьяно мечтавшая о внуках, регулярно упрекала меня за то, что я так рано родила.
А Герман совсем замкнулся. Редко я слышала от него хоть что-нибудь, кроме «доброго утра» или «спокойной ночи», новая работа его выматывала и унижала, трудно дался ему переход с роли главного бухгалтера на роль обыкновенного водилы. Германа угнетало отсутствие денег – мы вдвоем теперь зарабатывали меньше, чем он один до своего скандального вылета с работы. В нем угадывалось постоянное внутренне раздражение, он старался уединиться – только чтобы никто не трогал, не заговаривал, не сочувствовал, пусть отстанут, пусть все от него раз и навсегда отвяжутся.
Мама возмущалась про себя, шипела-шептала под нос нечленораздельные ругательства, но вслух претензии предъявлять опасалась, а вот Юлька папу теребила бесстрашно – маленькая была и не чувствовала опасности. Она, как только папа появлялся дома и занимал свое излюбленное лежачее место, тут же силилась взгромоздиться ему на живот и там попрыгать. Герман стал на нее покрикивать. Не помогло. Дочка никак не могла понять, чем провинилась. Ей хотелось играть.
Однажды она уворовала с кухни длинную щетинистую щетку для стряхивания пыли и с радостным возгласом «Тистить зюбы!» попыталась вставить ее дремлющему Герману в рот. Как он кричал! Он даже наподдал ей слегка. Юлька потом белугой ревела целый час и к папе с неделю не подходила ближе чем на два метра.
Я разозлилась и попыталась Германа урезонить. Но в ответ на все свои доводы получила только взгляд, полный такого безбрежного бешенства, что лишь рукой махнула и не стала связываться. Да и страшно было, если честно.
С этого времени я старалась по возможности изолировать Юльку от Германа. Мы проводили время в детской – бренчали погремушками, катали машинки, возводили башни из кубиков, пеленали голопузых пупсов в носовые платки и старались никому не мешать. Я все острее чувствовала – это не наш дом, мы здесь лишние, мы чужие. Первой мыслью было вернуться обратно к маме. Я решила с ней поговорить.
– Даже не думай! – отрезала мама. – Ты здесь прописана! Тебе полквартиры полагается!
– Так ведь это не моя квартира, Германова.
– Это она раньше его была. А теперь – общая. И твоя тоже!
– Это же не честно.
– Что значит не честно? А о ребенке ты подумала?! Он ведь кругом виноват, а ты должна всю жизнь мучиться?! Так что заткни свою честность знаешь куда!
– Но, мам, так же нельзя, – попыталась возразить я.
– Значит, так. Я тебя обратно не пущу! И не надейся! Для твоего же, между прочим, блага! Иди лучше ребенку почитай. Ей спать давно пора! – ответствовала мама и руки над животом скрестила – для пущей важности. Спорить с ней, как обычно, было бесполезно.
Я прихватила с полки книжечку про башмачки с длинными шнурками и поплелась в детскую. Юлька радостно скакала на кровати, вцепившись ручонками в прутья, по личику от уха до уха тянулась почти беззубая улыбка, а сна не было ни в одном глазу. Увидев меня, Юлька перестала подскакивать и, рискуя вывалиться из кроватки, перегнулась ко мне: «На вучки!» Я подхватила ее и усадила на колени. Юлька была совсем легонькая, мягкая, от нее пахло молоком и покоем. «Титать!» – скомандовала Юлька, устраиваясь поудобнее.
Чтение состояло в следующем: я указывала пальцем на кошечку, на цветочек, на птичку и т. д., а Юлька в силу своих возрастных способностей называла мне эти предметы.
Через несколько минут она утомилась, темные глазенки, похожие на испанские маслины, посоловели, и я стала носить ее по комнате, слегка покачивая и нашептывая сказку о том, как жила-была на свете девочка Юлечка – красивая и послушная. В моей сказке Юлечка все-все делала вовремя, не опаздывала и не торопилась, и никогда-никогда не плакала, особенно из-за всяких уродов, а потом выросла и стала самой счастливой на свете…
Я искала повода для того, чтобы попасть в соседнее здание, но повод все не находился. В будни эфиры у нас были каждые два часа, и отлучаться надолго было неудобно – я же еще совсем новенькой считалась, нужно было сначала научиться работать, а потом уж по своим делам бегать. Так и страдала я по Славе молча, на своем рабочем месте. И ждала удобного случая.
И вот однажды к Палне на работу пришла ее дочка Тамарка со своим очередным ухажером. Это было в субботу. Пална Тамарке и ее парню пригласительный взяла на «Поле чудес», но щедрая Тамарка на этом не успокоилась и Рината своего на три часа раньше в телецентр притащила – заставила Палну общую экскурсию проводить. Тамарка с Ринатом сначала у нас на четырехчасовом эфире посидели, подивились, потом к соседям сходили на запись «Среды». Времени еще – вагон, а у нас все самое интересное уже закончилось – в субботу работы поменьше, чем обычно. И тогда Пална говорит Тамарке:
– Давайте я вас на ОРТ отведу, там «Новости» в шесть часов. У меня там знакомая редактором.
Тамарка согласно закивала – валяй, мол, свои новости, чего так сидеть. Я насторожилась. Должно быть, все мои чувства тут же и высветились прямо на лбу в виде яркой неоновой надписи, поскольку Пална, кинув беглый взгляд на меня, предложила:
– Слушай, Надь, пошли-ка с нами. Ты же, кажется, в том доме не была никогда.
– Не была.
– Ну и отлично. И по работе тебе это будет полезно посмотреть. Там техника совсем другая и эфир по-другому строится. Пойдешь?
– Да можно… – протянула я в ответ как бы нехотя, пытаясь не показывать обуявшей меня радости.
Мы пошли в другой дом по подземному переходу.
Этот переход был похож на все московские подземные переходы – он был так же вымощен асфальтом, стены его покрывала ядовито-желтая плитка, местами опавшая, здесь было так же влажно и прохладно. Разница заключалась лишь в том, что здесь не торговали с лотка овощами и проездными билетами. Серой неровной лентой разматывался асфальт у нас под ногами. «Вот он, обод колеса Фортуны. Застопорилось мое колесо…» – почему-то подумала я, прислушиваясь к гулкому цоканью Тамаркиных шпилек, и во мне родилась уверенность, что именно сегодня Славу я увижу обязательно.
Пална тоном профессионального экскурсовода вещала:
– Соседний дом, что характерно, был построен задом наперед. Все в лучших русских традициях. И тот подъезд, который выходит сейчас на улицу Королева, должен был быть с обратной стороны. Поэтому и холл в АСК-3 такой некрасивый.
– Скажите, Светлана Павловна, а почему тот дом – АСК-3? Где же тогда АСК-2? – спросила я. Этот вопрос меня давно уже интересовал.
Пална пожала плечами:
– Честно говоря, я сама не знаю. Может, на Шаболовке?
Мы поднялись на третий этаж, в редакцию новостей ОРТ. Пална пошла отыскивать свою знакомую – Ольгу, а мы были оставлены переминаться с ноги на ногу прямо напротив входа. Я озиралась по сторонам. Человек двадцать циркулировали по комнате – кто-то сидел за компьютером, кто-то с кем-то спорил, кто-то говорил по телефону, кто-то выдаивал ксерокс, люди вбегали и выбегали с кассетами и бумажками, но никакого Славы нигде не было видно. Моя уверенность стала таять. «Пойду-ка обратно», – решила я и уже собиралась выйти из комнаты, как вдруг прямо перед моим носом в дверном проеме материализовалась всклокоченная, выкрашенная в модный цвет «баклажан» голова и басом позвала:
– Слава? Леонидов?
– Нет его, – ответила голове одна из девушек, даже не подняв лица от своего компьютера.
– А где он?
– Господи, Володь, ну я-то откуда знаю, где он мотается. В видеотеку зайди.
– Да был я там.
– Ну, тогда понятия не имею.
– От неуловимый Джо! – так же басом ругнулась голова и снова исчезла в недрах коридора.
Я нашла его! Значит, он здесь! Значит, все не напрасно! Поначалу я могла думать только об этом. Мне захотелось тут же, в незнакомой мне редакции, перед незнакомыми людьми проскакать на одной ножке и запеть…
– Надя, пойдем. Надя! Да что с тобой, в самом деле! – Пална стояла передо мной и тянула за рукав. – Эфир через десять минут.
Я вынуждена была выйти из охватившего меня оцепенения и проследовать за ней. По дороге рассуждала про себя: «Ну, ничего. На эфире-то он должен появиться. Не может же человек собственный эфир прогулять», – но он не пришел. Весь эфир я ничего не видела и не слышала, только оглядывалась поминутно на дверь аппаратной и ждала…
После эфира Пална мне пульт решила показать и эффектор, а я на ее объяснения никак не реагировала, я была страшно разочарована, мне было начхать на все в мире пульты. К горлу подкатывался комок, я, уже готовая заплакать, полезла в карман за носовым платком и сделала вид, что какая-то дрянь попала мне в глаз. Хотелось поскорее уйти отсюда.
От прилюдного проливания слез меня спасла Тамарка – скоро должны были начаться съемки «Поля чудес», и ей хотелось занять местечко получше. Мы отправились назад.
На обратном пути я немного успокоилась. Мне уже стало казаться, что все к лучшему. Ну действительно, что я могла ему сказать? Чем объяснила бы свое внезапное появление, мы ведь так давно с ним не виделись. А если бы он вообще не захотел узнавать меня? Нет, все получилось правильно. Еще рано. Я еще ничего не добилась в жизни, никем не стала, я еще даже не творец, что я скажу ему? Что люблю? Но я уже говорила, только ему это все равно, на кой бес ему эта самая любовь? Должно быть, я недостойна. Не заслуживаю… А любовь – штука странная. На нес либо отвечают взаимностью, либо ее не прощают… Фифти-фифти. Третьего – не дано. И он, Слава, наверняка не простил… Все переломано. Все давно уже кончилось, и чтобы начать все сначала, простого столкновения на работе явно недостаточно, здесь потребуется чудо. А чудес, как известно, не бывает.
В общем, по зрелом размышлении я даже обрадовалась, что мы со Славой не столкнулись на этом эфире. Эфир в любом случае не время и не место. Зато я теперь точно знала, где он работает, этого было вполне довольно. Теперь я легко смогу его вычислить, когда буду сама к этому готова…
– Ребята, давайте-ка через улицу пройдем, – скомандовала Пална. – А то я там машину так неудачно припарковала с утра. Сейчас уже посвободнее. Может, местечко какое освободилось.
Мы послушно потянулись за Палной. И место парковки хорошее сразу нашлось – почти напротив центрального входа.
– Ладненько, вы идите, а я догоню. – Пална отправилась переставлять машину. Тамарка с Ринатом пошли к семнадцатому подъезду – им там удобнее было на съемки. А я толкнула вертушку первого. Вошла в холл…
По мраморной, до блеска вычищенной лестнице прямо на меня спускался Слава…
Он сходил по ступенькам, беззаботно помахивая какой-то книгой, высокий, стройный, совсем повзрослевший; и его отрешенный взгляд уходил как минимум в стратосферу. Он меня не видел. Я перепугалась до смерти. Стремительно развернулась, выскочила обратно на улицу и с криком «Ребята, подождите меня!» пустилась догонять Тамарку и Рината.
– Ты чего? – удивилась Тамарка.
– Да так… Я подумала, что мне тут тоже ближе будет. Тамарка только плечами пожала: твое, мол, дело…
После этого памятного столкновения на лестнице я больше не тратила времени на длительные прогулки по телецентру. Безвылазно в аппаратной сидела. Даже за булочками Тему просила сходить. Пална дивилась, а я отвечала, что мне просто лень.
Я боялась случайной встречи со Славой. И боялась ее гораздо сильнее, чем раньше – желала.
Глава 17
Сессия начиналась 16 октября.
Понедельник я пропустила, была как раз моя смена, а вот во вторник сразу с ночи поехала на семинары по творчеству. Могла бы и прогулять, конечно, – относительно спокойно (со скидкой на шебутную Юльку) отоспаться дома, но меня так и распирало похвастаться кому-нибудь, лучше всего Анечке, своей новой работой. И вот я – после утреннего блока полусонная, плохо причесанная и голодная – приплелась в институт в половине одиннадцатого, хотя мой семинар начинался только в час. Двор был битком набит, но наших никого пока видно не было, во всяком случае, поэтов. Стояли у дверей читального зала мои однокурсники с семинара драматургии, а с ними – несколько малознакомых мне прозаиков. Хоть и учились мы уже третий год, ни тех, ни других я даже по именам не знала, только в лицо.
Стояла, курила, дремала на ходу.
День выдался солнечный – подарок бабьего лета среди зарядивших дождей. Почти не было ветра, сухие листья бесшумно падали на непросохший асфальт, и местный дворник Коля (он же – завхоз, он же – поэт пятого курса дневного отделения) подгребал их худосочной обтрепанной метлой к лежащим на поребрике носилкам. В глубине двора, как обычно спиной к студентам, стоял Герцен и своими навек остановившимися глазами смотрел в сторону летящих по Тверскому бульвару автомобилей.
Рядом со мной притормозили и повели светскую беседу два подростка. Несмотря на довольно раннее время, они уже вовсю заправлялись пивом.
– Кто это там, Ходасевич? – спросил один другого, кивая в сторону Герцена.
– Сам ты Ходасевич! Это ж Герцен.
– Да… Странно. А прическа как похожа!
– Прическа! Ты сам прикинь, кто твоему Ходасевичу памятники ставить станет?
– А чем тебе Ходасевич не угодил? Он гор-раздо кр-руче Гер-рцена! – В середине фразы мальчик начал икать. – И й-его не б-будил н-никто!
– Когда этот памятник ставили, про твоего Ходасевича и не слышали ни фига! Совок же был!
– Ну и ч-что? Вооб-бще эт-то к-как-то н-не л-логич-но. Инстит-тут им-мени Горь-рького, а пам-мят-ник Гер-рцену п-постав-вили – пожал плечами мальчик и, все еще продолжая икать, простер в сторону безучастного Герцена руку с полупустой бутылкой: – Гер-рцен, Гер-рцен! П-по-вер-рни-сь к-к л-лесу зад-дом, к-ко м-мне пер-редом!
– Надюшка, привет! Ты чего здесь стоишь? – послышалось у меня из-за спины. Я обернулась и увидела еще одного нашего прозаика – Валерку. Это был чуть ли не единственный прозаик с нашего потока, с которым я успела познакомиться довольно коротко. Он был весел, шумен и общителен, а посему дружил со всеми своими однокурсниками, и в ответ все дружили с ним.
– Да я с работы только что. А наш семинар, оказывается, через два часа. Домой неохота, дочка все равно отдохнуть не даст. Вот и стою, дожидаюсь. Может, еще кто пораньше приедет.
– Чего так стоять, к нам пошли. У нас мастер – мировой мужик! И гостей любит. Посмотришь, как прозаики занимаются! – пригласил Валерка. Я с радостью согласилась. На семинаре у прозаиков я могла с легкостью найти то, чего ни за какие деньги не отыскала бы у нас во дворе, – обыкновенный стул.
Мы с Валеркой плюхнулись на первую парту прямо перед кафедрой. В аудиторию влетел мастер. Он ощутимо куда-то торопится.
– Рассаживайтесь, рассаживайтесь, – подгонял он студентов, стремительно перемещаясь между рядами и раздавая каждому по нескольку листочков желтоватой бумаги. Потом взбежал на кафедру: – Ну что, готовы?
Студенты в ответ вразнобой закивали головами.
– Значит, так. Тут у ректора неожиданно организовалось заседание. Так что сегодня у нас будут практические занятия. Листочки у всех есть? Отличненько! На все про все – полтора часа. Первый вариант – перевоплощения. Представьте, что вы… муха. А второй… Что бы вам такое дать-то? Ну… Скажем… Лабиринт. Да, лабиринт… Вы – заблудились. Объем – не больше трех страниц.
Мастер сгреб со стула свой дипломат, прощальным взглядом окинул аудиторию и выскочил за дверь так же стремительно, как и появился.
– И что же мне теперь делать? – поинтересовалась я у Валерки.
– Тебе листочки дали?
– Да. Но я же в гостях.
– Ну и что? У нас гости вместе со всеми занимаются. Традиция такая. Так что придется писать, девушка! – Валерка почесал своей обгрызенной шариковой ручкой в затылке и начал записывать что-то, больше не обращая на меня внимания. Я покряхтела еще пару минут, соображая, что бы такое изобразить, а потом, делать нечего, последовала Валеркиному примеру.
Ему досталась муха, мне – лабиринт.
* * *
Мастер вернулся ровно через полтора часа, как и обещал. Он уже был абсолютно спокоен, его движения были размеренны и исполнены чувства собственного достоинства. Он пристально оглядел студентов. В аудитории стоял неравномерный гул. Кто-то еще дописывал свой этюд, кто-то уже, развалясь, трепался с соседом по парте, кто-то читал книгу.
– Ну как? Все успели? – спросил мастер.
С парт вразнобой понеслось «да», «нет».
– Замечательно. Сейчас будем читать. Начнем… Прямо с первой парты и начнем. – Мастер опустил глаза на нашу с Валеркой парту и заметил наконец меня. – О, да у нас гости! – сказал он, потирая ладонь о ладонь. – Вы тоже писали?
Я кивнула.
– Вот с гостей и начнем! Выходите на кафедру и – вперед!
Прилюдные чтения всегда давались мне с трудом, заставить меня «выступить перед публикой» можно было только под наркозом, причем общим.
– А можно я с места прочту? – робко спросила я.
– Что ж, валяйте, если вам так удобнее, – милостиво согласился Валеркин мастер, и я начала:
– «Постскриптум к теме лабиринта.
Каждый человек понимает любовь по-своему, существуют многие-многие тысячи ее определений. Когда я училась в шестом классе, мы с подружками эти определения даже коллекционировали. У любой из нас был свой блокнотик, оформленный один другого пестрее и, если можно так выразиться, витиеватее, где все эти коллекционные изречения и записывались. Автор указывался редко – лишь в тех случаях, когда юная хозяйка блокнота имела о нем хоть смутное (и отнюдь не всегда правильное) представление. Начиналось все с элементарного:
Любовь – солома, сердце – жар,
Еще минута, и пожар!
Родители – огнетушители.
Или вот так:
«Любовь – это мученье?» – сказала обезьяна, целуя ежика.
Дальше шло что-нибудь более серьезное, например: «Любовь – это зубная боль в сердце».
Тему любви развивал кто как мог, дополняя свою коллекцию все новыми цитатами, крылатыми выражениями или просто расхожими бульварными фразочками. Иногда записи чуть сбивались с раз и навсегда намеченного курса. Это зависело прежде всего от окружения начинающей девушки. И поскольку я росла в «закрытом» военно-морском гарнизоне, который был со всех сторон обставлен казармами разных в/ч, полным-полными тоскующих по женской ласке юных матросиков, чаще всего эти записи приобретали военно-морские оттенки типа: «Любить матроса – это гордость, а ждать матроса – это честь!»
И рядом – шариковой ручкой нарисованное сердце, пронзенное якорным крюком. А следом совсем уж не девичье: «Вино – враг для матроса, но матрос не боится врагов!»
Блокнотами гордились, ими обменивались, их брали почитать, с них списывали лучшие цитаты. Там, в этих девичьих блокнотах, спокойно уживались Марина Цветаева и Эдуард Асадов, и припевки модной песенки какого-нибудь «Ласкового мая», и Александр Сергеевич Пушкин. Стихи самопальные переплетались с классикой. Но это не было пошло, честное слово! Во всех этих, на взрослый взгляд странных, сочетаниях читалось свое очарование – сквозь строчки проглядывал краешек души будущей женщины.
Ну да Бог с ними, с блокнотами, я хотела рассказать совсем не об этом, хоть и заговорила об определениях любви с умыслом. Дело в том, что, вырастая, люди не прекращают попытки любовь переопределить и переосмыслить, они ищут внутри ее все большей сложности. Получается некое строение со множеством хитросплетенных коридоров; ложных и реальных, правильных и неправильных, достойных и недостойных выходов; сырых слезных тупиков, светлых, шикарно обставленных комнат, мрачных чуланчиков; парадных лестниц – вверх и заплеванных черных – вниз. Если короче – получается самый настоящий лабиринт. И лабиринт у каждого свой, так сказать, «индивидуальной планировки».
Мой лабиринт – о двенадцати этажах. Из стекла и бетона. Огромный и очень важный Дом в огромном и главном Городе самой огромной Страны мира.
В этот лабиринт я пришла по собственному желанию. Кстати, попасть туда просто по собственному желанию, не имея протекций, рекомендаций, родственных связей или чего-нибудь подобного, крайне сложно. Официально я нахожусь в лабиринте для того, чтобы ударно трудиться на ниве телерадиовещания, а вот неофициально…
Я сама, сознательно, находясь в здравом уме и трезвой памяти, превратила себя в подопытную морскую свинку, пометила красной краской и выпустила в лабиринт. Прямо с центрального входа с тугими дверьми-вертушками, с увешанной оружием мрачной охраной и узкими металлическими воротцами, венчающими державную мраморную лестницу примерно в той пропорции, в какой увенчала бы плечи Арнольда Шварценеггера шея молодого лебеденка.
Я решила провести эксперимент над собой. Испытать себя. Измерить свою силу.
Я – красная свинка, перегруженная обидой, и болью, и жаждой, и полным набором плохих и хороших предчувствий различных степеней сложности – эдакий лабиринт в лабиринте. Внутри меня сотнями лопаются нити накаливания под напряженным названием «нервы».
Он – свинка голубая. (Да не поймут меня превратно все те, кто любит засалить и опошлить мир, ибо у слова «голубой» есть еще свое, исконное значение – значение просто цвета.) Он уже пятый год перемещается где-то по лабиринту, он холоден и абсолютно спокоен, он давно забыл о том, что я существую.
У нас разный ритм движения и разные траектории. У нас разные сослуживцы, разные профессиональные обязанности и разная зарплата. У нас, в общем, все разное…
А когда-то нас было водой не разлить.
– Так в чем же твой эксперимент? – спросите вы.
– Видите ли, в чем секрет, – отвечу я вам. – В каждом лабиринте живет свой Минотавр. И Минотавр моего лабиринта – это наша встреча: моя с ним.
Когда я шла в лабиринт, мне казалось, что все очень просто:
Я встречу его совсем случайно и на удивленный широкоглазый вопрос: «Что ты тут делаешь?!» – в зависимости от обстоятельств и места встречи спокойно скажу: «Иду по коридору»; «Еду в лифте»; «Собираюсь пообедать»; «Несу ЕКС в ремонт» и т. д. и т. п. И только потом скромно, но с достоинством отвечу, что я здесь работаю: «уже неделю»; «уже два месяца»; «уже полтора года» (это – в зависимости от времени встречи). А потом я расскажу ему о том, что у меня все здорово, лучше всех, и о том, что больше я в его обществе совсем-совсем не нуждаюсь. И я выиграю. А он соответственно проиграет. И я убью своего Минотавра. И Минотавр больше не будет мне угрожать. Ни-ког-да.
Я встретила его на третьем месяце работы прямо около узкой металлической арочки на центральном входе. Я вбегала вверх по лестнице, он собирался спускаться вниз. И я вдруг поняла, что до смерти боюсь Минотавра. Я низко-низко опустила голову и начала рьяно копаться в сумочке (как бы в поисках пропуска), я свернула немного в сторону и только чуть-чуть скосилась вбок – убедиться, что меня не заметили.
И он меня (УРА!!!) действительно не заметил: за прошедшее время я сменила стиль, сменила прическу, а главное – ему и в голову не пришло бы предположить, что там, на центральном входе теперь уже нашего общего лабиринта, он может встретить меня.
Но с того памятного дня, если я вижу где-то в конце коридора мелькнувшую, хоть чуть-чуть похожую на него тень, мое глупое сердце в считанные секунды оказывается в пятках. Оно гулко испуганно бухает там, внизу, и никак не хочет возвращаться на природой отведенное место. Уши и щеки начинают гореть, руки подрагивают мелко и конвульсивно. Я испытываю пошлый ужас. Одинаково пугают и его возможное равнодушие, и его возможная радость при встрече – с первым я не смогу жить, со вторым не буду знать, что делать.
Я сократила свои перемещения по коридорам до самого минимально возможного минимума. Я хожу и затравленно озираюсь. Я…
Слава Богу, у этого здания планировка запугана еще сильнее, чем мои мысли. И потом, в этом доме столько народу, что нас проще и правильнее было бы сравнить не с морскими свинками, а с муравьями. Среди такой толпы очень легко затеряться. Может, мы и не встретимся больше, а?
У этого рассказа не будет ни плохого, ни хорошего конца, пока я не встречу своего Минотавра. Но когда я его все-таки встречу (встречу ли?), то кто знает…
А какая-нибудь шестиклассница прочтет, да и поймет все буквально. И запишет в свой блокнотик, что любовь – лабиринт».
Мастер внимательно меня выслушал, а потом спросил:
– Вы, конечно, с поэтического семинара?
– Да. А почему «конечно»?
– Значит, так. – Мастер легко поднялся из-за стола, проследовал к доске к взял в руки мел. На доске появилась белая синусоида. – Основное отличие поэзии от прозы состоит в следующем, – обратился мастер к аудитории, указывая на график. – В прозе чередуются пики и спады. За кульминацией обязательно следует некоторая разрядка. Не то – в поэзии. Поэтический текст в идеале не должен содержать в себе проходных моментов, за кульминацией снова следует кульминация. (Он провел по макушкам синусоиды прямую линию.) В данном случае мы смогли пронаблюдать, как наша уважаемая гостья попыталась построить прозаический текст по принципу' поэтического. Это неудачный рассказ. Очень плотное повествование. Не хватает подробностей, деталей. Спадов не хватает.
Я сникла.
– Да вы не расстраивайтесь, – обратился мастер уже ко мне. – Я ничего плохого вам не сказал. Я имел в виду вот что: в маленький рассказ вы уложили тему, которой хватило бы на роман. Или как минимум на повесть. Вот если бы ваша героиня по лабиринту подольше поблуждала… Если вы поэт, то для вас это вполне нормальное явление. Иначе и быть не могло.
Мастер стер с доски свой график, размазав по мутно-зеленому полю дополнительную порцию белого крошева, и сел на свое место. Ни он, ни я не знали, что я буду бродить по своему лабиринту всю жизнь.
– Ладно, следующий, – кивнул он Валерке.
Валерка бодро взобрался на кафедру и громким, хорошо поставленным голосом (окончил актерский в ГИТИСе) начал читать:
– «Муха Петровна проснулась утром с похмелья…»