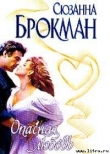Текст книги "Тщеславие"
Автор книги: Виктория Лебедева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Глава 2
Занятия в институте начались первого октября. Группа подобралась разношерстная и разновозрастная. Были в ней совсем взрослые мужчины и женщины, за тридцать, серьезные семейные люди: женщины приходили на занятия с авоськами, полными картошки и помидоров, мужчины отсаживались на «Камчатку», расписывали «пулю» или мир, но засыпали. Но большинство составляли все-таки бывшие школьники вроде нас с Наташей, провалившие экзамены в самые разные институты и отправленные сюда учиться родителями или знакомыми родителей – сотрудниками завода. В основном все студенты попали на работу в конструкторские бюро или архивы, под присмотр к мамам и папам. Наташа моя, например, сделалась у папы секретаршей. Так что в цехе номер два нас оставалось по-прежнему трое: я, Слава и Кубрик.
Поначалу мы со Славой друг на друга вообще никакого внимания не обращали. Здоровались, конечно, но не более того. Но однажды грянула проверочная контрольная по математике. Все студенты склонили головы над тетрадями и лихорадочно что-то рассчитывали, на небольшое количество калькуляторов организовалась очередь, в аудитории звучал громкий равномерный шепот, и аккуратно свернутые листки в клеточку перелетали с парты на парту.
Слава сидел сзади меня и, видимо, страдал. В его тетради не было написано ничего, кроме задания. Он нервно грыз шариковую ручку и своим отрешенным полупрозрачным взглядом упирался в потолок. Щеки багровели много сильнее обычного. Я оглядела эту странную, грустную фигуру – мне стало отчего-то безумно его жаль. А потом, слишком уж легко мне было помочь его горю: он сидел за мной, следовательно, и варианты задания у нас были одинаковые. Поскольку все мои расчеты были уже окончены и все желающие списать у меня уже списали, то мне ничего не стоило за оставшиеся полчаса сделать для Славы копию.
Я потихоньку положила перед ним лист бумаги с решениями, свернутый вчетверо. Он развернул, начал читать, на лице забрезжила благодарная улыбка. Наверное, если бы он был собакой, то сейчас изо всех сил вилял бы хвостом и хвост бы громко бился о ножку стула. Потом он переложил изрядно изгрызенную ручку в правую руку и начал быстро-быстро переписывать; по строчкам неровно запрыгали меленькие округлые буквы.
Отзвенел звонок, студенты стали шумно выбираться в коридор. Учились мы уже пятую неделю, и за это время у нас составилась компания человек из пятнадцати. Слава, кстати, как и моя Наташа, в эту компанию не вписался. Обычно он держался особняком, в перерывах отсаживался куда-нибудь в дальний угол и погружался в чтение очередной книги из серии зарубежной фантастики, которая только начала появляться тогда в свободной продаже. «Наши» косились на него с недоверием, посмеивались. Выглядел он и правда забавно, а когда начинал говорить, то делал это громко и восторженно, что всегда вызывало хихиканье за его спиной.
Мы стояли в коридоре и, перебивая друг друга, обсуждали только что прошедшую контрольную, сверяли ответы, спорили. Лора, сочная крашеная блондинка, обещала Кубрику бутылку, если получит с его помощью оценку выше трояка. Зайка, получивший свое прозвище за то, что довольно сильно заикался, пытался позвать всех выпить пива, но его не слушали, так как в силу дефекта речи говорил он очень медленно и непонятно. Все мы чувствовали облегчение, настроение наше с каждой минутой улучшалось.
Сквозь толпу, перегородившую всю середину неширокого коридора, ко мне, по обыкновению громко и восторженно говоря что-то, пробирался Слава, но что именно он говорил, за общим шумом слышно не было. Потом ему все же удалось протиснуться ко мне почти вплотную, и он начал шумно выражать свою крайнюю благодарность.
– Ой да ладно, не за что, – отмахивалась я, но он все говорил и говорил что-то на тему: да что бы я без тебя делал, да я в математике дуб дубом, да ты меня просто спасла, да я не знаю, как тебя теперь благодарить, и т. д. и т. п. По мере продолжения этой тирады громкость его голоса все повышалась и повышалась.
Друзья-однокурсники стали в нашу сторону оборачиваться и прислушиваться с интересом. Кубрик в паре метров от меня заулыбался гаденько и многозначительно, а Лора что-то со смехом зашептала ему на ухо. Скоро почти все молчали и слушали Славино соло. Я почувствовала себя полнейшей идиоткой, щеки и уши мои начинали гореть. А еще я проклинала все на свете за свою неуместную отзывчивость, из-за которой неожиданно стала посмешищем всей группы. Обычно в подобных ситуациях взрослые люди ведут себя проще, не глазеют и, уж конечно, не ощущают никакой неловкости, но в семнадцать лет это непосильный удар по самолюбию. И во мне шевельнулся червячок раздражения на Славу: на его нелепое поведение и на его нелепый вид.
Наконец куча начала рассасываться, ребята потянулись в сторону выхода. Двинулась и я, а Слава пошел за мной, чуть сзади, и все еще выражал благодарность.
На улице ощутимо моросило.
Я полезла в сумку, но зонтика не обнаружила. А ведь утром он совершенно точно был, я же с ним и выходила из дому. Потом вспомнила: черт, я же оставила его на работе, поставила в уголок за сейфы, сушиться, и оставила.
Пока я по инерции рылась в сумке и вспоминала, куда мой зонт мог подеваться, про Славу почти забыла. Оторвал меня от сих безнадежных поисков громкий хлопок над правым ухом. Надо мой закачался черный купол, а под этим куполом радостно улыбался Слава. Я вопросительно подняла глаза, и он галантно подставил мне левый локоть.
За прошедшие несколько минут основная масса народу уже отправилась в сторону метро, а поэтому выбор у меня был нехитрый: пересилить себя и взяться за подставленный локоть или промокнуть. «Ну ладно, – подумала я, – до метро идти всего-то минут шесть-семь, потерплю как-нибудь». Уже начинался ноябрь, было холодно, и промокнуть не хотелось совершенно.
* * *
Мы со Славой завершали всеобщее шествие. Я, со своим немаленьким ростом, едва доходила ему до плеча, и ему пришлось наклониться. Он что-то дружелюбно рассказывал, должно быть, что-нибудь веселое, потому что временами начинал смеяться. Я же не слышала ни одного слова, а только напряженно смотрела вперед, на ребят. Кубрик и Лора поминутно оглядывались на нас и шептались. Мне в очередной раз стало неловко, я опустила голову и стала тупо рассматривать остатки мокрых листьев под ногами, и дробные отражения фонарей в лужах, и забрызганные носки своих демисезонных ботинок. Мне казалось, что до метро мы не дойдем никогда, и снова зашевелился где-то внутри червячок раздражения.
У станции ребят мы наконец нагнали и в вестибюль ввалились скопом. Почти всем нужно было ехать через Кольцевую, и они стали сворачивать направо, к поезду в сторону «Марксистской». «В-в т-тр-реть-тью дввверь т-тр-ретьего вагона!» – натужно провозгласил Зайка. Он, как всегда, пытался сэкономить время и старался попасть из дверей прямо на лестницу перехода. Я пошла налево, мне нужно было в Новогиреево, причем как можно быстрее, чтобы не опоздать на электричку в 22.23. Следующая была петушинская, полупьяная и прокуренная, и ездить на ней я попросту боялась.
Помахала рукой ребятам на противоположном конце платформы, поискала глазами Наташу. Но Наташа куда-то испарилась. Она и раньше, еще когда мы в школе учились, была тихой и незаметной, эдаким мелким серым воробышком, и, выходя, я даже не вспомнила о ней. Должно быть, она не дождалась меня и уехала домой сразу после звонка, а я не обратила на это внимания. Зато за спиной стоял сияющий Слава.
– Тебе куда? – спросил он.
– В Новогиреево.
– Ой как удачно! Мне тоже. А ты там где живешь? Близко от метро? А я – на Молостовых. Знаешь? Может, тебя проводить?
– Нет, спасибо, – сказала я холодно, – вообще-то мне на электричку надо, я за городом живу.
– А, на станцию, знаю. Значит, нам почти совсем по пути. Я тебя все-таки провожу, не возражаешь? И зонта у тебя нет.
Подошел поезд.
– Ладно, поехали, – вздохнула я.
А с понедельника начались неприятности. Сначала Наташа моя по дороге на работу объявила, что бросает учебу. Мы качались в такт вагону, хватая друг друга за локти, чтобы не упасть, когда мимо, к выходу или от него, пробирались озлобленные заспанные пассажиры. Усыпляюще, монотонно звучал ее негромкий, бесцветный голос. Наташа говорила, что за последнее время устала смертельно, что ее замучили головные боли, что она постоянно хочет спать, что программа слишком сложная и она ровным счетом ничего не понимает, и так далее в том же духе. А я пыталась увещевать ее, обещала посильную помощь по всем предметам. Но это был тот редкий случай, когда тихоня Наташа осталась непреклонной. (В результате угрозу свою она исполнила, забрав из института документы за неделю до начала первой сессии.)
В тот же день во время третьего перекура у моего стола появился Слава и стал беззаботно о чем-то рассказывать. Кубрик поднял глаза к потолку и демонстративно зевнул, но Слава этого не заметил и продолжал говорить. Как всегда громко и восторженно.
И так уж получилось, что эти утренние визиты стали ежедневными. Он говорил об учебе (как правило, просил помочь с каким-нибудь решением), о работе и много еще о чем, выдавая всем смыслом своей речи полную техническую безграмотность. Даже паять как следует он не умел, пайки получались у него длинные и острые, как булавки, хотя по всем ГОСТам им предполагалось быть плоскими и гладкими. Значение слова «радиоинженер», несмотря на то что это была его будущая профессия, представлялось ему туманно и расплывчато, и к концу второй недели своих хождений он утратил последние крупицы Кубрикова уважения. Кубрик его явно невзлюбил.
Было в цеху и еще одно существо, невзлюбившее Славу, – маленький волнистый попугай Челленджер. Этот Челленджер жил здесь уже второй год и поначалу носил вполне попугайское имя Гоша. Новое прозвище он получил от бригадного юмориста Вити Майорова в день, когда попал в свою первую аварию: он свалился в глухую десятисантиметровую щель между стеной и высоким металлическим сейфом, пролетел до самого пола и расхаживал там, возмущенно чирикая. По слухам, для его вызволения потребовалась сила шести человек.
К моменту моего появления на заводе о его «подвигах» ходили легенды. Однажды он, например, врезался, растопырив крылья, в лист с эпоксидной смолой, повешенный кем-то на прищепках поверх схемы, и сразу стал похож на лейбл фирмы «Монтана»: перья слиплись, крылья застыли в одном положении и никак не хотели складываться. Битый час его отмывали в туалете теплой водой и хозяйственным мылом, а потом он, нахохлившись, высовывал клюв из вафельного полотенца, в которое завернули его, чтобы высушить, и громко ругался на своем попугайском наречии. В тот раз он едва остался жив. Но это его нисколько не вразумило, и уже через месяц он уселся на край вытяжки на столе Майорова. Тяга была сильная, и его засосало в раструб по самый хвост. За этот хвост его и вытаскивали обратно, и поэтому он был заметно короче, чем хвосты других, нормальных волнистых попугаев.
Столовался Челленджер у всех по очереди: во время обеда парил между рядов, присаживаясь на краешек каждой банки и пробуя на вкус ее содержимое. Он ел и тесто от пельменей, и макароны с сыром, но за гречневую кашу готов был продать душу дьяволу. Помню, как-то раз прилетел ко мне, сел на круглый стеклянный ободок, сунул голову внутрь и начал быстро-быстро выклевывать гречневые зернышки. Но, от жадности, должно быть, потерял равновесие, сорвался и полетел в банку вниз головой. Его пришлось снова извлекать и мыть, и он снова шумно выражал протест. Потом, если мне доводилось принести с собой гречку, я выкладывала ему пару ложек на перевернутую крышечку во избежание несчастных случаев.
Челленджер сразу обозлился на Славу за что-то, известное только ему одному. Стоило только Славе появиться в дверях, как это непоседливое желто-зеленое существо, этот «золотой петушок» взвивался над Славиной головой и все норовил клюнуть в темя. Слава смешно отмахивался, но бравый попугай не сдавался и продолжал атаки.
Слава добирался наконец до моего стола и садился на край в опасной близости от подставки с паяльником, каждый раз рискуя прожечь себе брюки. Челленджер, считавший эту территорию исконно своей, поскольку на шкафу рядом стояла клетка, в которой его запирали по вечерам, еще на некоторое время с угрожающим криком зависал над Славой, подобный игрушечному вертолету, а потом успокаивался, усаживался на плечо и старался побольнее ухватиться клювом за тонкую мочку уха. Это не удавалось ему почти никогда, так как Слава обладал живейшей мимикой и поворот его стриженой головы был всегда стремителен и непредсказуем.
Я вежливо слушала Славины байки, вставляя, где удастся, поочередно: «да», «ага» и «конечно», а потом, чтобы поскорее избавиться от его общества, быстренько решала очередной пример.
У Славы была дурацкая привычка постоянно вертеть что-нибудь в руках, и в бездонных карманах его рабочего халата бесследно исчезали мои бокорезы, отвертки и пассатижи. По этой причине хождения «в гости» очень скоро сделались взаимными.
Минут через пятнадцать после Славиного ухода на свое рабочее место я недосчитывалась на столе какой-нибудь маленькой, но крайне необходимой вещицы, чертыхалась, вставала (Кубрик ехидно посмеивался) и шла в комнату соседней бригады за пропавшими инструментами. Слава смущенно извинялся, краснел и выворачивал наизнанку карманы, возвращая случайно унесенное. Женщины – а в отличие от моей бригада Барышниковой состояла по большей части из женщин – понимающе переглядывались и улыбались мне ласковыми материнскими улыбками. А однажды Барышникова, полненькая сорокалетняя брюнетка с глазами, начисто лишенными малейшего проблеска интеллекта, поймала меня за руку и заговорщическим тоном вопрошала:
– А что, Надюша, ведь Слава – хороший мальчик? Кажется, он симпатичный и порядочный?
Я зло отдернула руку и ушла к себе, ничего ей не ответив. Барышникова затаила обиду и вскоре составила план мести.
Дело в том, что Слава, человек от природы очень болтливый, приходя ко мне в начале перекура, никогда не укладывался в положенные семь минут, время его пребывания растягивалось как минимум на срок раза в три больший. И бригадирша заставила его писать объяснительные записки о причине отсутствия на рабочем месте в рабочее же время.
Это были трогательные, очень лиричные творения размером в одну тетрадную страницу, без единой грамматической ошибки и без единого знака препинания (если не считать точек). Они повествовали о том, как трудно живется студенту вечернего отделения и насколько необходима при подобной системе обучения взаимовыручка, в особенности если дело касается решения задач и составления чертежей.
Барышникова зачитывала эти литературные произведения остальным женщинам во время обеденного перерыва, потихонечку, пока Славы нет поблизости, женщины хихикали, а потом переходили к бурному обсуждению наших со Славой отношений, какими они могут сложиться впоследствии. Это мне Майоров рассказал – услышал как-то случайно, когда ходил в архив за схемами. Я расстроилась ужасно, даже Кубрик прекратил свои извечные издевательства по поводу Славы и стал меня утешать: «Да ладно, не обращай ты внимания на этих глупых куриц». Но я, к стыду своему, обратила. И про себя тихо возненавидела. Почему-то не их, а Славу.
Глава 3
Слава не замечал моей тайной неприязни. После звонка он ждал нас с Кубриком в дверях в широкой, не по размеру, куртке неопределенного серо-зеленого цвета, в странной, белесой, неизвестно из кого сделанной шапке; потертая кожаная сумка была перекинута через правое плечо и, причудливо изогнувшись, болталась за спиной. Мы отправлялись на занятия.
Шли мы обычно в следующем порядке: впереди я и Кубрик, занятые разговором, а примерно в полутора метрах позади – Слава с бутылкой молока в одной руке и свежим белым батоном в другой. Эти батоны продавались у нас прямо на проходной, в маленьком магазинчике. До корпуса, в котором мы занимались «без отрыва от производства», было всего десять минут ходьбы, но к концу пути батон неизменно оказывался съеденным, а молоко – выпитым. Я все удивлялась, как это у него получается, он такой худенький.
– А знаешь, у меня брат – поэт, – рассказывал Кубрик, – он меня на десять лет старше. Он Литературный институт закончил.
– А что, разве такой институт есть? – спросила я, стараясь не показывать излишнего интереса. Дело в том, что еще в школе я потихоньку пописывала стишки, но мысль о том, что для этого можно еще и учиться специально, никогда не приходила мне в голову.
– Да, на Пушкинской. Конкурс был – двадцать пять человек на место, представляешь? А он все равно прошел. Правда, только на заочное отделение, но все равно. Туда ведь почти только одних иногородних берут. Чем дальше живешь – во Владивостоке там или в Мурманске, – тем больше шансов. Говорят, что они самобытнее, иногородние. А у москвичей самобытности нет, они природу не чувствуют. Но он все равно поступил. Он, и еще с ним один парень из Москвы.
– Да, здорово, – отозвалась я задумчиво, а задумалась о том, почему это я про такой институт никогда не слышала.
– У него, может быть, даже книжка скоро выйдет. А если три книжки издаст, то его наверняка примут в Союз писателей. Это вообще – золотое дно.
– Да ну? Правда?
– Да что я тебе, врать буду, что ли? На фига мне это нужно?
– А у меня папа песни пишет, – послышался за спиной Славин голос. Эту фразу он произнес с тягучим акцентом не до конца прожевавшего человека. – И стихи тоже. – Слава наконец проглотил. – Хочет сборник составить.
Мы оглянулись и остановились. Слава продолжил:
– Он уже три венка сонетов написал.
– Ну и что такое венок сонетов? – спросила я насмешливо.
– Это когда пятнадцать сонетов… Знаешь, что такое сонет?
– Знаю, спасибо. Я же не настолько темная.
– Так вот, это когда пятнадцать сонетов пишутся друг за другом, и последняя строчка первого – это первая строчка второго. И так дальше. А последний, пятнадцатый, составляется из первых строчек тех четырнадцати, которые перед ним. Поняла? – Слава опять куснул от батона.
– Разумеется, – ответила я ему, – чего уж тут непонятного…
Но, честно говоря, первая попытка представить себе это произведение хотя бы в воображении успехом не увенчалась. Кубрик многозначительно молчал, и на лице его явственно читалось: «Где уж твоему папе до моего старшего брата». А у меня мелькнула мысль, что Слава вовсе не такой уж дурак, каким кажется на первый взгляд. Но только мелькнула и погасла.
Погасила эту светлую мысль вездесущая Лора, она махала нам с другой стороны дороги и пыталась что-то сказать, но из-за машин ее слышно не было. Мы дождались, пока поток схлынет, и перешли на ту сторону.
– Ребят, у нас преп заболел, первой пары не будет, – громко, хотя кричать больше не требовалось, затараторила Лора. – Мы – в кино. Вы пойдете?
– А какой фильм? – спросил Кубрик.
– Здорово, конечно, пойдем! – одновременно с Кубриком восторженно утвердил Слава.
В кино пошла наша неразлучная компания и Слава. Мы шумной стайкой перемещались по вестибюлю, рассматривая картинки и фотографии. В какую бы сторону я ни шла, Слава неизменно шел за мной. Кубрик опять шептался с Лорой, рассказывал ей что-то (про брата-поэта, наверное, и про папу) и кивал в нашу сторону. Спасибо, пальцем не показывал. Я опять начала злиться и все пыталась оторваться от навязчивого Славиного преследования, но мне это так и не удалось. В зале он все равно уселся рядом.
Картина была плохой и пошлой, из серии тех фильмов, которые принесло к нам из Америки с первым, пока еще совсем слабым, ветром перестройки. По пляжу скакали полуголые девицы, хлебали виски из горлышка, курили травку и обжимались с мускулистыми загорелыми парнями. Такие фильмы прошли волной и первые полгода собирали полные залы, но, наверное, благодаря им кинотеатры в результате утеряли зрителя и превратились через несколько лет в автосалоны и торговые центры. Но нашим ничего, понравилось, особенно ребятам.
Вернулись мы в институт буквально за минуту до начала следующей пары. Я пошла на свое место с облегчением: наконец-то от Славы избавилась. Не тут-то было. Он снова возник рядом с вопросительной тирадой:
– У тебя свободно? Ничего, если я здесь сяду? А куда, кстати, подевалась твоя подруга?
В аудиторию вошел преподаватель, и я не успела произнести ни одного слова возражения.
Потом насупленно молчала всю лекцию, отодвинувшись от Славы как можно дальше, вжавшись в холодную стену правым плечом, и смотрела только в конспекты. Во мне поднималось уже не раздражение, а самое настоящее бешенство.
А потом я начала от него прятаться. Ехали мы с одной стороны, и если я замечала его на станции «Новогиреево», то потихоньку перебегала в соседний вагон, а потом, выскочив из метро, шла к проходной быстро-быстро, как только могла. Нарочно не оглядывалась, иначе это бы смотрелось совсем уж глупо. А после занятий ехала на Курский, давала крюк минут на сорок, лишь бы не по пути.
Но этих бегств Слава тоже, казалось, не замечал и неизменно заходил ко мне поболтать в перерыве. И в душе я по-прежнему проклинала его, теперь уже за крайнюю степень непонятливости. Надо мной потешалась большая часть группы в институте и все заводские тетки с нашего этажа. Было очень обидно.
Наверное, все бы так и продолжалось, Слава догадался бы наконец, что он лишний, и ушел, если бы не одно банальное мелкое обстоятельство: эпидемия гриппа. Она разыгралась в Москве сразу после Нового года, а в середине следующего месяца посадила на больничный Кубрика и с ним еще половину бригады. На заводе без Кубрика была скука смертная. Он не приходил уже вторую неделю, работа казалась монотонной, как никогда, хотелось отвязаться от нее как можно скорее. Целыми днями я сидела за своим столом, не вставая в перерывах, и собирала платы неизвестного назначения: диоды, конденсаторы, сопротивления, диоды, конденсаторы, сопротивления. Я уже смотреть на них не могла и все убыстряла темп, скорее бы закончить, а их приносили опять, все новые и новые коробки плат и деталей. Майоров, один из тех немногих счастливчиков, которые не заболели, стал называть меня «станок типа ДИП» (догоним и перегоним). В институте после каникул почти никто не появлялся, одни болели, другим было просто лень, после первых экзаменов все расслабились и не хотели учиться. Я осталась со Славой нос к носу.
В обеденный перерыв я сидела на холодном подоконнике, болтала ногой, ела бутерброд с сыром и смотрела в окно. Окно было огромное, грязное, с ржавыми потеками на стеклах, между фрамуг густо просеянное дохлыми мухами и ватной, почти черной пылью. Оно выходило во двор, со всех сторон окруженный разновеликими строениями и загроможденный всякой всячиной. Во дворе были вперемешку свалены трубы, обломки кирпича и сырые желтые доски, стояли железные, исписанные мелом контейнеры. За одним таким контейнером в углу двора молоденькая татарочка Гуля, единственная девушка в группе пэтэушников-практикантов, целовалась с кем-то из своих постоянно сменяющих друг друга кавалеров. А в квадрате неба над двором предполагалось солнце, небо было синим и ярким. Я отвернулась. Ко мне подходил Слава.
– Привет. Скучаешь? Пойдем за мороженым? – радостно выдал он.
Я не ответила, даже не поздоровалась. Взглянула на него почти с ненавистью. Слава остановился, помолчал немного, посмотрел на меня задумчиво, а потом, гораздо тише, спросил:
– Я тебя чем-нибудь обидел?
Мне стало совестно, обижаться на него было абсолютно не за что. Получалось, что вся его вина состоит в хорошем ко мне отношении.
– Нет, что ты, – отозвалась я смущенно, – просто настроение поганое, у меня от этих дурацких плат уже глаза в кучу. Действительно, пойдем-ка за мороженым, чего тут сидеть.
Мы выбрались на улицу. Погода была морозная, солнечная – ни ветерка, ни снежинки. Слава весело подставил небу свои розовые щеки, вдохнул глубоко:
– Классно все-таки на улице! Слушай, не грусти, смотри, какое солнышко! А со мной тут такая история произошла, полный прикол. Я в выходные на Птичий рынок ездил, хомяка купил. Ну, хомяк такой толстый, пушистый, рыженький. «Мальчик?» – спрашиваю, а тетка мне: «Конечно, конечно!» Принес его домой, в клетку посадил, назвал Кешей. А он забился в угол, сидит, не ест ничего и почти не шевелится. Ну, я расстроился. Подумал, что он, наверное, больной. А вчера мой Кеша родил еще троих хомячат. Представляешь? Они такие забавные все. Тебе, кстати, хомячок не нужен?
– Нет, не нужен. Слав, ты только не обижайся, можно задать тебе один нескромный вопрос?
– Валяй!
– Я давно хотела спросить, почему ты всегда так быстро и громко говоришь?
Слава беззлобно рассмеялся:
– Папа считает, что эта привычка у меня с детского сада. В детском саду дети всегда слушают того, кто говорит громче всех и быстрее всех.
Мы шли к метро по берегу маленького замерзшего пруда. Слава вошел в искристый сугроб по колено, сорвал с голого куста длинный темный прут и всю дорогу размахивал им, как шпагой. Он заходил вперед, оборачивался ко мне и рассказывал всякую всячину, для наглядности корчил уморительнейшие рожи и разводил руками. Он говорил о том, что в детстве, лет в пять, был таким воображалой, совсем как девчонка, – надевал на себя сразу по два костюма и подолгу вертелся перед зеркалом; что собирает модели самолетов, что всегда хотел стать летчиком, но не смог пройти медкомиссию. И я наконец заметила то, чего упорно не хотела замечать в течение четырех месяцев знакомства, – с ним было интересно. Он, конечно, немножечко рисовался и немножечко хвастался, но сам первый смеялся над своим хвастовством. Настоящего гонора в нем не было.
– Мишка – отличный парень, – говорил Слава, – он так много всего знает. Снимаю шляпу. Я по сравнению с ним – полный оболтус. Жалко, что он заболел.
Я подумала: странно, Кубрик его терпеть не может, это сразу в глаза бросается, а Слава о нем – ну хоть бы одно плохое слово сказал. Что это, простая тактичность или он к людям вообще так хорошо относится? Если к людям вообще, то это, пожалуй, здорово… И как я могла так по-хамски вести себя? Уж сама-то должна была помнить свои «счастливые школьные годы», когда была толстеньким гадким утенком да к тому же лечилась от косоглазия, после травмы, и до пятого класса проходила в уродливых очках с одним заклеенным стеклом. Одноклассники издевались надо мной только за мой внешний вид, никто не хотел со мной дружить, никто не приглашал на день рождения. Да, потом, годам к пятнадцати, я повзрослела и похорошела, ребята стали меня воспринимать по-другому, но их отношение было все-таки трудно изменить в лучшую сторону. Неизвестно, изменилось бы оно вообще, если бы им не нужно было у меня списывать. В который раз за сегодня мне стало совестно перед Славой, я взглянула на него совсем по-другому, и когда мы оказались наконец у киоска с мороженым, во мне уже не было ни злости, ни раздражения.
К концу второго семестра мы стали хорошими друзьями – вместе приходили в институт, вместе уходили, сидели всегда за одной партой. С ним было легко, он всегда делился своей радостью и никогда – проблемами. Он не только хорошо говорил, но и хорошо слушал; мы любили одинаковую музыку и одинаковые книги. Теперь, когда он забегал ко мне в перекур, я всегда была ему искренне рада. И наплевать было, что обо мне скажут или подумают. Кубрик еще насмехался над Славой по малейшему поводу, но я не обращала на него внимания, а когда слишком уж доставал, говорила: «Слушай, что ты к нему постоянно цепляешься? Ты же взрослый мужик, у тебя уже дети есть! Как тебе самому-то не надоест?» В результате он отвязался.