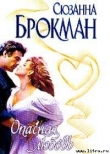Текст книги "Тщеславие"
Автор книги: Виктория Лебедева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Глава 10
Подводя итоги, можно сказать, что мой вояж в Покровку временно превратил меня в некое подобие маньяка, а Слава до сентября канул в дачное лето, оставив меня наедине со своей манией, с чувством непонятной тревоги и с десятикратным долгим «ту-у-у» на том конце телефонного провода.
А уже в середине сентября взошла на царство Татьяна вторая…
Интересные можно сделать выводы, если принять на секунду во внимание этимологию этого имени. Тать – разбойник, вор; всплывают в памяти школьные уроки истории, учительница Галина Николаевна, фанатичка, сказочница, и уже чудится грязноватый, слегка изогнутый в суставах перст, обязательно с кривым, обломанным ногтем, дрожащий, указующий на кого-то из группы дебелых крепостных девок: «Тать она… Татьяна…» Обокрали, в который уже раз обокрали…
Я никогда ее не видела, наверняка знала только, что молодая, нам со Славой ровесница. Мне хотелось думать, что была она красивой. И умной. Проигрывать, так уж по-честному, пусть она будет во всем лучше меня, пусть, пусть поднимется на положенную высоту и засияет, пусть обогреет своим сиянием, и тогда я поверю, что все правильно, все справедливо, я не умею обогреть, да и сиять не умею тоже. Узнай я, что это – честный проигрыш, и мне станет легче, я безропотно уйду с дороги; но знать я не могла, оттого и рисовала ее себе как некую Прекрасную-Премудрую Василису.
А Слава опять исчез с занятий, предварительно наказав мне, что звонить ему следует только в крайних случаях, если контрольная или лаба. При этом строго-настрого запрещалось передавать информацию о контрольных матери, она-де уверена, что его долгие осенние вечера целиком и полностью посвящены учебе, и, узнав противное, будет крайне расстроена.
Теперь он почти не заходил ко мне на работе и больше ничего не рассказывал о своих похождениях, избегал меня, бывали дни, когда я не видела Славу даже мельком. Наверное, он тоже начал потихонечку взрослеть, вопреки прогнозам Людмилы Евгеньевны, которая все утешала меня, стоило ей только случайно оказаться по ту сторону телефонного провода во время моих редких, строго «по инструкции», звонков, и говорила: «Ну, потерпи, мал еще, перебесится» – и т. д. и т. п., но я больше ей не верила.
А работы с каждым днем становилось все меньше, и она была все скучнее, львиная доля дня уходила у меня на созерцание вездесущей осенней воды, которая вечно омывала оборотные поверхности пыльных цеховых окон, превращая контейнеры и доски за стеклом в дрожащие пятна; на бесцельное изучение туч цвета асфальта, ходивших над крышей противоположного корпуса. Челленджер временами подлетал, садился на плечо и забавлялся серьгами из орешка – были эти серьги длинными, почти до плеча, и чтобы уклюнуть их, ему не нужно было даже голову задирать. Но скоро и он исчез, Майоров со всеобщего одобрения унес его домой, на день рождения своей восьмилетней дочке, у него денег на подарок не было. Работать не хотелось, учиться не хотелось, не хотелось ехать домой к бесконечным сериалам и нотациям, вообще ничего не хотелось.
Когда Слава объявил об увольнении, я не удивилась, сказала: «Правильно, давно пора, здесь ловить нечего», а он повел долгий и путаный рассказ о том, как отец подруги однокурсницы Татьяны-второй случайно устроил его в Останкино – монтажером на первый канал. Я изобразила на лице нечто, должное отражать приторную радость, пожелала удачи на новом месте, даже посидела минут пятнадцать за прощальным тортом в обществе Барышниковой и К, а потом вернулась к тупому созерцанию прямоугольника окна. И сами собой в голове моей начали складываться слова и даже подобие мотива:
Окна имеют форму прямоугольника
И делятся на две-три неравных части,
Подойду к окну, на стекло подышу легонечко,
Нарисую формулу счастья,
И начнется лето, и мы отправимся за город,
И случайный дождь с головою накроет нас,
Чтоб согреться, костер до самого неба складывать
Будем мы из скатанных в пробные шарики фраз,
А потом начнется осень, осень, в которую…
Я не знала, что дальше, и подбирала слова, а они не подбирались, и уже не видно мне было ни окна, ни дождя за окном, а только кадры определений и фрагментов перед глазами, выпуклые и вогнутые слова, похожие на детские пазлы, которые никак не хотели ложиться в рисунок. Кажется, именно с этого момента я осознала, что могу писать; все, что было до, воспринималось мной как забава и подражание, как некое хобби, но теперь… Я вспомнила Кубрика, его литинститутского брата и первый раз подумала всерьез: «Жалко, что я учусь не там. Должно быть, там все по-другому…»
А может быть, все началось совсем не так, но моя избирательная память рисует теперь гладенькую прилизанную картиночку, обкатанную в течение многих лет профессиональных литературных занятий, и все логично, и все разложено по полкам, и давит от корки до корки прочитанный Данте Алигьери: «Я написал два сонета; первый начинается: «Амор рыдает», а второй: «О, неприятельница состраданья…» Не хватает только приписать в конце, что «первый сонет делится на три части», и в первой я «призываю верных Амору и побуждаю их к плачу»[1]1
Данте А. Новая жизнь.
[Закрыть].
Зачетная сессия была уже на носу, и Слава забрел в институт на пару с первым снегом.
– Привет, – сказал Слава и печальным, почти трагическим жестом опустил голову набок. – Меня отчисляют.
– Отчисляют… – У меня нехорошо засосало под ложечкой. – За что?
– Я же математику весной так и не сдал, помнишь? – ответил Слава, и голос его даже дрогнул немного.
– Так ты что, не пересдал еще?
– Ты знаешь, – Слава замялся, – я и не ходил туда. Понимаешь, я…
– Да, понимаю, – перебила я его, дабы избежать подробностей, причина мне и так была известна. А Слава продолжал:
– А вчера я ездил к нашей, ну, к Пономаревой, она сказала – поздно очухался, она отказывается принимать экзамен. Я ей и направление принес из деканата, но ты же знаешь, она меня ненавидит, сказала, что раньше надо было думать, а не шляться бог знает где. Но… На самом деле это не самое худшее. Меня ведь на работу взяли только потому, что я учусь по специальности. Знаешь, как туда трудно попасть?!
– Догадываюсь…
– Так вот, если меня отчислят, то тут же и уволят, я ведь там работаю всего ничего, и связей особых нету… А мне, ну ты понимаешь… Мне сейчас деньги очень нужны… Мы с Таней… Я не знаю, что делать, – закончил он.
А я молчала. Я тоже не очень хорошо представляла себе, что делать. «Деньги ему нужны, жениться, наверное, собрался, почувствовал, что на ноги встает. Впредь ему наука, вот отчислят, уволят, будет тогда думать, что делает, – мысленно позлорадствовала я сначала, а потом так же мысленно начала уговаривать себя: – Так нельзя, он же мой друг. Он же мне ничего не обещал, что ж я злюсь на него? Не виноват он, просто так получилось. Нехорошо так думать, нужно вести себя благородно и т. д. и т. п.», – а потом представила, что его отчислили, и осознала одну весьма элементарную вещь: если его отчислят, то, вероятнее всего, я больше никогда его не увижу.
На следующий день я уже звонила Пономаревой с работы и на правах любимицы уговаривала ее: «Елена Геннадиевна, я вас очень…» – и сочиняла какую-то там трогательную историю, била на жалость, приплела «экономический кризис» и «политическую ситуацию», клятвенно обещала «позаниматься» и «подтянуть», только дайте шанс, один-единственный шанс, и она смилостивилась наконец.
В конце недели мы поехали в основной корпус, на Юго-Запад; по карманам Славиной куртки были рассованы листы из моих конспектов и шпаргалки, моей рукой написанные, а потом я долгих полтора часа стояла под дверью аудитории и почти молилась про себя: «Ну пожалуйста, пожалуйста…»
Он сдал. На три с минусом, но все-таки сдал. Выскочил из аудитории, размахивая зачеткой: «Ура; все получилось!» – и уже натягивая куртку на одно плечо.
– Слушай, спасибо тебе огромное, – выпалил он радостно, – с меня тортик!
А после небольшой паузы добавил:
– Ты извини, но я побегу. Я страшно тороплюсь, шесть часов уже, а мы с Таней… Так что провожать не буду, не обидишься?
Я не ответила.
А он уже мчался впереди меня по низкому полупустому коридору главного корпуса, надевая на ходу куртку, и, кажется, даже мурлыкал что-то себе под нос.
Когда я дошла от института до метро по пятнадцатиградусному декабрьскому морозу, ресницы мои покрылись льдом.
Глава 11
Дальше события развивались, как и подобает развиваться им в плохой пьесе, то есть почти никак не развивались. Лениво наползали один на другой вялотекущие дни, похожие на серии мексиканского «мыла», в котором одна-единственная многозначительная улыбка занимает до пяти минут драгоценного эфирного времени, а монолог третьестепенного персонажа, приходящегося случайным попутчиком подруги первой жены ныне покойного, но когда-то служившего верой и правдой младшего лакея какой-нибудь доньи Роситы, старой грузной маразматички из упадочного элитарного семейства, растягивается на две недели показа.
Слава, насмерть перепуганный угрозой увольнения, взялся за ум и теперь как пионер – всем пример посещал каждую лекцию. Это, впрочем, не мешало ему пропускать почти весь предложенный преподавателями материал мимо ушей, что в скором времени сделало меня чрезвычайно частым гостем его дома. Конечно, кто-то должен был заполнять информационные пустоты, которые оставались после занятий институтской радиовсячиной; ну не мог, не мог он совладать с собой и уже на пятнадцатой минуте первой пары подпирал потолок отрешенным мечтательным взглядом. И теперь почти все моя субботние и воскресные утра уходили на Славу.
Он мучительно трудно воспринимал любую техническую информацию, вся его подвижная, эфемерная натура бурно сопротивлялась каждой новой формуле, и начиналось бесконечное: «Попьем чайку (кофейку, сочку); слушай, я тут купил такую книгу (кассету, модель); ой, что было вчера (позавчера, третьего дня) на работе, видела бы ты, это же умора’ полнейшая; я балбес (олух, существо неорганизованное), но погода отличная (пристойная, не слишком плохая), пойдем-ка на часок прогуляться…» И мы шли пить, смотреть, гулять, и нам по-прежнему было до странного легко друг с другом.
Со Славиной мамой за это время я подружилась окончательно, она всегда была мне рада. Мы даже что-то там шили и готовили в четыре руки. Она строила планы, она делала нам столь же многозначительные, сколь и многочисленные намеки, она явно умилялась, когда мы по-турецки сидели на ковре в Славиной комнате, смыкая головы над очередным чертежом или учебником. Сначала, чтобы спокойно переносить такую, вполне, впрочем, для матери простительную, реакцию на свое присутствие, мне приходилось делать над собой усилие, но потом, после одного весьма поучительного эпизода, я стала делить ее восторги на шестнадцать. Было одно из ничем не примечательных мартовских воскресений, мы сидели на кухне и обедали.
– Слушайте, – рассказывала нам Людмила Евгеньевна заговорщически, – я тут в центр ездила. Так, по магазинам, Славке хотела новую куртку купить, еще мне пуговицы нужны были, я там пиджак себе шью, прихватила еще ниток, белых, черных и люрекса, знаешь, Надь, там такой люрекс, не то что кооперативный – полная катушка, без обмана… Ой, о чем это я? А, ну так я шла, а там такие большие ворота были, и надпись на них: «Московский завод трамваев». Странно. Надо бы «Трамвайный завод» писать, кажется.
– Почему странно, Милочка? – отозвался Владимир Николаевич солидно. Слава насторожился. – Ты там рельсы перед воротами видела?
– Да, видела.
– Вот, все верно. Туда трамваи каждое утро приезжают со всей Москвы, и их заводят. Иначе как же они смогут ездить?
– А… – Людмила Евгеньевна серьезно покивала головой. – А я-то думала, что это ошибка грамматическая.
Пока она кивала, мы со Славой уже не знали, что нам сделать, чтобы не засмеяться в голос, у него даже слезы на глазах выступили от натуги, а Владимир Николаевич смотрел на жену взглядом открытым и честным, и ни один мускул на лице его не дрогнул.
Так прошли зима, затем весна, затем очередная сессия, потом я пережила скучное, совершенно бес-Славное лето за гарнизонным забором, и, так уж положено, снова вернулась осень. Я оказалась закольцованной внутри времени, некрасивая, но и не глупая девочка, пораженная вирусом постоянства, черный пояс невинности, одна-единственная курточка на осень, зиму и весну, электричка в шесть сорок утра, а на заводе – кухонные комбайны, теперь все мы пацифисты поневоле, счастье еще, что есть хоть такая работа; а поверх – уверенность, что никогда ничего не изменится…
А Слава тем временем потихонечку шел в гору путаными останкинскими коридорами и уже начал менторским тоном подавать советы, как жить, и уже стал посматривать снисходительно (маленькая-глупенькая), а ведь должен был отдавать себе отчет в том, что я-то на «завод трамваев» не куплюсь.
Заикнулась как-то:
– Помог бы с работой, я ведь совсем на нулях.
И мама его сразу эту идею подхватила:
– Ты ведь сейчас переходишь в ассистенты, у вас же традиция, сам говорил, привести кого-нибудь на свое место.
Но Слава сказал как отрезал:
– Ну что ты? Ты там работать не сможешь! В командировки нужно ездить, и рабочий день ненормирован, в смены знаешь как трудно, иногда на работу приезжаешь к двум ночи. – А потом добавил маленькую ложечку меда в качестве пояснения: – Ты слишком добрая, тебя там попросту затопчут, знаешь какие там встречаются экземпляры!
Нет, он, как и подобает настоящему другу, тут же предложил помощь, сказал:
– Хочешь, я тебе денег дам?
Но я ответила:
– Спасибо, не надо. Как же я возьму у тебя в долг, если не знаю, когда отдать смогу.
– Зачем в долг? – удивился Слава. – Мы же друзья, насовсем бери! Я тут как раз провернул одну халтуру…
И я опять ответила:
– Нет, спасибо, мне не нужны подарки, мне нужна работа.
А Слава, кажется, слегка разозлился на мой отказ, буркнул:
– Ты сама не даешь себе помочь…
К началу четвертого года обучения вокруг нас неожиданно не оказалось ни одного однокурсника, Лены организованно отправились замуж, а потом так же организованно – в декрет, парни потянулись в сторону Турции за длинным рублем. А внимательно оглянувшись по сторонам где-то в середине сентября, я не обнаружила и следа Татьяны-второй… Счастье подозрительно быстро изнашивается (смотри главу восьмую, абзац первый).
Что ж, жизнь наша – драматург довольно посредственный; трудно представить, какими топорными методами пользуется она порой для обозначения главных героев. И вот тебя обозначают, а ты чувствуешь, как вокруг тебя медленно разворачивается вакуум. Есть, конечно, работа, а на работе – массовка мужская и массовка женская: Здрасьте – до свидания, отличная (отвратительная) нынче погодка, как дела? – лучше всех, разве не видно; лишенные выражения глаза, дежурные улыбки; и мужская массовка сетует на плохую водку, а женская базарно ругает правительство, а ты сидишь тихонечко в уголке со своим верным паяльником и ни во что не встреваешь. А вечером к тебе в дом – в дом, где твоя мама живет наедине с телевизором, где ты своим присутствием только подчеркиваешь тесноту и пугаешься под ногами, – забегает подружка, в глазах бьется паника, отворяй ворота (отвороты) жилетки для плачущих, утешай, отпаивай валерианой и ласково гладь по волосам, ведь только у тебя все в порядке, и откуда им взяться, неприятностям, ведь ничего не происходит с тобой, ты и не живешь вовсе, ты просто сидишь и ждешь у моря погоды. А твой лирический герой в это время находится в эпицентре извечного телевизионного хаоса, сейчас время новостей, их много, и они, как правило, плохие. «Время» именно из этих новостей состоит. Ну что он знает о вакууме и о скуке? Ровным счетом ничего, с новостийцами не соскучишься. А значит, ждать у моря погоды тебе еще очень и очень долго…
Глава 12
Я, признаться, не сразу заметила исчезновение Татьяны-второй. Не замечала, потому что не хотела заметить. Сработал инстинкт самосохранения – пока она царствовала, я по крайней мере конкретно знала, на что мне точно рассчитывать не следует. Именно поэтому я старательно оберегала тот образ Прекрасной-Премудрой Василисы, который однажды нарисовала себе. Но Слава в очередной раз стал чрезвычайно внимательным. Я очень-очень старалась это внимание проигнорировать, не хотелось в третий раз наступать на одни и те же грабли, но он, как никто другой, умел сделать свое внимание крайне навязчивым, ибо никогда не пытался скрыть или даже просто проконтролировать свои эмоции, а посему не составлял себе труда считаться с эмоциями чужими.
Однажды нервишки у меня все-таки сдали, и в ответ на очередной из его прозрачных намеков я посоветовала, весьма, кажется, грубо:
– Знаешь, дорогой, у тебя есть девушка, вот и отчаливай к ней, нечего глазки строить! – Сказала «отчаливай к ней», но подумала, безусловно, «убирайся к чертовой матери». За четыре года знакомства я настолько утомилась от «ношения булок», что уже абсолютно ничего от Славы не хотела, лишь бы он оставил меня в покое. Но Слава и не подумал меня в покое оставить, он посмотрел на меня многозначительно и не без доли высокомерия и покровительства в голосе изрек:
– Леди, ваша информация безнадежно устарела. Нет у меня никакой девушки. Кстати, довольно давно. Вы что-то не слишком наблюдательны.
Я не нашлась что ответить. Стояла и как дура глазами хлопала, а про себя злилась, злилась: где же ты, достойный «ответ Чемберлену»? А Слава снова улыбался и галантно подставлял локоть, и вот же они грабли, уже лежали передо мной в полной боевой готовности, а я была не в состоянии обойти их стороной.
Ощущения меня терзали самые что ни на есть противоречивые. То я начинала думать: Бог троицу любит, и теперь все обязательно будет в порядке, нас же не случайно осталось всего двое в группе, наверное, это какой-то знак свыше; я думала – наверное, он повзрослел и теперь уже ничего и никогда не скажет мне зря, вышло время извечных пробных шариков, и… ведь он хороший, может, не слишком тактичный, но хороший, должен же он отвечать за свои слова. А потом мне начинало казаться: Бог троицу любит, и все повторится снова, и снова кто-нибудь обязательно просто пройдет мимо и тихонечко дунет в нашу сторону, и все развалится, все рассеется бесследно, теперь уже навсегда.
Но вопроса о том, дождалась ли я наконец своего часа или в очередной раз попала в пересменку, я для себя так и не решила.
Мы стали гораздо чаще видеться. Опять бродили по городу, захаживали в самые разные московские театры, наносили друг другу субботние и воскресные визиты, но это все уже было не так, как раньше, когда оба мы еще чувствовали себя друганами не разлей вода. Что-то изменилось.
Он стал галантен, даже на комплименты время от времени разорялся. Они, правда, часто звучали как самые махровые ляпсусы – например: «Красиво выглядит женская нога, обутая в туфельку на шпильке», – и на них было крайне трудно реагировать адекватно, я просто старалась сделать вид, что ничего не слышала. Теперь он за руку переводил меня через дорогу, если на пути нам попадались «трудные» перекрестки, такие как на Боровицкой площади. Ее мы пересекали, когда отправлялись гулять по нашему самому любимому маршруту от станции метро «Арбатская» до «Третьяковки». За это я была ему искренне благодарна, и не только потому, что он так трогательно обхватывал мою тоненькую ладошку; я выросла за городом, в местечке тихом и спокойном, и почти до тридцати лет до смерти боялась сумасшедшего московского движения. Дорожка в две полосы до сих пор вызывает во мне замешательство и тоску по светофорам, а уж сломанный светофор где-нибудь на шоссе Энтузиастов порождает в моей нежной провинциальной душе самую настоящую панику.
Слава всегда и везде пытался за меня расплатиться, будь то киоск с мороженым, пригородная касса или кафе.
– Я консерватор! – выговаривал он голосом, не терпящим ну никаких возражений. – Я уверен, что платить всегда обязан мужчина.
– И что же позволяется женщине, по-твоему? Борщ варить?
– Вот именно, борщ. Борщ я люблю. И еще детей воспитывать. Женщина прежде всего должна быть хорошей матерью.
– Ага, ну конечно: скажи еще, что женщина должна сидеть дома и создавать уют. И не работать.
– Вот именно! Семью обеспечивать должен мужчина. А хозяйство вести положено женщине!
Ну и тон у него был при этом! Словно он Америку открыл или велосипед изобрел. Я начинала беситься. Мы спорили чуть не до драки. Конечно, любовь любовью, но сделаться только матерью, прачкой и кухаркой при муже мне никогда не казалось особенно лестным, и я лишь укреплялась во мнении, что лучше бы уж навсегда остаться другом. Просто потому, что если хотя бы половина из того, что он болтает, правда, то жить с ним нельзя. И в голове моей уже начали подрагивать первые тревожные звоночки, пока еще совсем слабенькие: может, не случайно все складывается так, а не иначе, и может быть, то, что я принимаю за некие подножки судьбы, – результат деятельности моего ангела-хранителя, который в последний момент отводит от меня настоящие неприятности. А если короче, я начала его немного побаиваться.
В народе состояние, подобное моему тогдашнему, характеризуется поговоркой: «И хочется и колется», но, черт возьми, как трудно порой определить степень боязни возможного укола!
Пока я таким образом колебалась, ситуация начала потихонечку выходить из-под контроля. Были нарушены два замечательных табу, которые негласно установились между нами за несколько лет постоянного общения. Табу первое: вместе не ходить по магазинам – было нарушено Славой; перед одним из тщательно запланированных театральных походов он решил приодеться посолиднее, а то все джинсы, да толстовочки, да мамой связанные свитера, на работе всерьез не воспринимают, он ведь теперь ассистент режиссера, это звучит гордо, почти так же гордо, как человек, да вот и с девушкой в театр гораздо приятнее пойти в пиджаке. И мы облазили ГУМ и ЦУМ в поисках чего-нибудь подходящего, но так ничего и не выбрали.
Слава был слишком высок да к тому же довольно хрупкой комплекции, и либо брюки были ему безнадежно малы и задирались до щиколотки, либо пиджаки повисали с невеликих плеч, образуя вдоль бортов многочисленные заломы. Так что купить костюм нам не удалось. Тогда мы решили просто купить пиджак отдельно и брюки отдельно. Не тут-то было. Если пиджак плотно сидел в плечах, то рукава еле прикрывали локоть, если были впору рукава, на спине вздувался пузырь, весь вид которого умолял: ушейте меня сантиметров на пятнадцать, я здесь не на месте. С брюками было примерно то же самое: они либо съезжали вниз, либо задирались выше резинки Славиных черных носков. Ох, и намучились с нами продавцы! Весь персонал цумовских бутиков на четвертом этаже был поставлен на уши, но так мы и покинули магазин без покупки. «У вас нестандартная фигура, молодой человек!» – мстительно говорили девушки вслед Славе и улыбались отработанно, по-голливудски, одним распахнутым ртом, ибо был Слава тем самым клиентом, который всегда прав.
Табу второе, которое можно было бы начерно сформулировать примерно как «руками не трогать», было нарушено Славой же на следующий день, когда мы, собственно, и собирались отправиться в театр.
Я уже минут пятнадцать топталась в центре вестибюля станции «Таганская-кольцевая». Слава, впрочем, как всегда, опаздывал. До спектакля оставалось всего ничего, я начала нервничать, напряженно вглядывалась в циферблат своих наручных часов: «Спешат они, что ли?», как вдруг некто неожиданно подкрался сзади и властно обнял меня за плечи. Я вздрогнула от неожиданности и чисто машинально, но довольно неслабо въехала стоящему за спиной левым локтем в грудь. Потом оглянулась. За спиной моей стоял Слава, зажимая ладонью пространство чуть ниже солнечного сплетения, взгляд у него был несколько ошарашенный.
– Ты что, с ума сошла? – выдавил Слава обиженно.
– Ой, извини, я же не нарочно, – оправдывалась я; мне и самой, право слово, стало как-то неловко, – предупреждать же надо.
Но Слава не унимался.
– Что за манеры! Ничего не скажешь, настоящая леди! – сказал он с некоторой долей презрения в голосе, а я, в порыве искреннего раскаяния, ласково обхватила его за локоть и еще ласковее произнесла:
– Ну пожалуйста, ну извини, пора идти, а то мы опоздаем.
Только когда мы уже взошли на эскалатор, я наконец-то заметила, что пиджак он себе все же приобрел.
Был этот пиджак широким, с ватными плечами, с изрядной долей синтетики, и она весело попыхивала, как только мы подбирались на нашей скрипучей самоходной лестнице к очередному тусклому светилу. Цвет его наводил на воспоминания об извечных уксусных пол-литрах, которые достаточно долгое время оставались единственным украшением прилавков в магазинах постперестроечных времен; о выцветающей на ободранном колене зеленке; о плесени на залежавшихся буханках. Добавьте к этому чуду нашей швейной промышленности Славины изжелта-белые волосы и голубые глаза, и едва ли картина, представшая вам, порадует взгляд. А меня даже не покоробило, я уже настолько привыкла к Славиному странному виду, что и дурацкий колпак едва ли вывел бы меня из равновесия…
Именно тогда, во время спектакля, он и ляпнул про женскую ногу, которая хорошо смотрится. Я сидела нога на ногу, опиралась на подлокотник, позевывала – постановка оказалась не слишком удачная – и ощущала, что Слава смотрит на меня в темноте, но не подавала виду, а потом он так вот витиевато высказался, и я стала напряженно прятать ноги под кресло, потянула на колени юбку и заговорила о неудачах драматургии, чем и рассмешила его окончательно.
А после спектакля мы стояли на платформе Курского вокзала, ждали, когда же появится электричка, электричка опаздывала, и пахло первой майской сиренью, ее по соседству продавала дородная неопрятная тетка, прямо из эмалированного ведра вытягивала полновесные гроздья и совала их под самый нос проходящим мимо потенциальным покупателям:
– А ну, кому сирени! Свежая, подмосковная!
– Знаешь, я, наверное, однолюб, – говорил Слава, смотря на меня сверху вниз и хитро сощурив свои голубоватые глаза. Я молчала. А он продолжал: – Я тут одну мудрую мысль вычитал, не помню, правда, у кого… Там говорилось, что, когда собираешься выбрать спутника жизни, нужно сначала проверить, сможешь ли ты с ним всю жизнь разговаривать… Ты не согласна?
– Да нет, почему, я-то согласна. Но еще недавно кто-то говорил мне примерно по тому же поводу, что я пытаюсь выбрать товарища по играм и что это, мол, несерьезно. Или это был не ты?
– Да мало ли что я ляпну? – ответил Слава, нимало не смутившись. – Ты, кстати, сейчас куда?
– В смысле?
– В смысле, куда ты сейчас поедешь?
– Домой, разумеется, – ответила я нервно, – будто у меня есть какая-нибудь альтернатива…
– Ну, альтернатива всегда есть, – произнес Слава и ухмыльнулся как-то странно.
К нам подбежал оборванный, дурно пахнущий мальчик, совсем еще маленький, лет пяти-шести, лодочкой вытянул вперед свою прегрязную ладошку и затянул:
– Поможи-и-ите, пожа-а-алуйста?
Славины, до сего момента ясные и такие лучистые, глаза внезапно подернулись инеем и превратились из голубых в светло-свинцовые, рот сложился в линию безмерной брезгливости.
– А ну пошел!.. – гаркнул Слава и, размахнувшись сложенной в трубочку программкой, тихонько шлепнул пацаненка по макушке. Удар был совсем несильный, но размах до того устрашающий, что мальчик тут же весь съежился в один крошечный грязный комочек и через мгновение со всех ног припустил от нас по перрону. А Слава снова повернулся ко мне: – Господи, как же они надоели! Ну, так ты мне, кажется, не ответила?
Подошла петушинская электричка, и тут же все пришло в движение, все повалили на ловлю еще не доехавших до своего места закрытых дверей.
– Ладно, мне пора, – пробормотала я, делая шаг в сторону толчеи.
Слава стал наклонять надо мной свое улыбающееся лицо, слегка приоткрыл губы, и на меня внезапно, сквозь приторный сиреневый дух, сквозь мое долгое, изнурительное ожидание, дохнуло запахом то ли гниющих зубов, то ли больного желудка. Меня начало мутить. Я непроизвольно отшатнулась и опустила глаза, выдавив:
– Ладно, мне правда пора…
– Ну что ж, как говорится, надо так надо… – насмешливо отозвался Слава. Кажется, он ничего не заметил. Я вскочила в вагон и даже успела занять местечко у самого окна. Слава стоял на платформе и радостно махал мне свернутой программкой.
Я махнула ему в ответ, электричка тронулась, и его странная фигура неспешно поехала в сторону.