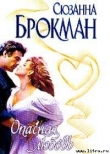Текст книги "Тщеславие"
Автор книги: Виктория Лебедева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Глава 9
К началу занятий то первое изумление, с которым обнаружила я «отлично» за этюд против фамилии Калиновская, развеялось. Остальные экзамены сдались как-то сами собой, и мне все время до неприличия везло с билетами.
Я сразу почувствовала себя в институте, как рыба в воде. Это было удивительное ощущение – я слушала преподавателей и понимала, о чем они говорят. Не было больше в моей жизни таинственных цепей и сигналов, сложных радиосхем и занудной техники безопасности. Передо мной открылся переменчивый мир слова – мир «лжи изреченной», мир лжи, возведенной в ранг высокого искусства.
Студенты еще только знакомились, ходили по рукам рукописи – стихи и рассказы, все было ново и интересно. И каждый второй уже заранее осознавал свою гениальность. Любопытный факт: чем меньшим талантом обладал студент, тем больше он эту свою «гениальность» лелеял, тем ранимее был. Уже шли на флангах первые боевые действия – литературные споры до хрипоты: один презрительно отзывался о Толстом, а другой восторженно превозносил Бодлера и Борхеса.
Но я старалась не встревать в подобные баталии. Может быть, потому, что появилась в этом институте не просто так – у меня была цель. Во мне вновь возрождалась пока совсем еще слабая надежда на осуществление своих странных планов. Поступление в институт было тем крошечным шажком в нужном мне направлении, который и помог мне тогда не сдвинуться и не опуститься. И, как в песне поется, «несмотря ни на что, я остался в живых среди зараженного логикой мира».
Очень скоро до меня стало доходить, какой это был крошечный, в десятую долю миллиметра, шажок…
Как скоро стало мне ясно, что стихи в наше время никомушеньки на фиг не нужны!
А ведь мало было написать, нужно же было издавать их как-то, а где ты их издашь? Большинство «толстых» журналов ко времени моего появления в институте пришли в упадок, на них больше никто не подписывался. Шли мелочные разборки-междусобойчики внутри редакций, древние мэтры советской закалки старались печатать только себя, любимых, в крайнем случае – своих родственников и знакомых. Союз писателей (тот самый, который Мишка Кубрик обозвал несколько лет назад «золотым дном») распался на много маленьких союзиков, и эти маленькие союзики теперь усиленно делили имущество.
А тем временем пышным цветом расцветала на московских книжных развалах разномастная «желтуха».
Нередко в институтском дворе появлялись странные люди, рекомендовались сотрудниками издательств и предлагали за солидные денежки написать или отредактировать детектив, любовный роман, фантастику иже с ними, и кто-то соглашался, а кто-то фыркал презрительно. Только что толку было фыркать – «желтуха» стала для начинающих авторов чуть ли не единственной возможностью хоть как-то реализоваться.
Про поэтов и говорить нечего – в лучшем случае стихи попадали в одну из тех многочисленных литературных газет, которые мертвым грузом лежат в фойе ЦДЛ и в город из стен этого славного здания, как правило, не выходят. Те, кто мог себе это позволить, стали издавать поэтические сборники за свой счет – в мягких обложечках, тонюсенькие, мизерным тиражом, – но эти сборники совершенно невозможно было продать, в книжных магазинах их чурались как чумы, и они так же оседали в кулуарах ЦДЛ или в литинститутской «Книжной лавке», а чаще всего пылились на дому у автора, рассованные по шкафам и под кроватями.
Справедливости ради стоит сказать, что нам, молодым, было много легче, чем литераторам старой закалки. Это они, а не мы поднялись с «золотого дна», чтобы оказаться у разбитого корыта…
Но все это я разглядела и осознала потом, а поначалу этот новый литературный мир казался мне сказочным. И первой своей публикации я радовалась так, что чуть ли не до потолка прыгала.
Конечно, я тоже мечтала издать свой сборник. Пусть совсем крошечный, пусть плохо оформленный, но ведь и это тоже книга, настоящая. Наверное, заикнись я о своем желании, и Герман нашел бы мне денег для книги, но я его не просила, мои стихи не имели к Герману ни малейшего отношения, я писала не для него, я писала только для Славы.
Постепенно мной стали овладевать не слишком веселые мысли. Думала: ну вот, издам я этот чертов сборник, и куда я его дену? В магазинах его не возьмут, это точно. А как тогда он попадет к Славе? Никак не попадет, даже если предположить, что вдруг случится чудо и в каком-нибудь магазине этот сборник все-таки примут. Потому что Слава стихов не читает. Слава только fantasy читает или приключенческие романы. Может, роман написать? Да нет, не вариант. В прозе я не умею… Роман в стихах? Смешно… Тоже мне, Пушкин выискался! А даже если и напишу роман в прозе, то это, во всяком случае, будет и не fantasy, и не приключения. Иначе как же я смогу объяснить ему то, что так и не осмелилась сказать раньше, когда это еще было возможно?
Пока я таким образом ломала себе голову над этой неразрешимой головоломкой, жизнь в институте шла своим чередом.
Все мы (ну или почти все) постепенно становились внимательнее к своим текстам – стихи наши все равно прочитывались: мастерами и, как выражалась Анечка из Щелкова, «соратниками по поэтическим страданиям». А соратники эти были читателями отнюдь не равнодушными. Так что «за базаром» волей-неволей приходилось бдительно следить.
Замечательная это вещь – литинститутские семинары по творчеству! Апломб отбивают напрочь. И ты наконец понимаешь: ты такой замечательный не один, вокруг огромное множество пишущих людей, многие из них значительно талантливее тебя и значительно умнее.
А еще ты читаешь классику – начиная с древних авторов и заканчивая современностью – и понимаешь, что, вероятнее всего, «нового слова» в литературе сказать не сможешь, пороху не хватит. Не мудрено, что многие после такой подготовки вообще бросают всякие художественные потуги – становятся просто хорошими редакторами или литературоведами, работают в газетах, на телевидении, на радио, рекламные слоганы пишут и надписи для поздравительных открыток, сценарии для сериалов, статьи для журналов. Это, должно быть, правильно…
И конечно, никто тебя не научит писать как надо; но, прочитав столько хороших книг и пообщавшись с таким большим количеством пишущих людей, как не надо писать, ты в итоге поймешь. «Любовь» и «кровь» уже никогда не срифмуешь, и луну с фонарем не сравнишь (будь то даже бумажный китайский фонарик), и слова «красиво» начнешь всячески опасаться.
О, неистребимая жажда творчества! Болезнь, которая лечится еще труднее, чем женский алкоголизм!
Пусть ты чувствуешь себя маленьким и слабым среди этого заброшенного литинститутского дворика, что в самом центре Москвы, пусть уже не считаешь ты себя поэтом, пусть трижды облает тебя местная Муза, а ты, смотри-ка, все еще барахтаешься, хилая литературная мушка…
Теперь немного о музах вообще и о Музе в частности.
Мастер наш всегда утверждал, что к поэтессам приходят не музы а «музыки». Это он из КВН цитировал. Понравилось ему. Женщин он вообще за людей не считал, что, впрочем, не мешало ему восторгаться большими бюстами и голыми коленками.
Однако, при всей моей нелюбви к нашему мастеру, с вышеприведенным утверждением я вынуждена согласиться.
А Муза – что-то вроде институтского талисмана. Она жила в секретариате, на первом этаже. И дверь в секретариат всегда была до половины перегорожена куском фанеры, потому что характер у нашей Музы был скверный. Муза не переносила появления посторонних на территории., которую считала исконно своей. Стоило кому-нибудь из студентов только появиться на пороге секретариата, дабы заполучить какую-нибудь очень важную печать, как она с оглушительным лаем выкатывалась из недр комнаты и начинала грудью яростно биться о фанеру, тщетно пытаясь подпрыгнуть и добраться до непрошеного пришельца. И откуда что бралось? Муза, по собачьим меркам, давно уже древней старушкой была. По двору за хозяйкой ковыляла еле-еле, морду опустив долу, на все четыре лапы прихрамывала, и слезились ее базедовы глаза – такие несчастные… от жалости просто рыдать хотелось. А дома у нее словно второе дыхание открывалось – скакала наша Муза, как молодой мустанг, скалила что там у нее от зубов осталось, вся – само недовольство. Уже не первое поколение студентов потешалось: «Муза, облаявшая молодого поэта! Какой мощный символ!» А она все здравствовала, все облаивала. Они ведь бессмертные, музы…
В общем, несмотря ни на что, я осталась в институте, среди «барахтающихся» и «облаянных». Опять же не от завышенного самоосознания, просто мне было очень-очень надо пробиться… И чем дольше я училась, тем сильнее была моя вера в то, что все у меня получится.
Трудно сказать, на чем эта вера держалась, ведь уже к середине первого курса я перестала воспринимать свои литературные упражнения всерьез. И даже когда в пух и прах разносили меня на семинарах, я больше забавлялась, чем расстраивалась. Стишок-девиз для себя сочинила. Вот такой:
За непрочтение Канта в оригинале
Меня обязательно назовут невеждой,
Смысл стихов посчитают слишком банальным,
Рифмовка не будет признана свежей.
Меня заклеймят за сравнение луны с фонарем
И за несравнение кастрюли с люстрою.
Я, возможно, не слишком здорово владею пером,
Но знали бы вы, как я чувствую!
Кант в этом стихотворении не случайно появился, многие наши студенты всерьез его работами увлекались, а к тем, кто не увлекался, относились с некоторым презрением. А уж мастер наш был классическим примером «вещи в себе». На втором курсе я от него в другой семинар перевелась и Анечку с Леночкой за собой увела. До смерти мне надоело каждое занятие выслушивать, что женщины в литературе ничего не сделали. Это, конечно, было правдой, но энтузиазма как-то не прибавляло, а мне ох как нужен был энтузиазм! На нем одном и держусь по сию пору.
Глава 10
Рифмы, как я уже говорила, оружие довольно бестолковое. Хотя бы потому, что его крайне сложно применить к человеку, который не увлекается стихами. А пока ты будешь составлять себе «имя» (если тебе вообще удастся когда-нибудь составить себе имя, что сомнительно), так и вся жизнь пройдет, станешь ты никчемной старой развалиной, страдающей геморроем и одышкой, твой лирический герой – тоже, и, значит, пропадут даром все твои «поэтические страдания».
Я никогда не была настолько наивна, чтобы не понимать этого. И опять мной потихонечку завладели мысли о телецентре. Это тоже случилось довольно быстро – примерно после первой сессии. Гонор был к тому времени уже сбит, но вера окончательно не растоптана. Самое, кстати, плодотворное время для творчества. И чувствовать я себя стала немного увереннее, чем раньше, – уже не казалась самой себе нулем без палочки. К тому же у меня была вполне подходящая для работы в телецентре специальность – радиоинженер. Почему бы и не попробовать?
Каждый день просыпалась и думала: вот-вот, именно сегодня, возьму себя в руки, возьму в руки свой диплом, возьму и поеду туда, в Останкино, в этот железобетонный муравейник, который укрывает от меня Славу. Собиралась и… и не решалась.
А Герман приходил с работы, переодевался в спортивный костюм, наскоро ужинал, расслабленно падал на диван и томно тянул руку к журнальному столику, за пультом, совершал глубокое погружение в телевизор. И молчал. Все время молчал. Ему было абсолютно бесполезно задавать вопросы, он ненавидел вопросы, он не слышал вопросов – такой положительный и спокойный Герман, скромный Герман, мягкий Герман, добрый Герман, не подлец и не жадина, но, во всяком случае, и не мужчина. И не было силы, которая могла бы воскресить его с дивана.
Я полагаю, это было вполне объяснимо. Он хотел жениться и вот заполучил жену. И теперь понятия не имел, что следует делать дальше. Трудно ему было – он не привык и не умел общаться. Пока длился короткий период ухаживания, Герман исполнял все, что следует: делал комплименты, дарил цветы и сладости, давал обещания; но теперь союз наш был документально оформлен, а значит, ухаживать за мной ему больше не требовалось. Женился, пристроил жену в престижный, по его понятиям, институт и успокоился на этом.
Поначалу я пыталась как-то растормошить его (муж все-таки), но это никогда не удавалось. Он не желал лишний раз выйти на улицу, отговаривался усталостью; он на любую мою тираду отвечал лишь риторическим вопросом: «Зачем тебе это надо?» – и больше не целовал рук – склонен был скорее по заду хлопнуть: по-хозяйски так, с чувством своего полного на то права. А я ежевечерне наблюдала перед собой это амебообразное тело, намертво спаянное с диваном, это в общем-то добродушное и послушное домашнее животное, и во мне волной поднималось чувство физического отвращения даже к его косолапо стоящим подле дивана кожаным тапочкам, не то что к нему самому.
Я понимала, что, пока не поздно, нам следует расстаться. Наш союз был с самого начала обречен на провал. Мне нужно было все, ему – ничего. Он искал покоя, я – впечатлений.
И меня тоже можно было понять. Я вовсе не желала становиться тенью Славы и сознавала, что если мне удастся выкинуть его из головы, то я стану много счастливее, но муж мой Герман, этот дрессированный тюлень, не оставлял мне ни единого шанса на излечение. Кто знает, как бы сложилась в результате моя жизнь, попадись мне тогда на пути человек иного склада, но что толку гадать, ведь этого не случилось, и вот спустя каких-нибудь три-четыре месяца после замужества я опять оказалась в той самой точке, из которой отправилась в семейное плавание, – наедине со своими мыслями и призраками.
Нужно было уходить. И чем скорее, тем лучше.
А я все медлила, развод после нескольких месяцев замужества казался мне неприличным. Думала – вот проживу годик, а там и разбежимся потихонечку, куда торопиться. И мамы боялась. Только она, бедненькая, успокаиваться стала. Радовалась, что дочку так удачно пристроила – и квартира отдельная в Москве, и муж: не бедный, не пьющий, не гулящий, во всех отношениях положительный. Действительно, чего еще желать? Не могла я ее подвести и разочаровать, никак не могла. Своего же спокойствия ради. Полагаю, она бы сгрызла меня заживо, если я хотя бы заикнулась о разводе. Не со зла, нет. Просто она меня действительно очень любила.
Так и оставалась я в своем новом доме, при Германе. И не умела ничего предпринять. Не было сил, и воли не было. Я устала.
А пока – писала. И коль скоро мысли мои вечно вращались вокруг Славы и вокруг телецентра, то и стихи выходили соответствующие. Теперь телецентр мнился мне дворцом Снежной королевы, а там, во дворце, жил мой потерянный брат – с кусочком льда вместо сердца, среди стекла и бетона, среди бетона и стекла, и мне было не достать его сквозь туман этих стекол и стен.
Я не знала, что делать. Немного развлекали меня только семинары по творчеству.
Семинары проходили по вторникам, студенты из Москвы и области могли посещать их по желанию круглый год, а не только во время установочных сессий. На семинарах мы читали друг другу свои последние стихи, обсуждали. Обсуждения порой делались настолько затяжными и настолько бурными, что плавно перетекали из аудитории на улицу, с улицы в столовую и обратно.
Я читала свое вчерашнее:
По холодной дороге в дворец ледяной
Я иду за потерянным братом.
А для брата сияют зеленой весной —
Неживые палаты.
Сжалось сердце его в кулачок голубой,
И глаза потускнели.
По холодной дороге, тягаясь с судьбой,
Я бреду еле-еле.
Жизнь – не сказка, она не имеет конца
Со счастливым исходом.
Я дойду до ворот ледяного дворца
И замерзну у входа.
– У тебя дети-то есть? – спросила меланхоличная Анечка. Она сидела за столом против меня, пристально смотрела в сторону столовской двери через тонюсенький, почти прозрачный кусочек черного хлеба, и в профиле ее явно проступало что-то ахматовское (виной тому был, видимо, нос с горбинкой). – И куда это моя Леночка запропастилась?
В столовой было сумрачно. Странный, кирпичного оттенка свет неровно струился вдоль стен, обтекал вечно зашторенные гардины на окнах, неустойчивые рогатые вешалки у двери, заваленные плащами и куртками, тусклые тонконогие пюпитры на эстраде в углу и так же оранжево-кирпично отражался от низких полированных столиков, над которыми склоняли сейчас свои жующие головы будущие литературные звезды. А за ярко освещенной стойкой в глубине зала застыл сияющий, четко вычерченный, словно мультипликационный, бармен.
Он вальяжно опирался о стойку обоими локтями и, погрузив свой гладко выбритый подбородок в распахнутые ладони, насмешливо рассматривал студентов. Студенты на бармена внимания не обращали – он выглядел настолько ненастоящим, что казался уже не человеком, а неотъемлемой частью интерьера. Он простаивал тут в бездействии по полдня, охраняя от молодых литераторов богатое и разнообразное содержимое бара, поскольку по вечерам наша самая заурядная институтская столовка превращалась в дорогое музыкальное кафе – и тогда белые скатерти вафельно хрустели над исцарапанными столами, и стыдливо прятались от богатого клиента где-то в недрах кухни толстые общепитовские тарелки, алюминиевые ложки и граненые стаканы.
Бармена никто не беспокоил – вечерние цены были крупно начертаны мелом на небольшой зеленой доске, которая висела у бармена прямо за спиной. Зрелище было назидательное – такую сумму не только за алкоголь выложить, вслух-то произнести духу не хватало. Покупать никто ничего не покупал, но и отлучиться со своего поста бармен не мог – нельзя было оставлять этот коллекционный алкоголь наедине со студентами, слишком велик был соблазн, и приходилось с одиннадцати до трех стоять и рассматривать снующих мимо людей. И вот этот мультипликационный человек в неправдоподобно белой рубашке и галстуке-бабочке по нескольку часов без дела маячил за стойкой. Он, должно быть, привык и почти не шевелился, только лениво скользил глазами по проплывающим мимо пластмассовым подносам, на которых несомы были жидкий суп и жидкий чай, и ничем не заправленная тертая морковь, и котлетки величиной чуть больше абрикоса, и клейкие серые макароны, которые похожи были… а впрочем, если честно, эти макароны были вообще ни на что не похожи.
– У тебя дети-то есть? – спросила Анечка, очень внимательно прослушав мое новое творение.
– А при чем тут дети?
– Ну, я подумала, раз ты так хорошо знаешь сказки, значит, у тебя должен быть ребенок. Ты ведь замужем?
– Да.
– И давно?
– С конца июня.
– А-а… Тогда у тебя все еще впереди. Только ты знаешь, Надь, это ведь не детское стихотворение. Я уже десять лет воспитателем в саду работаю. И точно тебе говорю – дети этого не воспримут.
– А я и не говорю, что оно детское. Я для…
– Это вообще – мандельштамп, – встрял в разговор наш сосед по столу Виктор. – Ну что это такое: «кулачок голубой». Любишь небось Мандельштама, а? Ну, признайся честно! «На бледно-голубой эмали…» и так далее…
Виктор был начитан и надменен, как и большинство наших однокурсников, и тоже любил порассуждать о «так называемой женской поэзии», которая просто по определению вторична. И, как и все мы, питал болезненную страсть к звучным словам. Он и в разговор-то влез не иначе как за тем, чтобы свой «мандельштамп» реализовать. Более того, я уверена, что этот самый «мандельштамп» был не экспромтом, а домашней заготовкой.
– Ну и что теперь? Вообще нельзя использовать слово «голубой»? – поинтересовалась я.
Виктор скорчил брезгливую гримасу и отвернулся.
– Не обращай внимания, – утешила Анечка. – Кстати, о детях. Ты вообще-то собираешься?
– Нет пока. Надо бы доучиться.
– Чепуха. Одно другому не мешает. С детьми знаешь как весело! Уж поверь моему опыту.
– Догадываюсь, что весело, вот только…
– Да это ты просто рожать боишься! – сказала Анечка уверенно. – А в этом ничего страшного нет. У меня вот уже двое, и – ничего. И совсем это не так больно, как принято думать.
– Да не боюсь я, честное слово, не боюсь! Просто я еще как-то не думала об этом.
– Ну а муж?
А что муж? По-моему, ему это вообще без разницы.
– Странно… А мой уже третьего просит. Он детей знаешь как любит! И от десяти бы не отказался, пожалуй.
– Что ж… Значит, тебе повезло, – ответила я, а сама с ужасом подумала: «А вдруг я действительно забеременею? Что тогда делать?» Мне стало как-то неуютно. Возможная беременность исключала скорый развод и смену работы.
Как же я могла не думать об этом! Эх, Слава, Слава! Ты парализовал все мои мысли до одной. Ты погрузил меня в мир привидений, и я позабыла о реальности. Я перестала воспринимать реальность. Я совершенно не вспоминала о своей новоиспеченной семье. А ведь так называемый супружеский долг приходилось исполнять регулярно. Это было неприятно, но вполне терпимо. Просто старалась об этом не задумываться. Германа боялась обидеть опять же. Что-то будет со мной?
С этого момента твердо решила – больше ни за что!
А через пару недель, когда уже перестала подпускать к себе мужа под разными предлогами и наша супружеская постель стала так холодна, что в ней можно было хранить скоропортящиеся продукты, все-таки обнаружила, что я уже на втором месяце…
– Поэты! Бойтесь пророчить сами себе! – говорил с кафедры Евгений Рейн, легендарная личность, друг Бродского, один из самых почитаемых литинститутских мастеров, и его косматые брови сходились в черную мрачную чаечку. – Пушкин описал дуэль Онегина с Ленским и погиб на дуэли! Лермонтов описал дуэль Печорина с Грушницким и погиб на дуэли! Я уже не говорю про Есенина и Маяковского! Никогда не пишите о самоубийстве, это может плохо кончиться!
И от слов грозного, грузного Рейна мурашки разбегались по спине, я уже напророчила себе ледяной дворец и замерзла у входа в это загадочное здание, которое прячет от меня Славу, которое мне больше недоступно. И жизнь – не сказка, она не имеет… Я глупая. Я просто очень глупая и все-то в этой жизни делаю неправильно, у меня все не по-людски, ну зачем я с ним окончательно рассорилась, зачем меня понесло замуж? Пережила же, пересидела и Татьяну-первую, и Татьяну-вторую, может статься, пережила бы и Лору, но вот теперь опоздала, окончательно опоздала – запрусь дома, буду воспитывать детей и варить борщи, те самые, которые так любит Слава и так не любит Герман, и приближусь к нарисованному' Славой женскому идеалу домохозяйки и матери. Но только не с ним, только не для него. И постараюсь полюбить своего Германа. Он ведь не плохой, правда, не плохой. Просто немного скучный и немного равнодушный. Интересно, кто у меня родится, мальчик или девочка? Впрочем, какая разница. Это абсолютно безразлично. Теперь все – безразлично. Опять не получилось этого долгожданного, невозможного, абсолютно невозможного чуда, жизнь – не сказка, она не имеет… Поздравляю, Надежда Александровна, вы совершенно не приспособлены к окружающему вас взрослому миру…