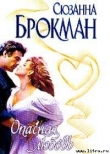Текст книги "Тщеславие"
Автор книги: Виктория Лебедева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Глава 5
Саму свадьбу я помню очень смутно.
Сначала ехали в загс, меня мутило (то ли с недосыпа, то ли с димедрола), и казалось, что так и будем мы целую вечность колесить по пыльной, многоголосо грохочущей Москве и никогда-никогда никуда не приедем.
«Москвич» отстал где-то по дороге, и около загса пришлось топтаться еще с полчаса в ожидании Германова свидетеля Паши; щеки мои от тонального крема постоянно чесались, кружилась голова. Меня клонило в сон, и я повисала на Германовой руке, чтобы не шататься, а Герман все шептал мне на ухо – что-то тихое и утешительно-ласковое – и гладил свободной ладонью по волосам, слипшимся от лака. А вокруг веселились другие женихи и невесты, и их гости, и их родственники; машины с кольцами, шарами и лентами подъезжали и отъезжали, щелкали фотоаппараты; хрустальные бокалы летели о ступени, брызгали в стороны их ослепительные осколки – к счастью, к счастью; и на все лады гремела над машинами искрометная попса.
А потом мы вдруг оказались внутри, мозаичные пионеры с трубами и барабанами серьезно смотрели со стен, и несколько пар «брачующихся» (замечательное слово, не правда ли?) топтались в очереди перед дверью регистраторши. И мы тоже стояли в очереди. Герман напряженно прислушивался, когда же нас кликнут по фамилиям, а откуда-то слева шелестело: «Такой хорошенький, а баба у него вон какая кривая!», и я ловила насмешливые взгляды посторонних. Бедный Герман! Ну за что он влип? Чем онто был виноват?
Со скрипом растворились наконец высокие желто-полированные двери, юркая суетливая тетенька (сама – метр с кепкой, но зато какой огромный каштановый пучок на макушке!) дробно зацокала вокруг нас каблучками-шпильками, расставляя на неровной полоске рыжего ковролина под «цветочком».
– Молодые, под цветочек, под цветочек! – звонко выкрикивала она, и казалось, что ее визгливый голос вот-вот сорвется на ультразвук.
«Цветочек» этот был в своем роде замечателен: его пыльные, надорванные черно-зеленые листья, похожие на испорченные опахала, уныло свисали в стороны; тощ «цветочек» был и жалок на фоне снежно выбеленной, по-больничному, стены; казался «цветочек» беззащитным и маленьким.
И построили нас под «цветочком» в две шеренги; первая шеренга – мы с Германом и свидетели, вторая – самые любопытные гости; и спросили нас, согласны ли мы, и мы ответили, что согласны; и велели нам, а затем свидетелям, расписаться в толстом журнале, и мы расписались; а потом я едва не потеряла (но нет, вовремя подхватила в полете) Германово кольцо и смеялась над этим маленьким инцидентом нервно; и мощным, с хрипотцой, маршем Мендельсона внезапно заполнилось помещение, и Герман больно поцеловал меня влажными губами…
А потом мы снова колесили по городу. Были дежурные фотографии на Воробьевых горах, было шампанское, и бокалы, теперь уже наши, дробились об асфальт; и обволакивала горло, истово скреблась где-то внутри тяжелая, весомая тошнота, от которой хотелось буквально влезть на стену.
У подъезда, перед самыми ступеньками, Герман по традиции попытался поднять меня на руки, но пошатнулся и едва не уронил, смутился и снова опустил на дорожку. Только мне было все равно, каким способом я попаду в свой новый дом, я ничуть не стушевалась из-за этой маленькой неудачи и пошла к подъезду сама, а сверху сыпали что-то, кажется, рис, и зерна застревали в пышных складках платья, в волосах, в розовых лепестках свадебного букета. Были они такие полновесные, светлые, они так походили на крупные дождевые капли, что, зажмурившись, я на мгновение отчетливо ощутила холодное касание дождя в Покровке…
Я очнулась в спальне. Герман махал у меня перед лицом «Спорт-Экспрессом», мама заискивающе оправдывалась перед гостями: «Понимаете, бессонная ночь, такой сильный укол, лекарства, реакция, это я, я во всем виновата?» – и вторил ей понимающий шорох множества голосов.
Я с трудом поднялась. Так, ножки на пол, Германа за руку, необходима опора, а теперь улыбаться, Надежда Александровна, обязательно нужно улыбнуться, у тебя сегодня праздник, гости у тебя, – чай, свадьба, не похороны… «Извините… извините… все нормально… мне уже лучше… беременна?… нет, вряд ли… сейчас, только стаканчик воды, тут душно очень… нет-нет, не ушиблась… проходите за стол, пожалуйста… я на одну минуточку…» И вот она – спасительная ванная комната, и вот она – ледяная вода из-под крана, господи, ну и рожа у тебя, Шарапов, бедный Герман, какая же я все-таки дура… «Да-да! Я уже выхожу, все уже отлично…» Ну что, Надежда? Доигралась? Пора за стол, а то перед людьми неудобно.
За свадебным столом все было пристойно. Гости угощались салатами и алкоголем, громким нестройным хором кричали: «Горько!», мы вставали, и Герман целовал меня в губы (от него уже попахивало водкой); свидетель Паша произносил малоприличные тосты, как то: «За гигиену» и «За дружбу между членами», в ответ ему похохатывали захмелевшие родственники и знакомые. Кстати, родственников у Германа оказалось великое множество, особенно тетушек и двоюродных сестер. Ближе к вечеру они стали горланить русские народные, плясали цыганочку с выходом в недрах длинного коридора, а потом организовали кассовый сбор в пользу молодых, за неимением подноса притащив с кухни черный противень. Я им явно не понравилась. Я их понимаю, личико у меня было – краше в гроб кладут. Они все больше вокруг Германа вертелись: каждая с ним потанцевала, каждая по-своему пожелала счастья в жизни; кто помоложе, сетовали потихонечку, что он так рано женится, а ведь совсем еще молодой; но Герман отвечал, что сейчас как раз самое время.
А я все больше с Леночкой сидела. Леночка о свадьбе узнала всего только за десять дней и все удивлялась, когда это я успела? Я даже и не знала, что ей ответить. Мне очень хотелось спать. Я нервно поглядывала на часы в ожидании, когда же гости начнут расходиться. Но стрелки, как назло, ползли еле-еле, и тянулся, тянулся гуттаперчевый июньский день, и не видно было ему ни конца ни края.
А в голове перекатывалась девственная пустота, глаза сами собой закрывались, шумело в ушах от выпитого шампанского. Нс было сил танцевать, не было сил познакомиться поближе с Германовой родней; не елось и не пилось, не пелось и не танцевалось, я даже перестала следить за наличием обязательной улыбки на лице, и мама, стоило ей пробежать мимо меня с очередной порцией тарелок или чашек, обязательно кидала в мою сторону один из самых укоризненных своих взглядов.
Ближе к полуночи гости стали наконец разъезжаться. Попритихли пьяные разговоры и неизбежное застольное пение, магнитофон насмерть зажевал кассету с хитами рок-н-рола кто-то из приглашенных потихонечку спер половину денег со свадебного противня. Вконец запыхавшаяся мама носилась из кухни в комнату и обратно со стопками грязной посуды. Паркет в комнате и в коридоре стал липким, под ногами громко хрустели какие-то неопределенные крошки и осколки; скатерть была густо залита красным вином и завалена объедками (хлебные корки, куриные кости, лепешки не донесенного до тарелок салата, обсосанные оболочки от маринованных помидоров – все как в лучших домах, все – как положено). Из большого эмалированного ведра уже кивали привядшими головами розы самых разных сортов, расцветок и размеров; по всем углам были распиханы коробки со свадебными подарками. Были тут и пестрые, обернутые в упаковочную бумагу, перевязанные золотистыми бантами, и обыкновенные, картонные, с обтрепанными уголками и черными складскими маркировками ITEM NO (что бы это значило?). На подоконнике бочком возлежала хвостатая настольная лампа – подарок свидетельницы Леночки, – и ее белый пластиковый хвост (из проволоки? из лески? Бог его знает …) уныло свисал через край, касаясь самой батареи.
– Эту лампу обязательно поставишь в спальне, – наставляла Леночка, торопливо прощаясь со мной на лестничной площадке, – она очень интимная. У все хвост светится. Знаешь как красиво!
– Хорошо, спасибо, – пробормотала я, чмокнула Леночку в подставленную щеку, подождала, пока сойдутся за ней двери лифта. А потом, развернувшись к лифту спиной, зло, но совсем тихо, никому не слышно, огрызнулась вдогонку уходящей подруге: – Да кому он на фиг нужен, твой интим?!
Сказала и остановилась. И ужаснулась. Опять же шепотом:
– Черт! Брачная ночь!
С этого момента время побежало, полетело, поскакало бешеным галопом – не угнаться. А я металась между оставшимися гостями, глупо уговаривала: «Ну куда вы? Посидите еще! Так рано! Оставайтесь ночевать, зачем куда-то ехать?!» – и стала вдруг неприлично оживленной. Казалось, что даже вещи вокруг заходятся от хохота: надо мной, надо мной – ну, Надя, это ж надо!.. Они попадались на глаза – обычные, «правильные» подарки на свадьбу: альбомчики с сердечками, чайные чашки, а больше всего – полиэтиленовые конверты с постельным бельем (розовым и голубеньким, разумеется), конечно, так уж положено, как бы тонкий как бы намек; и ухмылялись, ухмылялись… А взгляд все чаще непроизвольно останавливался на загадочных маркированных коробках, и тогда начинала жить своей независимой жизнью тревожная чернобуквеная надпись: ITEM NO – I TEMNO – INTIMNO? – INTIM NO! – NO INTIM!!!
Уставшая, зевающая мама смотрела на меня с недоумением, она была мной недовольна, этот день дался ей в чем-то гораздо тяжелее, чем мне, она уже буквально валилась с ног. А стрелки неумолимо бежали вокруг циферблата: пятнадцать минут первого… полпервого… час… полвторого – и не в моей власти было их остановить. Так что к двум часам в квартире уже не осталось никого, кроме меня, мамы, Германа да свидетеля Паши. Но Паша в счет не шел, он уже часа три назад был на руках отнесен в маленькую комнату и, бесчувственный, сгружен там на неразобранный диван, как был – в ботинках, в пиджаке и галстуке, и доносился со стороны маленькой комнаты громоподобный пьяный храп его.
– А у тебя раньше был кто? – спрашивал нетрезвый Герман, неловко приобнимая меня за плечи, покрывшиеся гусиной кожей, и тянул к моему лицу свои полноватые, влажные, в трубочку сложенные губы.
– Нет, – отвечала я и старалась отодвинуться, а он двигался за мной; да и куда от него теперь-то было деваться, как-никак – законный супруг, имеет право; надеюсь, это будет не слишком больно, нужно просто не задумываться, он уже взрослый и наверняка знает, что делать…
– И у меня – никого, – многозначительно и горячо прошептал Герман.
– В смысле? – не поняла я. Любопытство (а любопытство, как известно, самый неодолимый из всех женских недостатков) мгновенно пересилило во мне и страх, и отвращение. – Тебе ведь уже двадцать шесть лет! Где ж ты раньше-то был?!
– Тебя ждал! – сказал Герман с пафосом и снова неловко полез обниматься.
Боже мой, как умно! Как оригинально! Фраза, которую можно встретить в каждом фильме, особенно если фильм про крепкую советскую семью посмотреть. Я, ей-богу, могла предположить все, что угодно, но только не это. И снова, как тогда у ларька с мороженым, на ВДНХ, меня разобрал совершенно неуместный, истерический хохот. А Герман, казалось, ничего не замечал, он продолжал шарить по мне руками (там, куда только дотягивался). То-то он на грудь столько принял, для храбрости, должно быть, – пьяному, понятно, и море по колено.
Битый час он без толку провозился со мной, простыни уже были свернуты в жгутик, одеяло и одна из подушек обрушились на пол. Но ничего не выходило. Ей-богу, два девственника в постели (великовозрастных девственника, заметьте!) – это же цирк бесплатный, ничего смешнее я в жизни своей не видела! Потом, утомленный возней, он на несколько минут отстал, улегся на спину, ручки по швам, и пошла волной по потному лицу тяжелая мыслительная работа, мне казалось, будто я слышу, как скрипят извилины в его голове.
– Слушай, перевернись, пожалуйста, на четвереньки! – сказал Герман, закончив наконец громко скрипеть извилинами.
– Зачем это? – Я начала уже косить под полную дурочку, думала, что, может быть, на этот раз он отступится.
– Да я тут подумал, – беспечно ответил Герман, – что если у других так получается… у собачек, например… что… ну, в общем… что это и нам хорошо…
«Так вот, значит, кто я! – подумала я со смехом. – Ладно, валяй! На четвереньки, значит, на четвереньки!»
Глава 6
…Слава махал мне с того берега улицы, он складывал ладони рупором и кричал, а по улице, плавно огибая маленький островок с пустым и грязным ментовским «стаканом» посредине, текли и текли машины: четыре полосы в одну сторону и четыре – в другую; катились неспешным однородным потоком, нос в хвост, без пробелов; были сгорблены их разноцветные спины, надсадно ревели их разноголосые клаксоны… Слава складывал ладони рупором и кричал, но обрывки слов его тонули в волнах этой протяжной какофонии: «Я… чу… бой… ва!.. чу… бой… ва!..»; тревожно и часто моргали желтоглазые светофоры, множество светофоров, целый лес светофоров… а потом, всего лишь на мгновение, над мутной полноводной рекой взвисла абсолютная, гулкая тишина и отчетливо и ало прозвучал с того берега Славин уверенный голос: «Я не хочу с тобой разговаривать!» – и тишина пала, и мутные волны яростно забились о тротуар у моих ног, обдав меня ледяной влагой своей, и ухнула под воду милицейская будка, и заколыхалась у самого берега густая желтая пена, внутри ее затанцевали щепки и окурки; и стремительно потекли над головой низкие, страшные тучи… Слава отвернулся, Слава зашагал прочь, туда, вслед за быстро утекающими облаками, зашагал по высоким, желтым, от ветра пригибающимся травам, он уплывал все дальше и дальше, и его светлые волосы почти касались облачного дна. И хотелось заплакать, но это было нельзя, вдруг он еще оглянется и увидит, и тогда он обязательно будет смеяться; и все сильнее горбились черные волны, и разливалась река-дорога, шире и шире, догоняя уходящего Славу, пока колючий, вертикальный, совершенно непроницаемый ливень не опустил между нами свой хрусткий полиэтиленовый занавес и не растворил окончательно Славину удаляющуюся спину. Вот и все. Его больше нет. И только холодная вода льется с низкого неба, по рукам, по волосам, по лицу, он не оглянется, теперь можно плакать, и слезы, прозрачные бусины, разбегаются по щекам, срываются с кончика носа, мешаясь с дождем, такие горькие на вкус; он не хочет разговаривать, не хочет разговаривать, ну и не надо! НЕ НАДО! НЕ НА…
– …дя, Надя! Проснись, Надя!
Я открыла заплаканные глаза и увидела перед собой растерянное лицо Германа. И непроизвольно поморщилась – веселый солнечный зайчик отражался от створки у окна стоящего трельяжа и навязчиво лез прямо в лицо; в комнате было совсем светло, душно и празднично.
– Это я, я во всем виноват, только я, – бормотал Герман, и заглядывал мне в глаза, и дышал на меня вчерашним' перегаром. – Я дурак, мне всегда не везло. Вечно я что-нибудь ляпну. Прости меня! Наденька! Ты только прости меня! Я буду стараться! Честное слово! И увидишь, все исправится! Я правда люблю тебя… Только не плачь, пожалуйста! Не плачь, а?
Был он такой несчастный, такой нелепый и потерянный, сказать ему хоть одно плохое слово просто язык не поворачивался… И тогда, с огромным трудом подавив в себе вчерашнее отвращение, я приобняла его за рыхлое плечо и сказала натянуто-ласково:
– Ничего… Все в порядке… Все нормально…
Герман немного ожил, и, чтобы успокоить его окончательно, я начала разматывать перед ним длинную логическую цепочку происшествий, приведших меня сегодня утром к такому вот подавленному состоянию.
– Подумай сам, – говорила я, и голос мой становился все увереннее, – сначала отравление это, потом эта чертова аллергия. Все до кучи: свадьба, «скорая», этот укол… Ты хоть посмотри на меня. Ты же видишь, что у меня с лицом творится! В каком настроении я, по-твоему, должна быть? Знаешь, это ведь малоприятно, когда в день собственной свадьбы даже сфотографироваться стыдно! А насчет слез… Мне просто приснился сон. Плохой. Кошмар. От усталости, наверное, от нервов. А может – от этого дурацкого димедрола…
После моей тирады Герман успокоился окончательно и тут же попытался меня поцеловать. Я отшатнулась. Он вопросительно поднял свои неровные, густые темные брови.
– Знаешь, ты меня, конечно, извини, но… зубы почисти, пожалуйста, – тут же отмазалась я, и Герман, стремительно натянув плавки и откуда-то из-под кровати извлеченные пыльные тренировочные штаны, послушно пошлепал в коридор.
Мне стало любопытно. Я заглянула под кровать. Под кроватью мной были обнаружены: старая кроссовка фирмы «Adidas» – одна штука; неопределенного цвета тряпица, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении белой футболкой, – одна штука; книга из серии «Альфа-Фантастика», совсем новая, – одна штука; журналы «Крокодил» пятилетней давности – две штуки; носовые платки (грязные) – три штуки; газеты «Спорт-Экспресс» – одна кучка; сухие апельсиновые корки – множественное число. Все это пышное великолепие (кроме книги из серии «Альфа-Фантастика») покрывал густой слой скатавшейся пыли. Граница пыли обрывалась точно у края кровати, а дальше начинался чисто вымытый блестящий паркет, по паркету лениво расползались оранжевые солнечные пятна. Пятна томно шевелились, такие теплые на ощупь, и уже не рыжие, а лишь бледно-желтые отражения их совершали параллельное движение по плохо выбеленному потолку над моей головой.
Кинула взгляд на циферблат будильника – стрелки его радостно стояли торчком и показывали без пяти минут час. «Ничего себе!» – подивилась я, поднялась с постели и стала искать что-нибудь вроде халата и тапочек. Но, кроме белых лодочек и свадебного платья, ничего не обнаружила. Полезла в шкаф – шкаф был практически пуст. На плечиках висели две рубашки – голубая, в белую клетку, с короткими рукавами, и коричневая, с длинными, совсем уже дряхлая, с лохматыми манжетами. Еще были зимнее темно-серое пальто и куртка-»аляска», пара черных брюк, пара поношенных джинсов-варенок. В глубине шкафа нашлась вторая кроссовка. В другом отделении лежали несколько полотенец, больших и маленьких, несколько футболок, много неглаженого нижнего белья и альбом со старыми фотографиями. А больше не было ничего.
Герман все не возвращался.
Мне страстно хотелось умыться и причесаться. Я с опаской покосилась в зеркало. Опухоль почти спала, но диатезная розовая корочка клоками покрывала щеки, она была уже не бледно-розовой, как вчера, а ярко-алой. «Ну и рожа!» – беззлобно отметила я про себя, поискала расческу, не нашла, попыталась привести волосы в порядок пятерней – безуспешно. Волосы, вчера густо залитые лаком, слиплись, и пятерня в них благополучно застревала. «Да, теперь – только мыть, – сообщила я своему непрезентабельному зеркальному дубликату. – Господи, да где же это Герман запропастился?»
Потом выудила из шкафа одну из футболок, болотно-зеленую, надела. Футболка была мне широка и по бокам свисала неровно уголками вниз. Сунула ноги в лодочки (все вчера заработанные мозоли тут же дали о себе знать) и, приоткрыв дверь, выглянула в коридор. Дверь напротив тоже открылась, неожиданно и резко, и на пороге маленькой комнаты нарисовался заспанный, с опухшим, красным и помятым лицом свидетель Паша. Волосы его были всклокочены (почти как у меня), галстук съехал набок, брюки и рубашка наводили на мысль о жующей корове.
С минуту мы тупо смотрели друг на друга.
Но вот Пашин плохо сфокусированный, стеклянный взгляд начал потихонечку проясняться, пополз вниз и остановился на моих голых ногах. Я очнулась, всунулась обратно в комнату и дверь за собой захлопнула. «Вот черт! А я и забыла, что он здесь заночевал!» – мысленно выругалась я. Мне стало смешно. И из-за Паши, и из-за вида своего чудовищного. И вчерашний день не казался уже таким мрачным. Если вдуматься, то не так уж все страшно получилось, глупо, конечно, но скорее забавно. В жизни вообще гораздо больше смешного, чем грустного, это еще кто-то из великих придумал, по-моему.
А в стороне кухни громко гремели сковородками, тянуло запахом кипящего подсолнечного масла, сквозь приоткрытую дверь балкона доносился уличный шум, и ласковое июньское солнце светило прямо в окно. Герман не появлялся. Я еще раз оглядела комнату. Решила: «Что ж, будем создавать уют!» А потом подхватила один из поддиванных «Крокодилов», шариковую ручку, которая отыскалась тут же, на трельяже, и снова забралась на постель – стала кроссворд отгадывать.
– Что же ты не идешь? Я тебе и завтрак приготовил уже! – Герман выглядел немного обиженным.
– Дай халат. Или убери из дома Пашу. Не могу же я при нем ходить по квартире в чем мать родила, – парировала я спокойно.
– Ой, прости, – засуетился Герман и снова скрылся за дверью. Оттуда через мгновение долетел глухой перестук множества падающих предметов, как потом оказалось – книг. Книги стояли в коридоре, в открытых стеллажах, и, стремительно выскочив из комнаты, Герман в поворот не вписался, в крайний стеллаж врезался. Стеллаж едва не опрокинулся на Германа, но тот все же успел поддержать его, и только книги с самой верхней полки шумно осыпались на пол (и на голову, так что пару шишек Герман таки заработал).
Через несколько минут Герман вернулся в спальню, на сей раз – без происшествий. На сгибе одной руки его висел голубенький шелковый халат, совсем почти новый, другой рукой Герман потирал ушибленный затылок и комически морщился:
– Ты представляешь!.. (дальше следовал вышеприведенный рассказ о происшествии в коридоре).
* * *
А на кухонном столе уже возвышалась стопка горячих блинов, полупрозрачных, светло-желтых, на просвет напоминающих полные луны; сладкий пар взвивался над тарелкой и утекал в сторону настежь распахнутой форточки. Свидетель Паша насупился в уголке стола: его знобило. Чашка кофе, накрепко зажатая между Пашиных ладоней, содрогалась, извергая из недр своих брызги густой коричневой влаги, а Паша все не мог донести чашку до рта и только безвольно опускал трясущиеся руки обратно на клеенку. Когда же мама вежливо предложила ему блинок, Паша резко вскочил со своего места и, больно шарахнувшись плечом о край холодильника, умчался в сторону санузла. Мама укоризненно вздохнула и с угрозой в голосе к Герману обратилась:
– Это он всегда так напивается? – «всегда» было особо выделено интонацией. А в глазах читалось: «А ты? Ты тоже напиваешься так?» – и был в глазах запоздалый, никому уже не нужный страх: «Мы о тебе совсем ничего не знаем! Девочка моя! Да что же это? Да как же?!»
– Да нет, что вы! Он вообще не пьет почти. Его потому так и развезло. С непривычки, наверное, – ответил Герман приветливо.
– А… Тогда понятно… – подобрела мама и бросилась разводить «бедному мальчику» марганцовку.
Я попробовала блин. Блин был очень вкусный.
– Здорово! – сказала я восхищенно. Сама я печь блины совершенно не умела, они подгорали, прилипали к сковородке и рвались и были комом все, как один.
– Это меня в армии научили. В учебке, – скромно опустил глаза Герман. – Мы же там экзамены сдавали даже.
– Здорово! – опять сказала я. Я чувствовала перед Германом некоторую неловкость. После вчерашнего. И весь мой словарный запас от этого смущения забылся как-то, выдохся, осталось только несколько дежурных звукосочетаний типа «ага», «ого», «неужели» и «здорово», совершенно непригодных для построения полноценной фразы. Поэтому я старалась побольше жевать. И кухню разглядывала. Кухня была не слишком велика, но и не мала – так, серединка на половинку. А вообще-то приличная была кухня – гарнитурчнк миленький такой, в розочках, светлые моющиеся обойки, холодильник новый совсем, большой, жалюзи на окошке и громоздкий пыльный кактус на подоконнике, в корзинке плетеной. Благопристойная такая кухонька средней руки. Но… потолок был давно не белен обои давно не мыты; после вчерашних приготовлений к линолеуму можно было легко прилипнуть. И раковина была вся коричневая внутри, словно ее вообще никогда не чистили, и дверцы шкафчиков были забрызганы, и вокруг электрических конфорок лежал густой слой застаревшего жира. В общем – поле непаханое. Если уж браться за хозяйство, то, безусловно, есть где развернуться. А за хозяйство браться надо, раз уж мне придется здесь некоторое время пожить…
От сих смиренных и вполне благопристойных мыслей оторвала меня моя любопытная мама. Ей стало крайне интересно, когда и на чем мы собираемся перевозить сюда мои вещи.
– Не беспокойтесь, это не проблема, – опять вежливо отозвался Герман. – У Пашиного брата, у Андрюхи, «козел» есть. В него все влезет запросто. В следующие выходные и съездим.
– А зачем же до выходных ждать? Наденьке здесь и надеть будет нечего! – возразила мама.
– Да я в будни не могу, мне же на работу завтра.
– Как на работу?! – Мама вскинула тонко выщипанные по случаю торжества бровки. – А вы разве никуда не поедете?
– Зачем? – не понял Герман.
– Ну… В свадебное путешествие.
– Да я об этом и не подумал как-то, – промямлил Герман. – Да и отпуск мне сейчас не дадут, у нас там проблемы кой-какие. Если не подсуетиться, то даже счет арестовать могут.
Мама обиженно промолчала.
– Да ладно, мам, это ерунда, – встряла я с примирительной речью. – Я домой завтра сгоняю, самое необходимое заберу. А остальное – в выходные, на машине. Хорошо?
– Как знаешь, – буркнула мама. Она была явно недовольна. Мы не соблюдали традиций.
– Мам, да я и не хочу никуда ехать, – продолжала я искательно. – Я лучше тут побуду, попривыкаю… Ну его, это свадебное путешествие. И так на свадьбу денег вон сколько ухлопали!
Мама только рукой на меня махнула, надулась – делай, мол, как знаешь, это теперь не моя забота.
Тут из санузла возвратился на свет Божий Паша.
– У вас газировочки не осталось? – спросил он виновато, и Герман полез в холодильник, откуда извлек почти полную бутылку кока-колы. Мама засуетилась вокруг Паши, пытаясь впарить ему стакан с разведенной марганцовкой. Паша отнекивался, мама – увещевала, и вопрос о свадебном путешествии был сам собой снят.
А я сидела, молча таращилась в окно, на бледно-серые московские башни, на волнообразную июньскую зелень, эти башни обрамляющую, на полупрозрачные, призрачные, легкие-легкие облачка, развешанные в небе, и думала: «Вот и все… Значит, я буду так жить».
– Ой! – Мама вдруг резко обернулась в мою сторону, – Я и забыла совсем! Тебе же вызов пришел!
– К-какой в-вызов? – спросила я, слегка заикаясь, и голос мой стал совсем-совсем четким.
– Какой-какой! Из института! – ответила мама.
– К-когда?
– Да помнишь, вы за платьем ездили? Ты еще отравилась потом. Вот я и забыла…