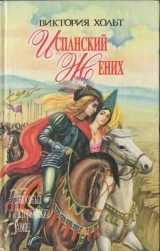
Текст книги "Король замка"
Автор книги: Виктория Холт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
7
Первого января Женевьева сказала, что собирается в Мезон Карефур и приглашает меня с собой.
Я подумала, что было бы интересно снова увидеть старый дом, и согласилась.
– Когда мама была жива, – рассказывала Женевьева, – мы всегда навещали дедушку в первый день Нового года. Все дети во Франции первого января ходят к своим бабушкам и дедушкам.
– Хороший обычай.
– Детей угощают пирогом и шоколадом, а взрослые пьют вино и едят печенье. Потом, чтобы похвастаться успехами, дети играют на пианино или на скрипке. Иногда их просят почитать стихи.
– Ты тоже что-нибудь сыграешь?
– Нет, я должна рассказать катехизис. Музыке дедушка предпочитает молитвы.
Интересно, как она себя чувствует в этом странном доме? Не удержавшись, я спросила:
– Тебе нравится у дедушки?
Она нахмурилась, явно не зная, что сказать.
– Меня тянет туда, а когда прихожу, то иногда чувствую, что не выдержу в этом месте больше ни минуты. Мне хочется выскочить на воздух и убежать… куда глаза глядят, чтобы никогда не возвращаться. Мама так много рассказывала о своем доме, что порою мне начинает казаться, будто я сама в нем жила. Не знаю, хочу я туда идти или нет.
В Карефуре Морис впустил нас в дом и отвел к старику, который выглядел еще немощнее, чем в нашу последнюю встречу.
– Дедушка, ты знаешь, какой сегодня день? – спросила Женевьева.
Он не ответил. Тогда она наклонилась к его уху и громко сказала:
– Первое января! Я пришла поздравить тебя с Новым годом. И мадемуазель Лосон тоже.
Расслышав мое имя, он кивнул.
– Очень любезно с вашей стороны прийти ко мне. Извините, что не встаю…
Мы сели рядом. Он действительно изменился, глаза помутнели. Сейчас у него был взгляд человека, плутающего в дремучем лесу. Я догадалась, что он мучительно напрягает память.
– Мне позвонить? – спросила Женевьева. – Мы сильно проголодались. Где мой пирог с шоколадом? И мадемуазель Лосон, я уверена, хочет пить.
Он не ответил, тогда она позвонила в колокольчик. Появился Морис, и она отдала распоряжения.
– Дедушка неважно себя чувствует, – сказала она Морису.
– Для него настали тяжелые дни, мадемуазель Женевьева.
– Думаю, он не знает, какой сегодня день. – Женевьева вздохнула и села. – Дедушка, – продолжала она, – в рождественскую ночь в замке устроили охоту за сокровищами, и мадемуазель Лосон победила.
– Сокровище нетленное – на небесах, – произнес он.
– Конечно, дедушка. Но пока его дожидаешься, приятно найти что-нибудь на земле.
Он выглядел озадаченным.
– Ты читаешь молитвы?
– Вечером и утром.
– Этого мало. Молись ревностнее. Тебе нужна помощь. Ты рождена во грехе…
– Да, дедушка, я знаю. Все мы рождены во грехе, но я правда молюсь. Нуну заставляет.
– А, славная Нуну! Будь к ней внимательна, она добрая душа.
– Она не позволит мне забыть молитвы.
Вернулся Морис с вином, пирогом и шоколадом.
– Спасибо, Морис, – поблагодарила Женевьева. – Я сама их угощу. – И снова повернулась к дедушке. – На Рождество мы с мадемуазель Лосон ходили в гости, там были ясли и пирог с короной. Вот бы у тебя было много сыновей и дочерей! Их дети приходились бы мне двоюродными братьями и сестрами. Сегодня мы могли бы вместе есть пирог с короной.
Старик не слушал ее. Он смотрел на меня. Я пыталась завести разговор, но не могла думать ни о чем, кроме похожей на келью комнаты и сундука с плетью и власяницей.
Он фанатик – это было очевидно. Как он им стал? И какую жизнь здесь вела Франсуаза? Почему она умерла после того, как его разбил паралич? Потому что не мыслила своей жизни без него? Без этого полуживого фанатика с безумным взглядом? Без мрачного дома с кельей и сундуком… Когда была замужем за графом и ее домом был Шато-Гайар!
Кто бы мог подумать, что при такой счастливой судьбе?..
Я себя одернула. С чего это я взяла? «Счастливая» судьба… Та, которой выпала эта участь, страдала так, что покончила жизнь самоубийством. Но почему… Почему? Праздное любопытство сменялось жгучим желанием узнать правду. И в этом не было ничего странного. Интерес к чужим тайнам был у меня наследственным. Проникнуть в чужой образ мыслей – все равно, что познать картину: почему художник выбрал именно этот предмет и изобразил его так, а не иначе, какой замысел и настроение воплотились в красках…
Старик не сводил с меня глаз.
– Я плохо вас вижу, – сказал он. – Не могли бы вы сесть поближе?
Я пододвинула к нему стул.
– Это была ошибка, – прошептал он. – Большая ошибка.
Он говорил с самим собою, и я взглянула на Женевьеву, которая старательно выбирала кусочки шоколада с принесенного Морисом блюда.
– Франсуаза не должна была знать об этом, – бормотал он. Он бредил. Я не ошиблась, подумав, что его состояние ухудшилось. Он вглядывался в мое лицо.
– А ты сегодня хорошо выглядишь. Очень хорошо.
– Спасибо, я прекрасно себя чувствую.
– Какая ошибка… Свой крест каждый должен нести сам, а я не выдержал ноши.
Я молчала, подумывая, не позвать ли Мориса.
По-прежнему не сводя с меня глаз, он отъехал в своем кресле назад. Казалось, он боится. От неловкого движения с него соскользнул плед. Я подхватила его и хотела укрыть старика, но тот отпрянул и закричал:
– Сгинь! Оставь меня! Тебе известно, как тяжело мое бремя, Онорина.
Я сказала:
– Позови Мориса, – и Женевьева выбежала из комнаты.
Старик схватил меня за руку. Я почувствовала, как его ногти впились мне в кожу.
– Ты не виновата, – бормотал он. – Это мой грех, мой крест. Я буду нести его до могилы… Почему не ты?.. Зачем я?.. Трагедия… Франсуаза… Малышка Франсуаза. Уходи. Не приближайся ко мне. Онорина, не искушай меня.
Морис торопливо вошел в комнату. Он взял плед, укутал старика и бросил через плечо:
– Незаметно уйдите. Так будет лучше.
На шее у старика висело распятие. Морис вложил распятие ему в руки, и мы с Женевьевой вышли из комнаты.
– Это было… страшно, – призналась я.
– Вы сильно испугались, мисс? – спросила Женевьева почти радостно.
– Он бредил.
– Он часто бредит. Он же очень старый.
– Не надо было нам приходить!
– Папа сказал бы то же самое.
– Он запрещает тебе ходить сюда?
– Не совсем так. Я не говорю ему, но если бы он знал, то запретил бы.
– Тогда…
– Дедушка был отцом моей матери, и папа его не любит. В конце концов, он не любил маму, так?
На обратной дороге в замок я сказала:
– Он принимал меня за кого-то другого. И пару раз назвал Онориной.
– Так звали мамину маму.
– Он боялся ее?
Женевьева задумалась.
– Вряд ли, дедушка кого-нибудь боялся.
Я тогда подумала, что вся жизнь в замке каким-то таинственным образом связана с покойниками.
Я не могла не поговорить с Нуну о нашем визите в Карефур.
Она покачала головой.
– Женевьеве не стоит туда ездить, – сказала она. – Лучше этого не делать.
– Она хотела соблюсти новогодний обычай.
– Обычаи хороши для одних семей и не годятся для других.
– Их не очень-то придерживаются в этой семье.
– Обычаи созданы для бедных. Они придают их жизни хоть какой-то смысл.
– Полагаю, обычаи радуют и бедных и богатых. Но я жалею о нашем визите. Старик бредил. Это было неприятное зрелище.
– Мадемуазель Женевьеве следует ждать, когда он за ней пришлет. Неожиданные визиты ни к чему хорошему не приводят.
– Он, конечно, был другим, когда вы там жили… Я хочу сказать, когда Франсуаза была ребенком.
– Он всегда был строгим. К себе и к другим. Ему надо было стать монахом.
– Возможно, он и сам так думал. Я видела его келью. По-моему, раньше он жил в ней.
Нуну опять кивнула.
– Такому человеку не следовало жениться, – сказала она. – Франсуаза не понимала, что происходит вокруг. Я старалась сделать так, чтобы все это ей казалось естественным.
– А что происходило? – спросила я.
Она бросила на меня пристальный взгляд.
– Он не был создан для отцовства. Хотел, чтобы дом был похож… на монастырь.
– А ее мать… Онорина?
Нуну отвернулась.
– Она была инвалидом.
– Да, – сказала я, – не очень счастливое детство было у бедной Франсуазы… Отец – фанатик, мать – инвалид.
– Нет, она была счастлива.
– Кажется, вышивание и уроки музыки действительно скрашивали ее жизнь. Она пишет о них с радостью. Когда ее мать умерла…
– Что? – перебила Нуну.
– Она очень переживала?
Нуну встала и вытащила из выдвижного ящика следующую тетрадку.
– Прочитайте, – сказала она.
Я открыла первую страницу. Франсуаза была на прогулке. У нее был урок музыки. Она закончила вышивать напрестольную пелену. Она занималась с гувернанткой. Обычная жизнь обычной маленькой девочки.
Но дальше шли следующие записи:
«Сегодня утром на уроке истории папа зашел в классную комнату. Он выглядел очень грустным и сказал: «Франсуаза, я должен тебе кое-что сообщить. У тебя больше нет матери». Я чувствовала, что мне надо было бы заплакать, но не могла. А папа смотрел так сурово и печально. «Твоя мама долго болела и никогда бы уже не выздоровела. Господь услышал наши молитвы». Я сказала, что не молилась о том, чтобы она умерла, но папа возразил, что пути Господни неисповедимы. Мы помолились за маму, и я почувствовала большое облегчение. Он сказал, что теперь она отмучилась, и вышел из классной комнаты».
«Папа просидел в покойницкой два дня и две ночи. Он не выходил из нее, и я тоже была там, чтобы отдать дань уважения умершей. Я долго стояла на коленях у кровати и горько плакала. Я думала, что плачу, потому что умерла мама, но на самом деле у меня болели колени и мне там не нравилось. Папа все время замаливал грехи. Мне стало страшно, потому что если он такой грешник, то что говорить о нас – всех остальных, не молившихся и вполовину его стараний».
«Мама лежит в гробу в ночной сорочке. Папа говорит, что теперь она успокоилась. Все слуги приходили исполнить последний долг. Папа остается там и все время молится о прощении грехов».
«Сегодня были похороны. Торжественное зрелище. Лошадей украсили перьями и черными попонами. Я шла рядом с папой во главе процессии, на мне было новое черное платье, которое Нуну дошивала уже ночью, а лицо закрывала черная вуаль. Когда мы вышли из церкви, я заплакала, а потом стояла рядом с похоронными дрогами, пока оратор всем рассказывал, что мама была святой».
«В доме тихо. Папа в своей келье. Я знаю, он молится. Я стояла за дверью и слышала. Он молится о прощении грехов и о том, чтобы страшный грех умер вместе с ним, чтобы страдал он один. Я думаю, что он просит Бога не быть слишком суровым к маме, когда она придет на небеса, и что, какой бы ни был этот страшный грех, это его вина, а не ее».
Я закончила чтение и подняла глаза на Нуну.
– Что это за страшный грех? Вы знаете?
– В его глазах даже смех был грехом.
– Не понимаю, зачем он женился, почему не ушел в монастырь и не прожил жизнь там.
Нуну только пожала плечами.
Вскоре после Нового года граф вместе с Филиппом уехал в Париж. Работа моя продвигалась, и я уже могла продемонстрировать несколько отреставрированных картин. Было отрадно видеть их возрожденную красоту. Я с наслаждением вспоминала, как оживали эти яркие краски, сбрасывая с себя одно напластование за другим. Для меня это было не просто возвращением первозданной красоты, но и самоутверждением.
И все же каждое утро я просыпалась с твердым намерением уехать из замка. Внутренний голос твердил мне: «Извинись и беги без оглядки». С другой стороны, у меня никогда не было такой интересной работы. Ни один дом в мире не заинтриговал вы меня больше, чем Шато-Гайар.
Январь выдался на редкость холодным, и на полях было mho-mi работы: боялись, что виноградники побьет морозом. Во время конных и пеших прогулок мы с Женевьевой часто останавливались посмотреть на работу виноградарей. Иногда заезжали к Бастидам, а как-то раз Жан-Пьер взял нас с собой в погреба. Показал винные бочки и объяснил, как виноградный сок становится вином.
Женевьева сказала, что глубокие подвалы напоминают ей подземелья замка, на что Жан-Пьер шутливо заметил, что в погребах все учтено и ничего не забыто. Показал нам небольшие оконца, через которые проникал свет и регулировалась температура. Предупредил, что в погреб запрещается спускаться с цветами или любыми другими растениями, аромат которых может придать вину дурной вкус.
– Сколько лет этим подвалам? – поинтересовалась Женевьева.
– Столько же, сколько виноградникам… Несколько веков.
– Вот так! За виноградниками ухаживали, над вином тряслись, а людей кидали в подземелье и оставляли умирать от холода и голода, – прокомментировала Женевьева.
– Да. О вине заботились больше, чем о врагах.
– Все эти годы вино делали Бастиды…
– И один из них удостоился чести стать врагом твоих знатных предков. Его кости лежат в замке.
– Как, Жан-Пьер? Где?
– В каменном мешке. Он надерзил графу де ла Таль, тот вызвал его к себе, и больше его не видели. В замок-то он вошел, авот выйти уже не смог. Представьте. Парень является к графу. «Входи, Бастид. Что-то ты отбился от рук». Смельчак пытается объясниться, вообразив, что может говорить с хозяином на равных. А Его Светлость нажимает носком на пружину, и пол разверзается. Дерзкий Бастид падает вниз. Как и многие до него. Падает, чтобы умереть от холода и голода… скончаться от ран, полученных при падении. Эка важность? Больше он не будет досаждать Его Светлости.
– В тебе до сих пор говорит обида? – спросила я с удивлением.
– Да нет. Потом, в революцию, настала очередь Бастидов.
Говорил он, видимо, невсерьез, потому что почти сразу рассмеялся.
Погода резко переменилась, и виноградникам уже ничего не грозило, хотя, по словам Жан-Пьера, самый опасный враг – весенние заморозки: они ударяют неожиданно.
Дни текли мирно. Я ясно помню милые пустяки, радовавшие меня в то время. Мы с Женевьевой часто бывали вместе. Наша дружба крепла медленно, но верно. Я не пыталась ускорять события: мы, конечно, стали ближе, но иногда девочка казалась совсем чужой. Она не ошибалась, говоря, что в ней уживаются два разных человека. Она была то коварной, то простодушно ласковой.
Я постоянно думала о графе. Вспоминала, с какой терпимостью он дал мне возможность доказать свое мастерство, с каким благородством признал, что напрасно сомневался во мне, и как в знак примирения подарил мне миниатюру. И он хотел сделать дочь счастливой, иначе не положил бы рождественские подарки в башмаки. А еще он обрадовался, когда я выиграла изумрудную брошь. Почему? Наверное, хотел, чтобы у меня было что-нибудь ценное на черный день. Итак, воображение рисовало мне его новый портрет, хотя здравый смысл подсказывал, что плоды моей фантазии очень далеки от реальности.
Брошь на черный день… Я вздрагивала, пытаясь представить себе этот черный день. Я не могу оставаться в замке бесконечно. Несколько картин уже отреставрировано. Работа не продлится долго, какие бы иллюзии не строила я на этот счет.
Некоторые люди с легкостью верят, что вещи таковы, какими они хотят их видеть. Я никогда не была такой… до сих пор. Всегда предпочитала смотреть правде в глаза и гордилась своим здравым смыслом. Приехав сюда, я изменилась. Странно, но я даже не желала вглядеться в себя пристальнее, чтобы найти причину этих перемен.
Марди Грас [5]5
Во Франции последний день перед началом поста.
[Закрыть]. Предстоящему карнавалу Женевьева радовалась не меньше Ива и Марго, которые научили ее делать бумажные цветы и маски. Я считала, что праздник пойдет ей на пользу, поэтому мы, в уморительных масках, забросав друг друга бумажными цветами, уселись в телегу Бастидов и отправились на городскую площадь. Там на шутовской виселице болтался Его Величество Карнавал. Все танцевали, и мы тоже.
Женевьева веселилась от души.
– Я много слышала о Марди Грас, – призналась она по пути в замок, – но не думала, что это так весело.
– Надеюсь, твой отец не возражал бы против твоего присутствия на празднике.
– Этого мы никогда не узнаем. – Она заговорщически мне подмигнула. – Потому что ничего ему не расскажем. Правда, мисс?
– Если он спросит, то, конечно, расскажем, – возразила я.
– Он не спросит. Ему нет до нас дела, мисс.
Была ли она уязвлена? Возможно. Но теперь небрежение со стороны отца задевало ее меньше. Что касается Нуну, то старая няня не волновалась, зная, что Женевьева со мной. Мне льстило доверие старой няни. Когда мы ходили в город, нас всегда сопровождал Жан-Пьер. Он-то и был вдохновителем всех наших увеселительных прогулок. Он их обожал, а Женевьеве, в свою очередь, нравилась его компания. Я же убеждала себя, что у Бастидов с Женевьевой не может случиться ничего плохого.
В первую неделю великого поста граф с Филиппом вернулись в замок, и округу облетела новость: Филипп помолвлен и собирается жениться на мадемуазель де ла Монель.
Граф застал меня в галерее. Стояло прекрасное солнечное утро, и поскольку день стал прибывать, я проводила в галерее больше времени, чем раньше. При ярком дневном свете отреставрированные картины выглядели эффектнее, и граф с явным удовольствием оглядел их.
– Отлично, мадемуазель Лосон, – сказал он. Пытаться прочитать что-либо в его темных глазах было, как всегда, бесполезно. – А что вы делаете сейчас?
Я пояснила, что картина, над которой я работаю, так сильно пострадала, что от нее отслоилась краска. Испорченные места надо замазать гипсом и подкрасить.
– Вы – настоящий художник, мадемуазель Лосон.
– Как вы однажды заметили – несостоявшийся.
– А вы злопамятны! Но, надеюсь, простили меня?
– Прощать мне вас не за что. Вы сказали правду.
– Какая вы строгая! Вот такая женщина нужна не только картинам, но и всем нам.
Он шагнул ко мне. Заглянул в глаза. Неужели на его лице мелькнуло восхищение? Но я-то знала, как выгляжу. Коричневый халат, который мне никогда не шел, волосы, имевшие привычку выбиваться из пучка, чего я никогда вовремя не замечала, руки испачканы рабочими материалами. Разумеется, его интересовала не моя внешность.
Видимо, волокиты ведут себя так со всеми женщинами. Эта мысль портила мне настроение, и я попыталась ее отогнать.
– Вам нечего опасаться, – сказала я. – Я использую растворимую краску на тот случай, если ее надо будет смыть. Знаете, такие краски, сделанные на основе синтетической смолы.
– Никогда об этом не слышал.
– Но так оно и есть. Понимаете, раньше каждый художник сам смешивал себе краски. Он и только он знал их секрет, потому что у всякого мастера был собственный рецепт приготовления материалов. Именно это делает старых художников неповторимыми. Их очень трудно копировать.
Граф понимающе кивнул.
– Ретушировка – очень кропотливый процесс, – продолжала я. – Реставратор ни в коем случае не должен навязывать оригиналу свою интерпретацию.
Он выглядел довольным. Возможно, понял, что я говорю все это, чтобы скрыть смущение.
– Да, это могло бы обернуться окончательной утратой картины. Все равно, что пытаться переделать человека на свой манер, вместо того, чтобы помочь ему сохранить в себе все доброе… и заглушить злое.
– Я имела в виду только живопись, о которой действительно могу говорить со знанием дела.
– И ваш энтузиазм – тому доказательство. Кстати, а как у моей дочери дела с английским?
– Отлично.
– Преподавание и реставрация… Не много ли для вас одной?
Я улыбнулась.
– И то, и другое доставляет мне удовольствие.
– Рад, что вы не скучаете. Я думал, что вам может не понравиться наша сельская жизнь.
– Ну что вы! К тому же, у меня есть ваше любезное разрешение пользоваться конюшней.
– И верховую езду вы тоже любите?
– Очень.
– Увы, жизнь в замке уже не бурлит, как раньше.
Он посмотрел поверх моей головы и холодно добавил:
– После смерти жены мы перестали принимать гостей. Старые дни так и не вернулись. Возможно, теперь все пойдет по-другому. Кузен женится, и хозяйкой замка будет его молодая супруга.
– Пока вы сами не женитесь, – вырвалось у меня.
– Что заставляет вас считать, что я когда-нибудь женюсь?
Уверена, в его вопросе прозвучала горечь.
Осознав, что допустила бестактность, я пробормотала:
– Это вполне естественно… что вы женитесь… со временем.
– Я думал, вам известны обстоятельства смерти моей жены, мадемуазель Лосон.
– Я… слышала об этом.
Я чувствовала себя человеком, одной ногой угодившим в трясину и обязанным ее немедленно выдернуть, чтобы не завязнуть целиком.
– А-а, – протянул он, – слышали! Некоторые люди не сомневаются в том, что я убил свою жену.
– Вас, конечно, не интересует такая чепуха, как чужие…
– Вы смутились? – Теперь он злорадно улыбался. – Значит, по-вашему, это не такая уж чепуха. Признайтесь, вы считаете, что я способен на самые гнусные поступки.
У меня часто заколотилось сердце.
– Вы шутите, – сказала я.
– Что еще можно ожидать от англичан! Это неприятно, так что не будет об этом говорить. – Его глаза вдруг стали злыми. – Нет, не будем! Лучше продолжать верить в жертву преступления.
Мне стало не по себе.
– Вы не правы, – возразила я.
Он вдруг успокоился так же внезапно, как вышел из себя.
– Мадемуазель Лосон, вы очаровательны. И конечно, понимаете, что при таких обстоятельствах мне больше не следует жениться. Вы удивлены, что я обсуждаю с вами свои взгляды на брак?
– По правде говоря, да.
– Просто вы благодарный слушатель. Я не имею в виду благодарный» в обычном сентиментальном смысле этого слова. В вас столько здравого смысла, вы такая невозмутимая и в то же время искренняя! Эти качества и подтолкнули меня к обсуждению личных проблем.
– Не знаю, благодарить ли вас за комплимент или просить прощения за то, что вызвала на откровенность.
– Вы всегда говорите то, что думаете. Поэтому я хочу задать вам один вопрос. Обещаете ответить?
– Постараюсь.
– Вот мой вопрос: вы считаете, что я убил жену?
Я вздрогнула. Он прикрыл глаза тяжелыми веками, но я знала, что он внимательно на меня смотрит. Несколько секунд я медлила с ответом.
– Спасибо, – сказал он.
– Я еще не ответила.
– Нет, ответили. Вам нужно было время, чтобы выразиться потактичнее. Мне не нужна ваша тактичность. Я хотел правды.
– Дайте мне сказать, раз спросили мое мнение.
– Говорите.
– Я не верю, что вы отравили жену, но…
– Но…
– Возможно, вы… разочаровали ее… не дали счастья, которого она ждала. Я хочу сказать, что, может быть, с вами она чувствовала себя несчастной и решила лучше умереть, чем так жить.
Он смотрел на меня, натянуто улыбаясь. Я вдруг подумала, что он глубоко несчастен, и мне захотелось сделать его счастливым. Нелепо, но именно этого я и хотела. Я поверила в то, что за маской надменности и безразличия увидела живого человека.
Граф как будто прочитал мои мысли. Его лицо стало жестким, и он сказал:
– Теперь вы понимаете, мадемуазель Лосон, почему я не хочу жениться. Вы полагаете, что я косвенно виновен в смерти жены, и вы – умная молодая женщина – без сомнения правы.
– Вы считаете меня глупой, бестактной, нечуткой… такой, каких вы не любите.
– Вы… как живая вода, мадемуазель Лосон. И сами об этом знаете. Кажется у англичан есть пословица: «Дай псу дурную кличку и можешь его повесить». Правильно? – Я кивнула. – Перед вами пес с дурной кличкой. Увы, нет ничего проще, чем оправдать дурную репутацию. Вот! За урок реставрации вы получили урок семейной истории. Кстати, я намеревался вам сообщить, что после Пасхи мы с кузеном уедем в Париж. Откладывать свадьбу Филиппа нет причины. В доме невесты устроят ужин в честь подписания брачного контракта, потом состоятся свадебные торжества, и наступит медовый месяц. Когда все мы вернемся в замок, то сможем чаще принимать гостей.
Как он может так спокойно говорить об их свадьбе? Вспомнив о его роли в этом деле, я разозлилась. На него – за то, что он так поступает, и на себя – за то, что легко забываю о его грехах и с готовностью принимаю графа таким, каким он хочет выглядеть – а показывался он мне каждый раз в новом облике.
– Сразу после их возвращения мы дадим бал, – продолжал он. – Новая госпожа де ла Таль вправе на это рассчитывать. Еще через два дня мы устроим бал для всей округи… для виноградарей, слуг. Это старая традиция. Бал по случаю женитьбы наследника замка. Надеюсь, вы будете присутствовать на обоих праздниках.
– С удовольствием приду на бал для работников, но не уверена, что госпожа де ла Таль захочет увидеть меня на своем балу.
– Я этого хочу, и раз я вас приглашаю, она встретит вас как желанную гостью. Вы сомневаетесь? Дорогая мисс Лосон, я хозяин этого дома. И это изменится только с моей смертью.
– Да, конечно, – ответила я. – Но я приехала сюда работать, и присутствие на большом торжестве для меня неожиданность.
– Уверен, вы не растеряетесь в любой ситуации. Не смею вас больше задерживать. Вижу, вам не терпится вернуться к работе.
Он ушел – расстроенный, взволнованный. Я почувствовала себя утопающим в зыбучих песках, выбраться из которых становится все труднее. Знал ли он об этом? Были ли его слова предупреждением?
Граф с Филиппом уехали в страстную субботу, а в понедельник я забрела к Бастидам. В саду играли Ив и Марго. С громкими криками они позвали меня взглянуть на пасхальные яйца, которые в субботу нашли в доме и на улице. Столько же, сколько в прошлом году.
– Может, вы и не знаете, мисс, – сказала Марго, – но на Пасху все отправляются за благословением в Рим и по дороге разбрасывают яйца, которые находят дети.
Я призналась, что никогда об этом не слышала.
– Значит, в Англии нет пасхальных яиц? – спросил Ив.
– Есть… только их дарят друг другу люди.
– У нас тоже дарят, – сказал он. – На самом деле, никто не отправляется в Рим для благословения, но мы их находим, понимаете? Хотите одно яичко?
Я сказала, что хотела бы взять одно для Женевьевы. Ей будет интересно узнать, что его нашли на Пасху. Яйцо тщательно завернули и торжественно отдали мне.
Я объяснила, что пришла навестить госпожу Бастид. Дети переглянулись, и Ив сказал:
– Она вышла…
– С Габриеллой, – прибавила Марго.
– Тогда я зайду в другой раз. Что-нибудь случилось?
Они пожали плечами, как бы говоря, что не знают, мы попрощались, и я продолжила прогулку.
У реки я увидела их служанку Жанну с тачкой белья. Она стирала, выколачивая белье деревянной палкой.
– Добрый день, Жанна, – поздоровалась я.
– Добрый день, мисс.
– Я только что от вас. Госпожи Бастид нет дома.
– Она ушла в город.
– В это время дня она редко выходит на улицу.
Жанна кивнула и с многозначительным видом принялась разглядывать свою палку.
– Надеюсь, что все хорошо, мисс.
– У вас есть причины думать иначе?
– У меня у самой дочь.
В замешательстве я подумала, что, может быть, неправильно поняла смысл какого-то словечка из местного диалекта.
– Вы хотите сказать, что мадемуазель Габриелла…
– Хозяйка тревожится. Она повела мадемуазель Габриеллу к доктору. – Жанна развела руками. – Дай Бог, чтобы не оказалось ничего дурного, но когда в жилах течет горячая кровь, мадемуазель, такое может произойти с каждым.
Я не знала, что и подумать.
– Надеюсь, у мадемуазель Габриеллы нет ничего заразного, – сказала я и ушла, оставив ее подсмеиваться над моей наивностью.
Я очень беспокоилась о Бастидах и на обратном пути опять зашла к ним. Госпожа Бастид была дома. Она встретила меня со скорбным, осунувшимся от забот лицом.
– Я не вовремя? – спросила я. – Тогда я уйду. Но, может быть, я могу чем-нибудь помочь?
– Нет, – сказала она, – не уходите. Шила в мешке не утаишь… И потом, я знаю вашу скромность. Садитесь, Дэлис.
Сама она устало села рядом и, опершись рукой на стол, прикрыла лицо ладонью.
Я ждала. Через несколько минут, видимо, обдумав, что именно можно мне рассказать, она отняла руку и проронила:
– Надо же было такому случиться в нашей семье!
– Габриелла? – спросила я.
– Да.
– Где она?
– В своей комнате. – Госпожа Бастид кивком указала на верхний этаж. – Упрямая. Слова из нее не вытащишь.
– Она больна?
– Больна? Лучше бы она была больна. Все, что угодно… только не это.
– И ничего нельзя сделать?
– Она не признается, кто он. Я никогда не думала, что такое может случиться. Она не из гулящих. Всегда была такой скромной!..
– Возможно, все уладится.
– Надеюсь. Что скажет Жан-Пьер, когда узнает? Он такой гордый. Очень на нее разозлится.
– Бедная Габриелла! – прошептала я.
– Бедная Габриелла! Я бы никогда не поверила. И ведь молчала, пока я сама не догадалась… Она так испугалась, что я могла уже не сомневаться. Последнее время она выглядела неважно, встревоженной… избегала нас. А сегодня утром, когда мы готовили белье в стирку, она упала в обморок. Я почти совсем уверилась в своих подозрениях и повела ее к доктору. Он подтвердил мои опасения.
– Она отказывается назвать вам имя своего любовника?
Госпожа Бастид кивнула.
– И это меня пугает. Если бы это был кто-нибудь из парней… конечно, нам бы это не понравилось, но мы бы все уладили. А раз она не хочет говорить, я боюсь… Почему не сказать, если можно все уладить? Вот, что я хочу знать. Похоже, это кто-то, кто не может исправить положение.
Я спросила, могу ли я приготовить кофе, и, к своему удивлению, получила разрешение. Госпожа Бастид сидела за столом, безучастно глядя перед собой, а я, сварив кофе, понесла его наверх.
Когда я постучала в дверь, Габриелла сказала:
– Бабушка, это бесполезно.
Я открыла дверь и вошла в комнату с чашечкой дымящегося кофе. Габриелла лежала на кровати.
– Дэлис… Ты?!
– Вот, это тебе. Я подумала, может, ты хочешь подкрепиться.
Она не двигалась. Я взяла ее за плечо. Бедная Габриелла, в ее положение попадали тысячи девушек, но каждой казалось, что она первая. И для каждой это становилось личной трагедией.
– Мы можем что-нибудь сделать? – спросила я.
Она покачала головой.
– Ты не можешь выйти замуж и…
Она вновь покачала головой и отвернулась, так что я не видела выражения ее лица.
– Он… женат?
Она лишь поджала губы.
– В таком случае… если он не может на тебе жениться, ты должна иметь мужество признать это.
– Они возненавидят меня, – сказала она. – Все… Я уже не смогу жить по-прежнему.
– Неправда, – возразила я. – Они потрясены… им больно… но это пройдет, и когда родится ребенок, они его полюбят.
Она вымученно улыбнулась.
– Ты во всем хочешь видеть хорошее, Дэлис, – и в людях, и в картинах. Но ничего не можешь сделать. «Как постелишь, так и поспишь», вот, что они скажут.
– Кто-нибудь должен поддержать тебя в беде.
Но она упорно не хотела ничего говорить.
Я грустно брела в замок, вспоминая счастливое Рождество, и думала, как внезапно и тревожно может повернуться жизнь. Счастье так непостоянно!
После свадьбы граф не спешил возвращаться в замок. Филипп со своей молодой женой проводил медовый месяц в Италии, и я с раздражением думала о том, что граф, цинично передав Клод Филиппу, развлекается, наверное, с новой любовницей. Мне это казалось самым правдоподобным объяснением его отсутствия.
Он вернулся чуть раньше Клод и Филиппа и не искал моего общества. Я спрашивала себя, не боится ли он моего осуждения. Как будто ему было до этого дело! Может быть, он просто решил, что я становлюсь слишком навязчивой.








