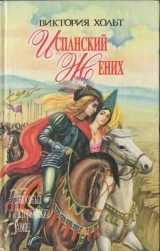
Текст книги "Король замка"
Автор книги: Виктория Холт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
– Но вы вместе ездите к этим людям! Это все ваше влияние…
– Я знаю, что не смогу чинить ей препятствия. Но я скажу ей, что вы хотите с ней поговорить.
С этими словами я вышла из комнаты.
Вечером я поднялась к себе и уже легла в кровать, но еще не заснула, когда в замке поднялась какая-то суматоха.
Я услышала визг, потом гневные крики и, накинув халат, вышла в коридор. Послышалась ругань, потом голос Филиппа. Я стояла на пороге комнаты, не зная, что делать, как вдруг увидела пробегавшую мимо горничную.
– Что случилось? – крикнула я.
– Улитки у мадам в постели!
Я вернулась в комнату и села на постель. Итак, Женевьева взбунтовалась. Спокойно выслушав замечания тети Клод, она задумала месть. Быть неприятностям.
Я направилась в детскую и тихонько постучала в дверь. Никакого ответа. Тогда я вошла и увидела, что Женевьева лежит в кровати и притворяется спящей.
– Можешь не притворяться, – сказала я.
Она приоткрыла один глаз и захихикала.
– Мисс, вы слышали визг?
– Кто же его не слышал?
– Представляю, как вытянулось у нее лицо, когда она их увидела!
– Не смешно.
– Бедная мисс! Мне очень жаль людей, у которых нет чувства юмора.
– А мне жаль людей, которые позволяют себе идиотские выходки, за которые сами же потом расплачиваются. Что теперь будет, как ты считаешь?
– Она займется своими делами и не будет лезть в мои.
– Все может обернуться иначе.
– О перестаньте! Вы не лучше ее. Она пытается встать между мной и семьей Жан-Пьера. У нее ничего не выйдет!
– Если тебе запретит отец…
Она выпятила нижнюю губу.
– Никто не запретит мне видеть Жан-Пьера… и всех остальных.
– Ты ведешь себя, как школьница. Подложила ей улиток и думаешь, что это поможет?
– А разве нет? Вы не слышали, как она кричала? Держу пари, что она испугалась. И поделом.
– Ты же знаешь, что она этого так не оставит.
– Пусть делает, что хочет, а я буду делать то, что хочу я.
Спорить было бесполезно, и я ушла. Мое беспокойство переросло в тревогу. Не только из-за глупого поведения девочки, вызванного грубым вмешательством в ее жизнь, но также из-за ее увлечения Жан-Пьером.
На следующее утро в галерею пришла Клод. На ней был синий костюм для верховой езды и голубая жокейская шапочка. Ее обычно светлые глаза казались синими от гнева, но я сделала вид, что ничего не замечаю.
– Ночью произошел отвратительный случай, – сказала она. – Возможно, вы слышали.
– Да, до меня доносились какие-то звуки.
– Манеры Женевьевы достойны сожаления, но удивляться тут нечему, если принять во внимание с кем она водит дружбу. – Я подняла брови. – И я думаю, мадемуазель Лосон, что во всем виноваты вы. Согласитесь, это после вашего приезда она начала якшаться с виноделами.
– Эта дружба не имеет ничего общего с ее дурными манерами. Когда я приехала, они уже тогда были достойны сожаления.
– Я убеждена, что вы на нее плохо влияете, и по этой причине требую, чтобы вы уехали.
– Уехала?
– Да, это самый лучший выход из создавшегося положения. Я прослежу, чтобы вам заплатили за работу, а мой муж может помочь вам найти другое место. И никаких возражений. Через два часа вас не должно быть в замке.
– Но это невозможно. Я не закончила реставрацию картин.
– Мы найдем кого-нибудь другого.
– Вы не понимаете. Я использую свои собственные методы и не могу бросать картину, не закончив.
– Я здесь хозяйка, мадемуазель Лосон, и прошу вас уехать.
Как она уверена в себе! Есть ли у нее на это основания? Неужели она имеет такое влияние на графа? Стоит ей попросить, и все исполнится? Не переоценивает ли она свое влияние на графа?
– Меня нанял граф, – напомнила я ей.
Она скривила губы.
– Значит, он вас и рассчитает.
Я почувствовала леденящий страх. У нее, должно быть, есть веские причины для такой непоколебимой уверенности в своих силах. Возможно, она уже говорила обо мне с графом и он, чтобы доставить ей удовольствие, согласился на мое увольнение. Пытаясь отогнать от себя дурные предчувствия, я пошла за ней в библиотеку.
Она резко распахнула дверь и позвала:
– Лотер!
– Что дорогая? – откликнулся он.
Увидев меня, он поднялся со стула и с ошеломленным видом направился нам навстречу. Потом кивнул мне в знак приветствия.
– Лотер, я сказала мадемуазель Лосон, что она больше не может здесь оставаться. Но она отказывается получить расчет от меня, вот почему я привела ее к тебе. Скажи ей!
– Сказать ей? – переспросил он, глядя то на меня, то на нее.
Я всем своим видом выражала презрение, она же была раздражена, но даже это ей шло: на щеках выступил румянец, подчеркивавший синеву глаз и белизну ровных зубов.
– Женевьева положила мне в кровать улиток. Такая мерзость!
– Боже! – вырвалось у него. – Неужели эти глупые шутки доставляют ей удовольствие?
– Она думает, что это очень забавно. У нее ужасные манеры. Но что еще ждать от нее, если… Ты знаешь, что Бастиды – ее лучшие друзья.
– Нет, этого я не знал.
– Можешь мне поверить, это так. Она у них днюет и ночует. Сказала мне, что на нас ей наплевать. Мы не такие приятные, веселые и умные, как ее дорогой друг Жан-Пьер Бастид. Его она любит больше остальных, да и вообще обожает всю их компанию. Бастиды! Ты знаешь, что они из себя представляют.
– Они лучшие виноделы в округе.
– Их девчонка выскочила замуж уже беременной.
– Такое случается не редко.
– А этот тип, великолепный Жан-Пьер! Я слышала, он разгульный парень. Неужели ты допустишь, чтобы твоя дочь вела себя как деревенская девка и тоже выскочила замуж… э-э-э… в интересном положении?
– Ты слишком нервничаешь, Клод. Я прослежу, чтобы Женевьева не делала ничего предосудительного, но при чем здесь мадемуазель Лосон?
– Она способствует этой дружбе, водит Женевьеву к Бастидам. Она их лучший друг. Чего же больше? Это она познакомила с ними Женевьеву, вот почему должна уехать.
– Уехать? – переспросил граф. – Но она еще не закончила работу. Более того, она говорила мне о настенных росписях.
Клод подошла к графу совсем близко и подняла на него свои прекрасные голубые глаза.
– Лотер, – сказала она, – пожалуйста, послушай меня. Я думаю о Женевьеве.
Он посмотрел на меня поверх ее головы.
– Вы молчите, мадемуазель Лосон.
– Мне будет жаль бросить картины незаконченными.
– Об этом нечего и думать.
– Ты хочешь сказать… Ты на ее стороне? – спросила Клод.
– Я не понимаю, какую пользу принесет Женевьеве отъезд мадемуазель Лосон. Картинам же он нанесет ущерб.
Она отступила от него на шаг. Я думала, Клод ударит его, но вместо этого она посмотрела так, будто сейчас разрыдается, и, повернувшись, выбежала из комнаты.
– Она на вас очень рассердилась, – сказала я.
– На меня? А я думал, на вас.
– На нас обоих.
– Женевьева опять плохо себя ведет.
– Боюсь, да. Из-за того, что ей запретили ходить к Бастидам.
– Вы водили ее к ним?
– Да.
– Вы полагаете, это благоразумно?
– Я так думала. Ей не хватало общения с детьми, а в ее возрасте надо иметь друзей. У нее нет ни одного друга, поэтому она такая неуправляемая и… неуравновешенная.
– Значит, это была ваша мысль, познакомить ее с Бастидами?
– Да. У Бастидов ей было очень хорошо.
– И вам тоже?
– Они мне нравятся.
– У Жан-Пьера репутация… галантного кавалера.
– У кого здесь другая репутация? Галантных кавалеров во Франции не меньше, чем виноградин на полях. – (На мгновение я потеряла осторожность: хотела выяснить отношение графа ко мне… и сравнить с чувствами, которые он питал к Клод). – Может быть, мне и впрямь лучше уехать. Я могу собрать вещи, скажем… через две недели. Думаю, к тому времени я смогу закончить начатые картины. Это удовлетворит госпожу де ла Таль, и, поскольку вряд ли Женевьева станет ездить к Бастидам одна, все устроится очень удачно.
– Всем не угодишь, мадемуазель Лосон.
Я рассмеялась, и он засмеялся вместе со мной.
– Пожалуйста, – сказал он, – не упоминайте больше об отъезде.
– Но госпожа де ла Таль…
– Предоставьте ее мне.
Он посмотрел на меня, и на мгновение мне показалось, что с его лица упала маска невозмутимости. Он как будто хотел сказать, что терять меня ему хотелось не больше, чем мне уехать от него.
Когда я в следующий раз увидела Женевьеву, ее губы были сердито поджаты.
Она выпалила, что ненавидит всех… целый свет. Особенно – женщину, которая называет себя тетей Клод.
– Она снова запретила мне ходить к Бастидам, мисс. И на этот раз папа был на ее стороне. Он сказал, что я не должна навещать их без его разрешения. А это значит, что я больше не увижу их… потому что он никогда не разрешит.
– Может быть, разрешит. Если…
– Нет. Она не хочет, чтобы он мне это разрешил, а он выполняет все ее желания. Она – единственная, кого он слушает.
– Уверена, что не всегда.
– Вы ничего не понимаете, мисс. Иногда я думаю, что вы способны только говорить по-английски да быть гувернанткой.
– Это уже немало. Прежде чем учить других, гувернантки сами должны многое узнать.
– Не пытайтесь переменить тему, мисс. Говорю вам, я ненавижу всех, кто живет в этом доме. Когда-нибудь я убегу.
Через несколько дней я встретила Жан-Пьера. Я ехала по виноградникам одна: Женевьева теперь меня избегала.
– Какой виноград! – воскликнул он. – Ну, когда еще ты видела что-нибудь подобное? В этом году у нас будет настоящее вино Шато-Гайара. Если ничего не случится, – прибавил он поспешно, словно хотел задобрить какое-то неведомое божество, которое могло подслушать его бахвальство и наказать за самоуверенность. – На моей памяти было только одно такое же урожайное лето (выражение его лица внезапно изменилось). Возможно, я не увижу сбор винограда.
– Что?!
– Пока ничего не ясно. Его Светлость ищет надежных парней, чтобы отослать на виноградники в Мермоз, а я, мне намекнули, как раз отношусь к их числу.
– Уехать из Гайара? Но каким образом?..
– Очень простым – переселившись в Мермоз.
– Это невозможно.
– Человек предполагает, а Бог и граф располагают. – Он вдруг разозлился. – Дэлис, неужели ты не видишь, что граф не считается с нами? Мы пешки в его игре. Предположим, здесь я мешаю… Меня тут же передвигают на другую клетку шахматной доски. В Гайаре я опасен… для Его Светлости.
– Опасен? Но чем?
– Жалкая пешка может угрожать королю шахом. Эндшпильная ситуация. Казалось бы, как мы можем нарушить покой великих мира сего? А вот потревожь их на минуту, и тебя быстро уберут. Понимаешь?
– Граф был очень добр к Габриелле. Устроил их с Жаком в Сен-Вальене.
– Как же, очень добр! – хмыкнул Жан-Пьер.
– Какие у него могут быть причины, чтобы пытаться от тебя избавиться?
– Разные. Например, то, что вы с Женевьевой ходите к нам в гости.
– По этой причине госпожа де ла Таль хотела меня уволить. Жаловалась графу.
– А он не захотел об этом и слышать?
– Да, ведь картины еще не отреставрированы.
– И ты думаешь, это все? Дэлис, будь осторожна. Он опасный человек.
– Что ты имеешь в виду?
– Женщин, как известно, притягивает опасность. Его жена, бедняжка, была очень несчастна. Она мешалась у него под ногами, и вот, ее не стало.
– Жан-Пьер, что ты пытаешься мне внушить?
– Что тебе нужно быть осторожной. Очень осторожной. – Он наклонился и поцеловал мне руку. – Это важно для меня.
10
Атмосфера в замке накалялась. Женевьева замкнулась, и я не знала, что у нее на уме. Клод злилась: ее унизил отказ графа исполнить ее каприз, и я чувствовала, что она затаила на меня обиду. В том, что граф встал на мою защиту, она усмотрела некое знамение. Впрочем, я тоже.
Филипп чувствовал себя неловко. Перепуганный, он тайком пробрался ко мне в галерею, и я подумала, что жену он боится не меньше, чем графа.
– Я слышал, у вас произошла размолвка… с моей женой. Мне жаль. Разумеется, я не желаю вашего отъезда, мадемуазель Лосон, но в этом доме… – Он развел руками.
– Я считаю, что должна довести работу до конца.
– И скоро это произойдет?
– Еще многое нужно сделать.
– Когда вы закончите работу, можете рассчитывать на мою помощь. Все, что в моих силах… А если решите уехать раньше, я, возможно, смогу найти вам другое место.
– Буду иметь в виду.
Филипп уныло поплелся к себе, и я подумала: «Он не создан для борьбы, у него нет характера. Может быть, поэтому он здесь».
Между ним и графом существовало довольно странное сходство. Оно заключалось в общих речевых интонациях и чертах внешности, но насколько один был ярок и уверен в себе, настолько другой был тих и незаметен. Филипп, видимо, всю жизнь зависел от богатых и влиятельных родственников. Возможно, именно это сделало его таким робким, заставило заискивать перед всеми. Сначала он симпатизировал мне, а теперь просил уехать, лишь бы избежать домашних неурядиц.
Может быть, он прав и мне следует уехать, как только отреставрирую начатую картину. Если я останусь, не будет ничего хорошего. Чувства, разбуженные во мне графом, станут глубже, а боль от неизбежного расставания – сильнее.
Я понимала необходимость отъезда, но в глубине души решила не уезжать и даже принялась за поиски стенных росписей, которые могли быть скрыты слоем побелки. В случае удачи я бы снова погрузилась в работу и забыла о страстях, кипевших вокруг. В то же время, у меня появился бы благовидный предлог для того, чтобы остаться в замке.
Особенно меня интересовала небольшая комната, смежная с оружейной галереей. Комната эта находилась с северной стороны замка, из окна открывался великолепный вид: пологие склоны виноградников и вьющаяся между ними парижская дорога.
Я помнила, как разволновался отец при виде стены, очень похожей на одну из стен этой комнаты. Он тогда сказал, что во многих английских особняках настенные росписи скрыты под слоем извести: когда фрески портились или просто переставали нравиться, их забеливали.
Снимать наслоения извести – тонкая работа. Я видела, как это делал отец, даже помогала ему: у меня были способности к занятиям такого рода. Вот и теперь унаследованное от отца чутье самым непостижимым образом привело меня к этой стене, и я была готова поклясться, что под побелкой что-то есть.
Я работала мастихином. Лезвие ножа еле касалось стены, и мне никак не удавалось пробиться сквозь верхний слой извести. Прибегнуть к более радикальному методу я не могла: одно неосторожное движение способно погубить ценное изображение.
Так прошло полтора часа. За это время ничто не подтвердило справедливости моего предположения. Я устала, продолжать работу не имело смысла.
На следующий день мне повезло. Я отслоила небольшой кусочек извести – всего в одну шестнадцатую дюйма, но зато окончательно уверилась в том, что на стене написана картина.
Поиски фресок оказались лучшим, что я могла сделать, чтобы отвлечься от растущей напряженности в отношениях между обитателями замка.
Я расчищала стену. Вдруг из коридора донесся голос Женевьевы.
– Мисс! – позвала она. – Где вы?
– Я здесь, – ответила я.
Девочка вбежала ко мне. Она была в смятении.
– Мисс, из Карефура сообщили, что дедушке хуже. Он спрашивает меня. Пойдемте вместе.
– Твой отец…
– Его нет в замке. Катается верхом… с ней. Пожалуйста, мисс, пойдемте, а то мне придется поехать с конюхом.
Я встала. Сказала, что переоденусь и через десять минут буду ждать ее на конюшне.
– Не задерживайтесь, – умоляла она.
По дороге в Карефур Женевьева молчала. Дом Франсуазы отпугивал и в то же время манил ее.
В вестибюле старого дома нас ждала госпожа Лабис.
– Хорошо, что вы приехали, мадемуазель, – сказала она.
– Ему хуже?
– С ним опять случился удар. Морис пошел звать его к завтраку и увидел его лежащим на полу. Когда ушел доктор, я послала за мадемуазель Женевьевой.
– Он… умирает? – глухо спросила Женевьева.
– Мы не знаем. Он еще жив, но очень плох.
– К нему сейчас можно?
– Пожалуйста.
– Пойдемте со мной, – позвала меня Женевьева.
Мы вошли в уже знакомую мне комнату. Старик лежал на тюфяке. Госпожа Лабис попыталась устроить его поудобнее. Накинула на больного одеяло, поставила в комнате небольшой стол и стулья. На полу даже лежал ковер, но голые стены, распятие и скамейка для моления по-прежнему придавали комнате вид монастырской кельи.
Старик лежал, откинувшись на подушки. Зрелище было не из приятных. Глаза запали, нос заострился; несчастный напоминал большую хищную птицу.
– Пришла мадемуазель Женевьева, сударь, – негромко доложила госпожа Лабис.
На его лице мелькнуло осмысленное выражение. Он шевельнул губами и с трудом произнес:
– Внучка…
– Да, дедушка. Я здесь.
Он кивнул ей и перевел взгляд на меня. Видел он только правым глазом. Левый глаз после удара уже не двигался.
– Иди сюда, – позвал старик. Женевьева пододвинула свой стул к постели, но больной смотрел на меня.
– Он имеет в виду вас, мисс, – прошептала Женевьева, и мы поменялись с ней местами. Старик, казалось, остался доволен.
– Франсуаза, – произнес он, и я поняла, что он принял меня за мать Женевьевы.
– Все хорошо, не волнуйтесь, – сказала я.
– Не… – Он говорил невнятно. – Осторожно. Следи…
– Да, да, – мягко отвечала я.
– Не надо было выходить замуж… за этого человека. Знай, это была… ошибка…
– Все в порядке. – Я пыталась его успокоить.
Вдруг лицо старика исказилось.
– Ты должна… Он должен…
– О, мисс, – взмолилась Женевьева, – мне этого не вынести. Он бредит, не узнает меня. Мне обязательно сидеть здесь?
Я покачала головой, и она выскочила из комнаты, оставив меня наедине с умирающим. Он заметил ее исчезновение и, как мне показалось, обрадовался.
– Франсуаза… Держись от него подальше… Не позволяй ему…
Слова давались ему с трудом, но он изо всех сил старался мне что-то сказать. Я же изо всех сил пыталась разобрать его невнятную речь. Он говорил о графе, и я чувствовала, что, может быть, в этой самой комнате узнаю тайну смерти Франсуазы. А больше всего на свете мне хотелось доказать, что ее муж не имел никакого отношения к ее гибели.
– Почему? – спросила я. – Почему надо держаться от него подальше?
– Грех… грех… – стонал он.
– Вам нельзя волноваться, – уговаривала я.
– Возвращайся домой… Уходи из замка… Там тебя ждут только беды… и смерть.
Разговор утомил его. Он закрыл глаза. Я испугалась, что он умрет, так ничего и не сказав, но вскоре он опять посмотрел на меня.
– Онорина, какая ты красивая!.. Наша дочь… Что с ней станет? Грех… грех…
Окончательно обессилев, он упал на подушки. Я подумала, что он умирает, и пошла к двери, чтобы позвать Мориса.
– Осталось совсем немного времени, – сказал тот.
Госпожа Лабис взглянула на меня и кивнула.
– Мадемуазель Женевьеве следует присутствовать.
– Я приведу ее, – пообещала я, ухватившись за возможность выйти из комнаты умирающего.
В коридоре стоял полумрак, повсюду чувствовалась смерть, я слышала ее дыхание. Но это было не все. Дом, в котором смех считался непростительным грехом, походил на темный подвал, куда не проникает ни лучика света. Как бедная Франсуаза могла быть счастлива в таком доме? Представляю, как она радовалась переезду в замок!
Я подошла к какой-то лестнице и посмотрела наверх.
– Женевьева, – тихо позвала я.
Нет ответа.
На лестничной площадке было окно, но плотные занавески, висевшие на нем, не пропускали света. Я отодвинула их и выглянула в заросший сад, потом тщетно попыталась открыть окно. Видимо, его не открывали много лет. Я надеялась увидеть Женевьеву и помахать ей, но в саду ее не оказалось.
Я снова позвала ее. По-прежнему, никакого ответа. Тогда я стала подниматься по лестнице.
Кругом – ни звука. У меня мелькнула мысль: уж не прячется ли Женевьева в какой-нибудь дальней комнате, не желая присутствовать при смерти деда? Это очень на нее похоже, убежать от того, что кажется невыносимым. В этом причина всех ее бед.
– Женевьева! Где ты? – позвала я и открыла какую-то дверь. Это была спальня – с такими же, как на лестнице, плотными занавесками на окнах. Я вышла оттуда и открыла дверь в следующую комнату. Было видно, что в этой части дома давно никто не жил.
Лестница вела еще выше. Я подумала, что на верхнем этаже, как обычно находится детская.
Внизу умирал старик, а я размышляла о детстве Франсуазы, о ее тетрадях, которые по одной выпрашивала у Нуну. Мне пришло в голову, что Женевьева, вероятно, много раз слушала истории о детских годах матери, проведенных в Карефуре. Если бы она захотела спрятаться, то где же, как не в детской?
Я была уверена, что найду ее наверху.
– Женевьева, – позвала я уже громче. – Ты наверху?
Никакого ответа, только слабый отзвук моего собственного голоса. Если Женевьева в детской, то ничем не выдает себя.
Я открыла дверь и заглянула в небольшую комнату, но с высоким потолком. Тюфяк на полу, стол, стул, скамья для молений в дальнем углу и распятие на стене. По обстановке комната ничем не отличалась от кельи старика, с одной лишь разницей – единственное окно высоко под потолком было зарешечено, и само помещение напоминало тюремную камеру. Инстинктивно я почувствовала, что моя догадка была недалека от истины.
Я уже хотела закрыть дверь и скорее уйти, но любопытство взяло верх. Я вошла в комнату. Что это за дом? Монастырь или тюрьма? Дедушка Женевьевы жалел, что не стал монахом, подтверждение тому – содержимое сундука: видимо, он очень дорожил монашеским платьем. О том же я прочитала в первой тетрадке Франсуазы. А плеть? Бичевал он себя… или истязал жену с дочерью?
Интересно, чья это комната? Человек, живший в ней, каждое утро, просыпаясь, видел решетку на окне, унылые стены, аскетичную обстановку.
Делалось ли это по его – или ее – собственному желанию? Или…
Я заметила, что на крашеной стене что-то нацарапано. Я присмотрелась и прочитала: «Узница Онорина».
Итак, я не ошиблась. Странная комната служила тюрьмой. Эту женщину держали здесь против ее воли – как тех людей, которых запирали в подземелье замка.
На лестнице послышались неторопливые шаги. Я замерла. Шаги принадлежали Женевьеве.
Человек остановился по ту сторону двери, я ясно слышала его дыхание. Рванувшись к двери, я распахнула ее.
На меня широко раскрытыми глазами смотрела женщина.
– Мадемуазель Лосон! – воскликнула она.
– Я искала Женевьеву, госпожа Лабис.
– Я услышала, что наверху кто-то ходит, и решила проверить… Вы нужны внизу. Кончина уже близка.
– А где Женевьева?
– Прячется где-нибудь в саду.
– Ее можно понять, – сказала я. – Дети не любят видеть смерть. Я думала найти ее в детской и поднялась сюда.
– Детская на нижнем этаже.
– А это?.. – начала я.
– Здесь жила бабушка Женевьевы.
Я подняла глаза на зарешеченное окно.
– Я присматривала за ней перед ее смертью, – сказала госпожа Лабис.
– Она болела?
Госпожа Лабис холодно кивнула, указывая на неуместность моего любопытства. Она умела хранить тайны, тем более что за молчание ей платили.
– Мадемуазель Женевьевы здесь не могло быть, – сказала она и, повернувшись, вышла из комнаты. Мне оставалось лишь последовать за ней.
Госпожа Лабис оказалась права. Женевьева пряталась в саду и вернулась в дом только тогда, когда все было кончено.
Хоронили старика всей семьей. Потом рассказывали, что похороны прошли со всей торжественностью, принятой в подобных случаях. Я осталась в замке. Нуну тоже. Она сослалась на мигрень и сказала, что будет лежать в постели. Я подумала, что похороны просто вызвали бы у нее слишком мучительные воспоминания.
Женевьева, граф, Филипп и Клод отправились в Карефур в экипаже. Когда они уехали, я пошла к Нуну. И как я и ожидала, она была на ногах. Я спросила, не могли бы мы немного поболтать, и она охотно согласилась. Я сварила кофе, и мы устроились поудобнее.
Разговоры о минувших днях, о жизни в Карефуре привлекали и одновременно пугали ее. Она то избегала их, то заводила сама.
– Женевьеве не хотелось идти на похороны, – сказала я.
Нуну покачала головой.
– Увы, ее присутствие необходимо.
– Это ее долг, она уже не ребенок. Как вы думаете, какой она будет, когда вырастет? Не такой вспыльчивой? Станет спокойнее?
– Она и так спокойная.
Нуну кривила душой, и я с упреком посмотрела на нее. Она грустно улыбнулась. Я хотела сказать ей, что, если мы будем обманывать друг друга, то ничего не добьемся.
– Последний раз я видела в Карефуре комнату ее бабушки. Очень странная комната. Похожа на тюрьму. И как раз тюрьмой она ее и считала.
– Откуда вам знать?
– Она так сказала.
Глаза Нуну округлились от ужаса.
– Она сказала вам?.. Сейчас?!
Я покачала головой.
– Нет, если вы подумали, что она встала из могилы, то это не так. Она написала на стене, что была узницей. Я видела надпись. «Узница Онорина». Она и в самом деле была узницей? Вы должны знать, вы там жили.
– Она болела. У нее был постельный режим.
– Странно, что комнату для инвалида устроили на самом верхнем этаже дома. Слугам, наверно, пришлось попотеть… когда они ее туда заносили.
– Какая вы практичная, мисс. Обо всем подумали.
– Полагаю, слуги об этом тоже подумали. Но почему она считала себя узницей? Ей запрещали выходить?
– Она болела.
– Больные – не узники. Нуну, объясните мне. Я чувствую, что это важно… возможно, для Женевьевы.
– Интересно, какое значение это имеет для Женевьевы? К чему вы клоните, мисс?
– Говорят, чтобы все понять, надо все знать. Я хочу помочь Женевьеве. Хочу сделать ее счастливой. У нее не совсем обычное детство. Дом ее матери, замок… и все, что произошло потом. Это не могло не повлиять на ребенка… тем более, такого впечатлительного. Дайте мне шанс помочь ей.
– Я бы все сделала, чтобы помочь ей.
– Пожалуйста, Нуну, расскажите мне все, что знаете.
– Но я ничего не знаю… ничего!
– Франсуаза писала дневник! Вы не показали мне всех тетрадок.
– Они не предназначались для посторонних глаз.
– Нуну… другие тетради… в них более откровенные записи?
Она вздохнула, выбрала из связки ключей на поясе нужный и открыла буфет. Потом достала оттуда тетрадь и протянула ее мне. Я заметила, где она ее взяла. В стопке оставалась еще одна тетрадь – последняя, и я надеялась, что Нуну даст мне обе.
Но вторая тетрадь осталась лежать в буфете.
– Возьмите к себе в комнату, – сказала она. – Вернете, как только прочитаете. Обещайте, что больше никому не покажете.
Я пообещала.
Тон дневника изменился, теперь это были записи женщины, смертельно боявшейся своего мужа. За чтением меня не покидало ощущение того, что я роюсь в душе и мыслях покойницы. Но ее чувства и мысли непосредственно касались графа. Что бы он обо мне подумал, если бы узнал, чем я занимаюсь?
Но я не оставляла чтение. С каждым новым днем, проведенным в замке, правда становилась для меня все важнее.
«Сегодня ночью, лежа в кровати, я молилась, чтобы он не пришел. Один раз мне показалось, что я слышу его шаги, но это была Нуну. Она все понимает. Бродит у моей спальни… и молится за меня. Я боюсь его. Он это видит и не может понять, в чем дело. Другие женщины от него без ума. А я боюсь».
«Навещала папу. Он смотрит на меня так, будто хочет прочитать мои мысли, проследить за каждым мгновением моей жизни… Но это не все. «Как твой муж?» – спрашивает он. Я заикаюсь и краснею, потому что знаю, о чем он думает. Папа сказал: «Я слышал, у него есть другие женщины», а я ничего не ответила. Кажется, папа даже радуется слухам. «Дьявол позаботится о нем, потому что Бог заботиться о нем не станет», – сказал он, но вид у него был довольный, и я знаю, почему. Пусть будет все, что угодно, лишь бы эта грязь не коснулась меня».
«Нуну места себе не находит, она очень тревожится. Я боюсь приближения ночи, и мне трудно заснуть. Иногда я резко просыпаюсь, мне кажется, что кто-то зашел в комнату. У нас чудовищный брак. Стать бы снова маленькой девочкой и играть в детской! Но самое лучшее время было до тех пор, пока папа не показал мне свой драгоценный сундук… и пока не умерла мама. Если бы я могла остаться ребенком! Но тогда у меня, конечно, не было бы Женевьевы».
«Сегодня Женевьева впала в настоящую ярость. Она немного простужена, и Нуну велела ей сидеть дома. Тогда она заперла старушку в комнате, и та терпеливо ждала, когда я спохвачусь. Она не хотела выдавать Женевьеву. Мы стали бранить Женевьеву и пришли в ужас от ее буйства. С ней нет никакого сладу. Нуну очень расстроилась, а я сказала, что Женевьева похожа на свою бабушку».
«Нуну сказала: «Франсуаза, дорогая, больше никогда так не говори. Никогда, никогда». Она имела в виду мои слова о том, что Женевьева похожа на свою бабушку».
«Сегодня ночью я проснулась от страха. Мне снилось, что пришел Лотер. Накануне днем я видела папу, и, возможно, вернулась от него напуганной больше обычного. Лотера в комнате не было. Зачем ему приходить? Он знает, что мне невыносима сама мысль о его приходе. Он больше не пытается переубедить меня, потому что я ему безразлична. Уверена, он бы с радостью отделался от меня. Вот и во сне я не ждала от него пощады. Это был страшный сон. Заглянула Нуну. Сказала, что еще не успела заснуть и услышала, как я ворочаюсь с боку на бок. Я призналась: «Я не могу спать, Нуну. Я боюсь», и она дала мне настойку опиума, которую принимает от головной боли. Нуну говорит, что опиум успокаивает нервы и человек засыпает. Я выпила настойку и заснула, а наутро все показалось просто ночным кошмаром… не более того. Лотер никогда не станет домогаться меня. Ему это не нужно. У него есть другие».
«Я сказала Нуну, что иногда у меня невыносимо болят зубы, и она дала мне опиума. Меня успокаивает мысль, что теперь каждую ночь у меня под рукой будет флакон со спасительной настойкой».
«Сегодня мне в голову пришла неожиданная мысль. Она невероятна, но может оказаться правдой. Хотела бы я знать… Боюсь ли я? И да, и нет. Пока я никому об этом не скажу… в том числе и папе. Он ужаснется. Ему отвратительно все, что с этим связано. Странно, ведь он мой отец. Значит, он не всегда так думал. Я не скажу Лотеру… пока это не станет необходимо. Не скажу даже Нуну. Во всяком случае, не сейчас. Рано или поздно она сама все поймет. Пока я подожду. Посмотрю, не ошиблась ли я».
«Сегодня утром Женевьева прибежала немного позже обычного. Проспала. Я боялась, что с ней что-нибудь случилось. Она с порога бросилась в мои объятия и разрыдалась. Я еле ее успокоила. Доченька, с какой радостью я бы тебе все сказала, но не теперь… Нет, не теперь».
На этом записи обрывались, а я так и не узнала то, что хотела. Выяснила я лишь одно: самая важная тетрадь – последняя. Та, которую я видела у Нуну в буфете. Почему она мне ее не дала?
Я вернулась к ней. Она с закрытыми глазами лежала на кушетке.
– Нуну, что она скрывала? – спросила я. – Что это значило? Чего она боялась?
Вместо ответа я услышала:
– У меня раскалывается голова. Вы не представляете, как я страдаю от этих приступов.
– Извините. Я могу чем-нибудь помочь?
– Нет… в таких случаях помогает только полный покой.
– Осталась последняя тетрадь, – не сдавалась я. – Записи, сделанные ею перед смертью. Возможно, ответ там…
– Там ничего нет, – сказала она. – Задерните шторы. Мне мешает свет.








