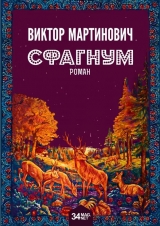
Текст книги "Сфагнум"
Автор книги: Виктор Мартинович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Кабан надолго задумался. Сюжет с убийством занимал его все больше. Он раскраснелся и начал полностью вживаться в роль преступника. Ночь, карканье ворон, лунный свет, кровь – все это захватывало его.
– Выхухолев, я понял!
– Что ты понял?
– Верни ту старую бумагу, что мы печатали.
Милиционер с радостью обнаружил, что не успел удалить документ. Кабан увлеченно продолжил:
– Короче, мы решили продолжить возлияния или как там, развивать наш сабантуй, пошли в магаз, а он – закрыт. А когда магаз закрыт – что есть деньги, что нет – один хер. Катьку же не добудишься.
– Молодец, – оценил находчивость алкоголика Выхухолева. – Складно.
– В общем, решили мы проникнуть внутрь, что и сделали.
– Так.
– Ну а там я его и порешил.
– То есть, вы пили внутри магазина?
– Да, внутрях.
– И сколько выпили?
Кабан прикинул, сколько он бы мог выпить, и ему стало очень приятно.
– Напиши так: по бутылке водки и потом еще пивом шлифанулись.
– А не много вам? – уточнил вдохновленно клацающий по клавишам милиционер.
– Не много. Когда есть – не много. Напиши: по бутылке водки и еще две бутылки пива сверху. «Аливария», темное. Нет, напиши одну темного, одну светлого, эх! – Кабан мечтательно замолчал.
– А за что ты его прибил?
– Ну как за что? Бутылка водки, две бутылки пива – и это на старые дрожжи. Ну ты спросил. Тут любой убил бы. За это даже наказывать не должны.
– Значит я пишу: «Находясь в состоянии алкогольного психоза, я напал на собутыльника и убил его. В чем чистосердечно раскаиваюсь».
– Вот-вот. Особенно подчеркни, что очень раскаиваюсь. Мне раскаяния не жалко.
– Ты теперь одно скажи: где ты пушку взял?
– Какую пушку?
– Ты человека из пистолета убил, Кабан.
– Из какого пистолета?
– Предположительно, «ТТ».
Кабан осекся. Пистолета в его сценарии не было. Более того, заряженного оружия он побаивался.
– Выхухолев, а нельзя без пистолета?
– Ну как, в трупе отверстия пулевые, как без пистолета? Ты объясни?
Кабан снова надолго задумался.
– Не, ну где я тебе пушку найду, Выхухолев?
– Не знаю, думай. Могу тебя в камеру определить, чтобы думалось лучше.
– Не надо в камеру.
Кабан думал. За окном чирикали воробьи. Мысли почему-то упорно сворачивали на то, у кого можно стрельнуть денег, чтобы похмелиться.
– Выхухолев, ты мне не долганешь на опохмел? – спросил он у милиционера.
– Тебе выйти отсюда сначала надо.
– А после признания этого, как напишем?
– Долгану, черт с тобой. Долгану за то, что органам помог.
После того, как перспектива избавиться от абстинентной дрожи стала вполне реальной, Кабану начало думаться лучше.
– Слушай, ты напиши, что я у него пушку взял. Что она у него была. Что он такой весь бандит, прям с пушкой ходил.
– Хорошо, – согласился допрашивающий, – это действительно решает ребус. Молодец. Совсем ничего осталось. Давай я только напишу, что ты его из магазина вывел перед тем, как шмальнуть. И не помнишь, где точно стрелял.
– А почему так?
– Потому что в магазине пули не нашли и порохового следа какого-то, там наши «эксперты» эти понаписывали в заключении.
– Ладно, валяй, – Кабан сел поудобней, ощущая себя то ли Оскаром Уальдом, то ли Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом – словом, всеми теми писателями, книги которых он прочел, прежде чем пропить.
– А что потом сделал с пистолетом?
– А что я с ним должен был сделать?
– Где тот пистолет, из которого ты по этому хмырю выстрелил?
– Ну ясно. После такого дела выкинуть пистолет надо. Избавиться.
– А где ты его выкинул?
Разыгравшееся воображение Кабана нашло ответ на этот вопрос очень быстро:
– Ясное дело, в речку, в Докольку.
– Откуда кидал?
– С белого моста. Откуда еще пистолет можно в реку кидать?
– С какого моста?
– Выхухолев, ты как будто инопланетянин какой-то. Один у нас тут в окрестностях белый мост.
– Ясно, пишу: «Кинул в Докольку с белого моста». Вот и готово! – принтер затрещал, выпуская из себя листик с показаниями Кабана.
– Вот здесь пиши: «С моих слов написано верно». Вообще-то признания своей рукой писать надо, но из тебя такой писака, что пойдет и так.
– Э, чем тебе плохо? – Кабан восстал против такого вольного обращения со своей славой, которую уже успел ощутить в полной мере.
– Ничем, фамилию свою пиши, вот тут, дату, подпись, поразборчивей давай.
Когда подозреваемый закончил карябать по бумаге, Выхухолев придирчиво осмотрел получившееся и спрятал листик в несгораемый шкаф. Нажал на кнопку интеркома: «Андруша, зайди». Кабан, похоже, ждал аплодисментов.
– Этого в камеру и, слышь, сгоняй купи ему чернил пузырь, я тебе потом верну: помог следствию, так хай уже выпьет.
– Ну вы демократ, – присвистнул Андруша и, обращаясь к Кабану: встать, лицом к стене, руки сзади, замком.
– Э, я не понял! – крикнул Кабан. – Я не понял, начальник! Ты ж отпустить обещал!
– Как же я тебя отпущу, Кабан? Ты же сам только что сознался в совершении тяжкого преступления.
– Так это ж чистосердечное было! Чтоб выпустили! Ты ж сказал, что выпустят! Я ж не делал ничего!
– Твою вину в полной мере установит суд, – обрубил он и распорядился, обращаясь к сержанту, – уводи его, уводи. Тот заломал застегнутые в наручники ладони подозревамого и повел его прочь из кабинета.
Оставшись один, Выхухолев некоторое время слушал чириканье воробьев за окном: он устал, день выдался непростой. Но перед уходом нужно было не забыть, да-да, не забыть.
Он взял чистый лист и написал от руки:
«Утром не заб. переделать прот. первичного осмотра, дописка: «При осмотре мной обнаружены две пустых бутылки водки на прилавке рядом с кассовым аппаратом, четыре пустых бутылки пива на полке с сухими сыпучими смесями. Позв. в отдел – переделали инкассу, с баланса списали две водки, четыре пива, чтоб сходилось».
Отложил листик. Задумался. На душе было погано, но на его душе было погано настолько давно, что он успел забыть происхождение этого чувства и просто жил с ним. Можно было открыть «шарики» и поиграть в компьютер до позднего вечера, а потом пойти домой и лечь спать. Можно было посмотреть телевизор. Можно было выпить, в конце концов. Еще были кроссворды и тот обрыв, на который он иногда приходил смотреть на луг. Воробьи, в конце концов, были. Лето. Лето лучше, чем зима. Можно жить.
Глава 6
– Давай со стороны огородчика ставни откроем, а с улицы трогать не будем, – Шульга по-хозяйски ходил вокруг избы, утопающей в лопухах, диком винограде и молодом орешнике. Когда-то дом был хорош, с красной жестяной крышей, с бетонным фундаментом, из огромных бревен цвета шляпки боровика: даже забор, несмотря на царящее вокруг запустение, не покосился, был сделан когда-то на совесть.
– Здесь клубника знаешь какая раньше была? – Шульга преобразился и выглядел теперь не как начинающий мазурик с неясным прошлым и еще менее ясным будущим, а как молодой хозяин, человек земли, душа-парень. За ним семенил Хомяк, который, несмотря на соломенные волосы и лицо, напоминающее картофелину, на крестьянина никак не походил. – Баба нас с этого огородчика крапивой гоняла. А ягоды вот такие, здоровые, сладкие, сахаром их засыплешь, примнешь, а сверху сметаны. Кто тех ягод не ел, тот жизни не видел, Хомяк. А сейчас, видишь, растения остались, а не плодоносят, сорняк заел.
– Может, лучше в хлев жить пойдем? – беспокоился Хомяк.
– Там точно никто не запасет. Безопасней.
– Что мы, скот, в хлеву жить? Там шмон знаешь какой? Хотя сеновал это круто, – улыбнулся Шульга каким-то своим воспоминаниям.
– Спалимся, Шульга, – нервничал Хомяк.
– Не спалимся. Сейчас лето, печь растапливать не надо, готовить, если что, будем на газу. Если, конечно, баллон не спиздили. Но мы его когда-то на замок закрыли, не должны.
– Стремно как-то. В розыске, а вписываемся на виду.
– Хомяк, ты погляди по сторонам, много ты людей тут видишь?
– Не, только тот зомби, которого мы возле кладбища чуть не сбили. Рядом с автоматной будкой.
– Это не зомби. Это Гриня. Он хороший мужчина был когда-то. Рыбачить меня учил.
– А где все?
– Вымерла деревня. Все молодые в город съехали. Из-за Чернобыля этого ебанного, что ли. Гриня Люлька вон остался, Степан, может, еще не помер, пару баб старых, если живы еще. А все остальные там, на кладбище, закопаны.
– Чего-то Серого долго нет, – нашел новую тему для беспокойства Хомяк.
– Слышь, ты расслабься, Хома. Тут не принято так егозить. Воздух вон понюхай. Нет ни в нашем Минске, ни в их Москве такого воздуха. Пойдем я тебе двор покажу.
Шульга открыл калитку, ведущую к курятнику и хлеву.
– А это что за домина? – спросил он, показывая на постройку с соломенной крышей прямо напротив курятника.
– Это стопка.
– В смысле под бухло?
– Дебил ты, под бухло. Все бы тебе бухло, Хомяк. Стопка. Тут, в этих местах, кладовых в хатах не делали, все в стопках хранили: картофель, бураки. Типа амбара что-то.
– Ты здешний?
– Ну да, это моя земля.
– Так ты колхозник, Шуля! – рассмеялся тонким блатным смехом Хомяк. – Колхозник!
– Сам ты колхозник, Хома. Я ж тебе объяснял: я в городе родился и жил, у меня батька отсюда. Это его дом, он в нем все детство. А потом в город уехал, учиться. Маму встретил мою там, в городе. Она городская была. А меня сюда на лето определяли. И то не каждое лето. В общем, если кто искать будет, дом этот последним в голову придет. Так что можно затихариться нормально.
– Чего-то Серого долго нет, – ковырнул землю носком кроссовка Хома.
– Да чего он, девушка тебе? Пойдем в дом лучше. Они направились к хате.
– Слушай, а ты подумал, как мы дом вскроем?
– Зачем его вскрывать?
Шульга подошел к дверям и показал на кованую щеколду.
– Видишь, эту штуку в кузнице выковали, тут кузница еще лет двадцать назад была: меха, горн, наковальня. Сейчас только руины. Вот эта штука называется «клямка». Видишь, в клямке отверстие – оно под замок. Когда хозяина дома нет, дверь на замок запирают. А когда хозяин недалеко уходит – в огородчик, например, или в хлев – просто клямку накладывают, не запирая. Это значит людей дозваться можно, просек?
– Ну.
– И вот когда бабуля умерла, мы клямку наложили, ставни закрыли, а на замок не запирали.
– Почему?
– Традиция тут такая. Не запирают дома умерших. Чтоб типа покойник мог в любой момент вернуться к себе. Ну и дому так лучше: он не кинут, а оставлен живыми для мертвых. Оксюморон, опять же: дозваться родных можно на Деды. Позови, и они придут. Сядут вот тут, на лавке, а ты им про свою жизнь городскую, бестолковую, блядь, жизнь, никчемную, неустроенную, расскажешь.
Шульга замолчал, и характер его молчания был таков, что даже Хомяк не стал сразу вступать с едкими комментариями. Однако, когда ему показалось, что пауза стала слишком торжественной, все-таки подколол:
– Короче, дом не закрывают, а газовый баллон – закрывают, да?
– Ну да, – со смешком отмахнулся Шульга. – Но обычно из таких оставленных хат не берут ничего. Только родственникам можно. А так – даже алкаши. – он прошел внутрь, и Хома потопал за ним.
– Нет, ну видишь, кое-что все-таки взяли. Тут вот ящик с дедовым инструментом был, вот уроды, ну то им все вернется. Тут в таких случаях говорят, что оно возвращается. Пропьешь чужое, а оно тебе потом прямо в печень – цирроз раньше времени или еще какая холера.
Шульга молча замер посреди полутемной хаты. Включил свет – выключатель нашел не сразу. Он был спрятан за висящими куртками. Их темные силуэты напоминали фигуры людей, из которых кто-то выжал всю жизнь: вот это дед, это бабуля, это тетино, наверное. Телевизора тут уже не было, но радио, стол, стулья, плита – все стояло нетронутым. Прошел на кухню, включил газ, поднес спичку – не сразу, но занялось, по одному зубцу, в половину горелки.
– Видишь. Живем. Будем чай пить, как пацаны. Хлопнула калитка.
– Кто это там? – напрягся Хомяк.
Шульга быстро метнулся к окну и прильнул к щели в ставнях.
– Отбой воздушной тревоги. Баба Люба ковыляет. Смотри, живая еще.
– Есть кто в доме? – донеслось из сеней.
– Заходи, баба Люба, – крикнул Шульга.
– Вы што за хлопцы па хаце ходите? – сначала, кажется, зашел вопрос, и только вслед за вопросом сама женщина – ее возраст сложно было определить из-за платка и румянца: кажется, лет в 70 она просто перестала стареть и только распространялась вширь, обрастая годовыми кольцами, как дерево.
– Это я, Шульга, баба Люба.
– Каки таки Шульга? Не знаю я никакога Шульги.
– Андрэеу я, – перешел Шульга на местный говор, и это пробудило в бабе Любе механизм узнавания.
– Андрэеу? Ну точна Андрэеу хлапец! Я ж тебя таким маленьким помню! А вырас как! Не пазнать! Каки высоки!
– Да ладно вам, баба Люба! Вы меня прям как будто с детства не видели.
– Дай я тябе расцалую, – женщина надвинулась на Шульгу и заключила его в объятия.
– А гэта хто? – спросила она подозрительно, кивнув на Хомяка. Надо отметить, что у большинства людей вихлястая внешность Хомяка действительно редко вызывала приступы доверительности.
– Это друг мой. Мы втроем приехали. Жить тут будем. На земле. Как отцы наши жили.
– А чаго ставни не открыли? – продолжала наседать баба Люба.
– Откроем, откроем. Руки не дошли. Да и так уютней, понимаете. Свет вовсю не бьет по глазам. Атмосфера гламурней, – показывая, что он шутит, Шульга сделал ударение на последний слог. Слова с неправильным слогом баба Люба не поняла и только махнула рукой.
– Все вам в городе не как у людей. Вой-вой-вой! У темначы ходят, свет жгут. И ты теперь гарадски стал.
– О, кстати, надо будет в следующем месяце за свет заплатить. А то обрежут, если долг накрутит, – изобразил крепкого хозяйственника Шульга. Хомяк респектабельно кивнул в ответ.
– А то гляжу – нейкия бандзиты лезут у хату. Дай думаю, гляну.
– Не, мы не бандиты, – наотрез отказался Хомяк.
– Не бандиты мы, баба Люба, – подхватил Шульга. – Мы – бывшие пионеры. Какие же из нас бандиты.
– В космос хотели полететь, когда маленькими были, – глумливо приусмехнулся Хома.
– С работой у нас действительно сейчас напряг, но мы на земле теперь, обустроимся, сеять будем, веять, хозяйство восстановим, – раздухарился Шульга. Выглядело это как генеральная репетиция любительского театра.
– Не, бабуль, ты прикинь, какие у нас варианты были? – решил развить мысль Хомяк. – Ну вот мечтали мы стать космонавтами. А потом пионерия накрылась и что? В инженеры идти? В доктора? А, бабуль?
– Профессий много всяких, мы не определились просто до конца, что нам ближе, – попытался прервать поток его рассуждений Шульга, который тонко чувствовал ту стилистическую грань, за которой базар бывшего пионера переходит в рассуждения начинающего уголовника.
– Не, ну я вот как скажу. Я бы в КГБ пошел работать. Вот это профессия, – очарованно поднял глаза к потолку Хомяк. – Ни хуя не делаешь, оппозиционеров этих гоняешь, а тебя при этом все боятся. Откаты, прокрышовочки и, главное, уважение, почет, медали, китель. Любая телка твоя. Подкатил, удостоверение показал: поехали кататься, малыха. В кабак зашел, нажрал на сотню грин, а платить не надо – свои люди, сочтемся, а будешь залупаться, коммерсант, так тебе быстро в камере петушиной объяснят, какая у нас теперь духовность.
– Я бы тоже в КГБ пошел, – согласился Шульга. – Но туда только по связям берут.
– Не, не по связям. Нужно специальный университет гэбэшный закончить. Только он секретный, и туда не попасть с улицы. Работаешь ты на автосервисе, талант у тебя есть, допустим, поломку чуять сердцем, а за тобой наблюдают. Не говорят ничего, на улице тебя пасут: наш парень или не наш. И если ты подходишь и если ты совсем уж гений, то хоба – к тебе приходит такой полковник седой и говорит, давай к нам в университет секретный. Вот тебе пропуск. И тебя на белой «Волге» везут туда, а там уже сразу малина начинается. Каждому ученику – по бабе. В общаге – кокс, травень, кури-пей, только родине служи.
– Не, Хомяк, ты гонишь. Нет никакого секретного гэбэшного университета. Просто в КГБ только если у тебя родственники в КГБ, могут взять.
– Да я тебя отвечаю, мне однажды пацан, с которым я вместе машины бомбил, рассказывал, что у него кореша вот так вот заприметили – а он был спец по замкам, давай, говорят, к нам. И он с тех пор уже ни с кем не разговаривает, друганов всех забыл, а хули, жизнь такая, что никакие друзья не нужны.
– Да гонишь ты, Хомяк, я точно знаю, туда только по родственным связям берут.
– Да ты подумай, Шульга, если бы туда только родственников брали, то как бы Путин стал чекистом? У него что, папа типа Феликс Дзержинский?
– Ладно, замяли, Хомяк. По любому нам гэбистами быть не светит. Я бы вот писателем бы стал.
– Пойду я, хлопцы, – сказала баба Люба, которой стало скучно слушать разговоры о современных профессиях.
– На хер писателем?
– Нравится мне истории рассказывать.
– А чего ты вместо писательства к Пиджаку подался? На хуй тогда вся эта история с Москвой, с братвой?
– Потому что я хотел бы таким писателем стать, который про жизнь все пишет. Вот как есть. А что мы читаем? Откроешь книгу, а там: «Ах, вы не поверите, Натали, я вас так люблю, что в моих ушах поют цимбалы!» – не про жизнь, понимаешь? Не бывает так в жизни. Потому что в жизни – ебля, говно и пиздец. А кто про жизнь, как в жизни, пишет, тех специальная писательская мафия накрывает.
– А на хуй мафии их накрывать?
– Чтобы малину не портили. Если появится поц, который все про жизнь начнет хуярить, это ж только его книги будут покупать. А все остальные пойдут коров пасти, со своими Натали. И те, кто их крышуют, пойдут. Так что ну его на хуй это писательство. Я б может в газету какую пошел – они вроде про жизнь пишут, а не выдумывают, только там еще меньше про жизнь, чем в книге. Сплошные заседания генеральной ассамблеи ООН по вопросу прививания беженцев от вируса иммунодефицита.
Дверь хлопнула, вошел Серый. Он выглядел растерянно.
– Гляди, как мы тут обустроились, – весело обратился к нему Шульга.
– Пацаны, не проканало, – потрясенно развел руками Серый.
– Как не проканало?
– Вот так не проканало, – отрезал Серый.
– А что случилось?
Серый сложил руки на груди и вроде бы даже собирался начать рассказ, но отмахнулся:
– Идем, я вам лучше покажу.
Вышли и двинулись к лесу, подступившему прямо к деревенской околице. Улица была пустынна, деревня напоминала пыльный ковбойский городок на Диком Западе после завершения большой разборки. Как будто все шерифы и ковбои давно перестреляли друг друга, и остались только пустые салуны, ничейные лошади, наряды сбежавших красавиц в будуарах; остались призраки и индейцы, молча наблюдающие с холмов. Да, еще пара-тройка стариков, которые в разборке не участвовали, потому что слишком стары, чтобы держать кольт.
– Смотри-ка, – кивнул на обочину Серый.
Там валялся старый дорожный знак, указатель с названием населенного пункта.
Троица схватилась за него и приподняла с земли, отрывая вросшие в жесть корни, стряхивая с опор траву и мох.
«БУДА», – было написано на знаке.
– Название этой деревни? – уточнил Серый.
– Именно. Старый знак, видишь, упал, а нового не поставили. Так что деревни вроде как и нет.
Вступили в лес по старой, едва различимой дороге, поросшей кочками, кустиками, папоротником. Местами она полностью терялась из виду, и тогда приятели на секунду останавливались и высматривали в свежей высокой траве неочевидные следы только что прошедшего автомобиля – тут была надломана ветка, здесь колесо сковырнуло чернозем и сыпануло на травы пригоршню неестественно желтого песка, здесь был сорван мох, и уже успела собраться черная лужа. У соснового редколесья, где дорога полностью пропала из виду, видно было несколько неровных, пропаханных колесами, пересекающихся борозд.
– Блуканул тут, разворачивался, – объяснил Серый. – Да, кстати, Шульга, есть бог такой, Будда, у чучмеков. И деревня Буда?
– Да, – отозвался Шульга.
– А чего деревню как бога назвали?
– Я откуда знаю, я, что ли, называл?
– Может, тут мусульмане жили, которые Будде поклонялись?
– Не, Серый, мусульмане не Будде поклоняются, – Шульга хотел развить мысль о том, кому поклоняются мусульмане, но ему не хватило эрудиции. – Будде в Африке поклоняются, в Китае. Ну и в Америке, наверное. – Насчет последнего Шульга был не совсем уверен, но, так как он не знал, кому в принципе поклоняются в Америке, не мог знать этого и никто из приятелей.
– А что за бог? – проявил Серый тягу к знаниям.
– Ну, он, как наш, только в Китае, в Шаолине, жил и был синий. Шаолиньский монастырь, слышал? В нем еще Брюс Ли канфу учился.
– Брюс Ли крутой, – уважительно отозвался Серый. – С нунчаками. А чего этот Будда синий был?
– Ну так бог же. Синий и много-много рук, такой. В одной сабля, в другой барабан. В общем, и поплясать мог, и в морду дать, если что.
– А что с ним потом стало? – не отставал Серый.
– Ну ясно что. Что обычно с богами случается? Распяли плохие люди.
– А учил чему? Плясать, что ли? Я такому богу бы молился, который плясать учит и трахаться.
– Не, он учил, как наш: любви, добру. Не воруй, не убивай, вся такая поповская муть.
– Шульга, я не понял, а как его распяли, если у него рук много-много? – вступил в разговор Хомяк.
– А что тебя смущает?
– Ему что, все руки к кресту прибивали?
– Не, не все. Только две.
– А почему он тогда остальными руками себя от креста не отклеил?
– Потому, что у него, Хомяк, только две руки настоящими были, – терпеливо разъяснял Шульга, придумывая на ходу.
– Все остальные руки у него были ментальными.
– Что это значит – «ментальными»? – удивился Хома.
– Ну, духовными, – Шульга сам не до конца знал, что такое «ментальная рука». – Он ими в физическом мире ничего сделать не мог.
Серый, до которого разговор доходил с некоторой задержкой, остановился, чтобы набрать в грудь больше воздуха, и зашелся своим фирменным гоготом. В километре от парней испуганно поднялся в воздух глухарь, потрясенный этим звуком. Давно в его лесу никто не производил такого шума. В 1986 году где-то тут взял звуковой барьер взлетевший из Баранович самолет-истребитель, но тогда глухарь еще не родился.
– Шульга! – выдавил Серый сквозь хохот. – Вот ты вроде умный, но такую муть сказал. «Духовная рука», ха-ха-ха!
– Смотрите, а вот здесь мы в детстве шалаш строили, – Шульга решил сменить тему, так как почувствовал, что его теория рук Будды зашла в тупик.
Тем временем лес начал чахнуть. Чем дальше они шли, тем меньше становились сосны, все кряжистей, ветвистей, как будто расстояние на стволе между ветками сокращалось. Деревья будто умирали, оставаясь живыми, и неясно, чего точно им не хватало – влаги ли, воздуха ли. Такие карликовые сосны можно увидеть в промышленных кварталах больших городов, скрюченные от тяжелых металлов, задыхающиеся, жалкие. Ели исчезли совсем, зато по сторонам пошло чахлое лиственное редколесье, стало много кустарника, ольхи и орешника, из земли поперла осока, а сама земля утратила былую твердость: нога будто проваливалась в мягкий торфяник.
– Вот я тут, как ты сказал, свернул с дороги и прямо попер, – показал Серый на брешь в кустарнике. – Думал, не пробьюсь. Оно, может, так и лучше было бы, если б не пробился. Но, видишь, проскочил, только зеркальце свернуло об этот ствол – он показал на иву, ветви которой были измочалены ударом.
Троица прошла еще несколько метров вперед, согнувшись, продралась сквозь кусты и охнула. Хомяк выдал:
– Ты ж еб твою.
Впереди огромное, как море, лежало болото: чахлые, полусгнившие березки торчали, как межевые столбы, среди кочек и кустиков клюквы и голубики. Однообразный, как тундра, ровный, безжизненный и унылый пейзаж тянулся до самого горизонта. Преобладали охристо-желтые тона, пятнами попадались вспышки красных, сиреневых соцветий – неизвестная растительность, не встреченная ни в лесу, ни на лугу.
– Пошли за мной! – позвал Серега.
– Куды? Мы ж утопнем! – вскрикнул предусмотрительный Хомяк.
– Вот я тоже так думал. Выпрыгнул сначала из тачки, как увидел этот расклад. А потом включил первую и пошел спокойненько так, без рывков, смотрю, – держит. Просто не началось пока, увидите сами, как начнется, – объяснил Серый. – Не боись, давай за мной.
Он, выбирая кочки побольше и понадежней, двинул вперед.
– Во дела, – сказал Шульга и устремился за ним. – И далеко заехал?
– Ну я думал, что она сразу тут и утонет, – кричал Серый через плечо, – а она шла, ровно довольно.
Говорить стало тяжело, так как каждый прыжок давался с определенным усилием. Приятели пыхтя поволоклись за Серым.
– Ноги намокли, – пожаловался Хомяк.
– Ты ж на болоте, – весело возразил ему Шульга. – Кайфуй, дурень!
– Паси, что делается! – крикнул Серый и высоко подпрыгнул на своей кочке. Вся поверхность вокруг пришла в движение и заколыхалась медленными волнами – причем колыхалось то, что казалось пусть не твердой, пусть торфянистой, но почвой.
– Землетрясение! – захохотал Шульга.
– Точно! – подхватил Серый. – Я Брюс Ли! Прыгаю, а вокруг земля трясется!
– Смотри ты, следа от машины вообще не осталось, – отдуваясь, крикнул Шульга. – В лесу-то колею можно было рассмотреть. Не везде, но можно. А тут вообще ровно.
– Оно поднялось – вся осока, все эти камыши, или как это называется. Как проехал, поднялось, и все, – откликнулся Серый. – Тут ногу вытаскиваешь из этой жижи, сразу остается яма с водой, видишь? А через минуту уже ничего нет, смотри, наших следов из леса не видно!
– Не видно, – всмотревшись, согласился Шульга.
– Не заблудиться бы, пацаны! – забеспокоился Хомяк.
Минут через двадцать такой прогулки троица обнаружила, что каждый шаг стал даваться сложней: нога погружалась все глубже, выскакивала из торфа с причмоком, который норовил сорвать обувь.
– О, пошло, – радостно возвестил Серый. – Сейчас уже близко!
И действительно, еще несколько десятков метров, и перед ними оказался автомобиль Daewoo, погрузившийся до середины колес, но удерживаемый от затопления осокой, кочками и еще черт знает чем. Нос машины был завален вперед, двигательный отсек подтопило, но салон был совершенно сух.
– Как ты досюда доехал, не пойму, – облокотился на машину Хомяк.
Отдышались.
– Не утопла, – заключил Шульга.
– Не утопла, – подтвердил Серый.
– Вот блядь! – ругнулся Шульга. – И почему не утопла?
– Не знаю! Твой план был! Ты и разбирайся, – рассудительно ответил Серый.
– Лучше бы в реку скинули, – заключил Хомяк, который любил в кризисных ситуациях говорить под руку гадости.
– Ну, во-первых, не лучше, – Шульга забрался на капот и попрыгал на нем. Металл прогибался под ногами, но машина все равно тонуть не хотела, – потому, что река Доколька очень неглубокая. И, если б мы тачку с моста спустили, ее бы местные жители увидели и решили бы поднять трактором. Потому что тачка в реке это пиздец.
– А тачка в болоте не пиздец? – огрызнулся Хомяк.
– Давайте все сюда, – подал руку приятелям Шульга. Те, кряхтя, залезли: машина закачалась под весом троицы, как теплоход при сильном шторме, но вниз не ушла.
– Вот, блин, волшебство, – зачарованно сказал Хомяк. – Заехали машиной в болото, а она тонуть не хочет.
– Никакого волшебства, – оборвал его Шульга. – Топи тут дальше начинаются, а тут просто очень влажный торфяник. Грязь. Большая лужа. Вот мы в ней и стали. А до топи теперь точно не добраться.
– А что если подтолкнуть? – предложил Хомяк. Было видно, что он спрашивает исключительно теоретически, сам толкать не собирается.
– Да я пробовал ее толкать, – сказал Серый. – Я, как только завяз, даже веток нарубал, под колеса подкладывал, чтобы дальше рвануть. Тут еще метров десять пройти, и она бы по крышу ушла. Видишь, какое впереди окно? Черная водица – там, может, под тридцать метров глубины. Но потом двигатель такой быр-быр-быр, пых, хуй! Вода, наверное, в цилиндры линула, или еще что. А своими силами мы ее теперь точно не сдвинем – она ж на днище сидит.
– И что делать будем? – забеспокоился Хома.
– А что делать? Тут ее оставим, – махнул рукой Шульга. – Ее ж только с вертолета увидеть можно. А вертолеты тут, Хома, поверь, давно уже не летают. Тут трактор один на весь район остался. А про вертолет и говорить нечего.
– Может, ветками закидаем? – предложил Хома и начал обдумывать, как уклониться от этой работы самому. Деревьев вокруг было мало, закидывание ветками рисковало превратиться в долгий и нудный труд.
– Не, пусть стоит. Нормально, – оборвал Шульга. – Пойдем обратно.
– Вот только где это обратно, – протянул Хомяк, однако Серый кивнул ему на их следы, уходившие в сторону от солнца. Метрах в двадцати от машины следы уже затянулись: ровным слоем стояла осока и возвышались одинаковые, как будто воспроизведенные по шаблону кочки.
– Глядите, там, кажется, дом какой-то, – прищурился Шульга.
– Не может быть! – всматриваясь в направлении, указанном приятелем, отозвался Серый.
– Ну точно дом! Гляди, дымок, видишь?
– Не, Шульга, заглючило тебя, – гоготнул Хомяк. – Не вижу я там никакого дома. Да и сам подумай, какой дом? Посреди топей?
– На спор? – запальчиво выкрикнул Шульга.
– Э, пацаны, остыньте! – Серый пихнул Шульгу кулаком в плечо. – Потонуть решили за не хуй делать? До него ж, если это вообще дом, километра два. По такому вот говну.
– Интересно ж просто.
– Когда интересно, надо телевизор смотреть. Программу «Что? Где? Когда?» – Серый взял на себя непривычную для себя роль рассудительного предводителя, которая обычно принадлежала Шульге. Роль эта ему не понравилась, и он быстро ушел в другую тему.
– Кто б мне лучше сказал, что это за комар ко мне присосался, без крыльев? – он задрал майку и обнажил плечо. – Не отдеру никак.
– Вот лось, это ж не комар, это клещ! – Шульга вернул себе обаяние старшего. – Причем ты его уже расковырял, теперь он в тебе гнить будет. Надо было постным маслом жопку ему смазать, он бы сам отлип. Он жопой дышит. Как вот Хома у нас жопой думает, клещ жопой дышит.
Возвращаться оказалось трудней, чем идти к машине: они несколько раз заблудились на совершенно ровной поверхности, располагая, казалось бы, очевидным ориентиром, – солнцем, жарившим в спину. До хаты дошли настолько уставшие, что сразу же попадали спать: спальных мест хватило на всех, только Хомяк, устроенный на старенький диван, все кряхтел и жаловался, что у других лежанки лучше. Спали бы, наверное, двое суток, если бы около полудня в хату не притопала баба Люба: в руках у нее была миска с творогом, завернутый в газету шмат сала, жбан с молоком, лук и четвертина хлеба.
– Ешце, хлопчыки, – великодушно предложила она.
Хлопчики накинулись на харчи, не умываясь, не причесываясь, урча от голода.
– Спасибо, баба Люба! Спасибо, мы б тут померли без вас, – мямлил Шульга с набитым ртом.
– Мне б тут травку падкасить вакол дома. Коса есть, – обозначила баба Люба цену вопроса.
– Подкосим, бабуля, подкосим! – радостно улыбался Серый. С огурцом в руках и торчащим изо рта зеленым луком он выглядел милягой-парнем, чем-то средним между бригадиром и агрономом.






