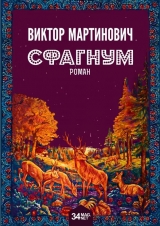
Текст книги "Сфагнум"
Автор книги: Виктор Мартинович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
– Ждем, ждем.
Показалась машина. Была она крашена в легкомысленный салатовый цвет, на бортах ясно различались буквы Rent-a-Car.
– Смотри ты, номера литовские, – заметил бдительный Хомяк. Его голос звучал спокойней. Было видно, что литовских номеров он не боится и даже готов им хамить при возможности. Машина плавно сбросила скорость и остановилась. Стекло пассажира поползло вниз. За рулем обнаружился мужчина лет около сорока пяти-пятидесяти с сединой в волосах. Мужчина также был оснащен ухоженной бородой, белая рубашка была выглажена, пожалуй, с чрезмерным тщанием для Глусского района. Было видно, что сам себе он напоминает молодого Шона Коннери и намерен придерживаться этого сравнения еще минимум пять лет, после чего может переориентировать свою внешность на стареющего Хемингуэя. Мужчина подался вперед через пассажирское сиденье и сказал с оттенком снисходительности к аборигенам:
– Здравствтвсвуйте, – его акцент был, без сомнения, французским, отсюда же и та певучесть, с которой он выдал это простое русское слово.
– Хай Гитлер, – бодро откликнулся Серый. Мужчина настроения Серого не понял и продолжил:
– Я ничего не понимаем. Я ехал сто километров и нигде увидел никакой заправки, где можно платить карточкой. Банковская карточка, Виза Голд? Вы знайте, что такое? Было непонятно, жалуется ли он на жизнь или имеет деловое предложение.
– Ты чего с людьми через дверь разговариваешь? – тоном мастера в профтехучилище спросил Серый, медленно обходя машину. – Тебе выйти западло?
– Серый, Серый, не бычи, не надо иностранцев бить, тут мигом милиция будет. И Интерпол. И МИД с гэбней. Не надо, Серый.
– А кто сказал бить? Я поговорить хочу, – весело, с хрипотцой, сказал Серый, приоткрывая дверцу машины иностранца.
Серый держал себя в руках:
– Выйди, стань, как человек.
Француз понял, что попал в социальную ситуацию, которая выходит за рамки его привычного опыта в Восточной Европе, и предпочел послушаться.
– Я этнограф, – сказал он на всякий случай выходя.
– Знаем, какой ты, блядь, этнограф, – Серый ласково взялся за дверцу машины, не давая ее закрыть. – Чего тут шпионишь? Хули тебе тут надо?
Слово «блядь» француз понял, как понял он и слово «шпион». Темп его речи изменился, стал быстрым и сбивчивым. Внезапно он стал похож на рядового просителя в поликлинике или исполкоме.
– Друзья, – сказал он быстро, почти не исковеркав это слово. – Друзья, я есть в беду. Беда превратился я. Я этнограф. Собираю материал эмпирик для диссертации докторовской. Материал, друзья. Разговариваю в деревне, много-много деревни, с вашими бабушками. Я не есть шпион, этнограф не шпион есть.
Серый слушал внимательно, как красный командир на допросе взятого в плен языка. Иностранец его раздражал, причем раздражал не из-за ухоженной внешности, не из-за лощеной машины, но – из-за того, что был иностранцем.
– Я ехал в дороге через Гудагай, Гудагай, Ошмена, Волковыск, Минск, был в Минске. Вы были в Минске, да?
– Блядь, спрашивает, были ли мы в Минске, – обратился к приятелям Серый таким тоном, будто с ним заговорила обезьяна. – Да ты знаешь, откуда мы вообще сюда? Кто мы, знаешь? Ты чего, думаешь, мы, блядь, тут на мосту живем?
Иностранец предупредительно замахал рукой, показывая, что у него нет никаких предрассудков и предубеждений, что он вовсе не думал ничего такого и вообще – дайте же ему закончить!
– Я ехал, ехал, ехал, долго, после Минск, после Осиповичи – не мог нигде заправляться. В Осиповичах одна заправка, я у них просить: «Виза Голд»? А они говорить: «Нам виза не нужна, мы местные». Говорить: «Тебе виза нужна, ты иностранец. Белорусская виза. Но мы не дадим, у нас нет». Это дико, я не могу залиться! В Литве могу залиться, тут не могу! Я почти сухой, мне нужно немного газолина, чуть-чуть, у вас девяносто второй в вашей вуатюре?
– Дядя, едьте отсюда, пожалуйста, – решил вступить в беседу Шульга, хорошо знавший Серого. – Пожалуйста. Быстро.
– Быть может, вы мне можете лить немного вашего бензина? Я заплачу. Лить, знаете? – иностранец, как мог, показал руками шланг и изобразил сосущее движение, которое, как ему показалось, символизировало создание условий для появления нужного давления для начала движения топлива из одного бака в другой. Но Серый сосущее движение понял по-другому.
– Ты кому, блядь, сосать предлагаешь? Пацаны, вы видели, он говорит «соси»? Мне говорит «соси». У него. Он не охуел?
– Серый, успокойся. Чувак без бензина почти. Просит бензина слить ему. Вот и все, – просил Шульга.
Но Серого было не унять. По его представлениям за предложение отсосать он должен был убить иностранца на месте, убивать же в планы Серого не входило, поэтому он решил избрать другую, менее опасную для иностранца, тему для разговора. Речь идет об общей истории.
– Что, немец, стрелял в моего деда во Вторую мировую? – выдохнул он почти ласково.
– Но я не служил в вермахте, – удивился француз.
– Ну-ну. Все вы не служили.
– Я этнограф.
– Все вы, блядь, кто этнограф, кто радист, блядь, кто повар. Непонятно только, кто тут деревни жег, когда все, блядь, этнографы и повары.
– Серый, Серый, – снова вступил Шульга, – ты ебнулся! Ему ведь сорок лет! Какая, на хуй, мировая? Его еще не было тогда!
– Я из Франции! Я не германец, – наконец, понял суть претензий к себе француз.
– Да один хуй! Что Франция, что немцы!
– Они не воевали против нас, французы, Серый, ты че? – попытался образумить приятеля Шульга.
– Ага, расскажи. Я, типа, блядь, тупой. Я, типа, блядь, не знаю. Они заодно были. У них этот. Как его. Муссолини был! Что, ссука, любишь своего Муссолини?
Француз молчал, Серому казалось, что молчал пристыженно, на самом же деле молчание иностранца было растерянным. Он не знал, что сказать, и ни разу в жизни не бывал в настолько тупиковой ситуации.
– Нельзя фашистом быть, понял, ссука! – почти просил того Серый. – Мы тебе бензина отольем, а ты пойдешь и деревню сожжешь! В Хатыни был, блядь? Ну, был?
Иностранец помотал головой.
– Ты едь давай в Хатынь. На хуй сворачивай своих бабуль и едь в Хатынь. Помяни! Извинись! Посмотри, что вы там натворили со своим Муссолини. И извинись! Целую деревню дотла спалили. Один дед остался в живых. И у того внука убили. И он там стоит, памятником, а на руках пацан мертвый. Иди, блядь, извинись, сука! Я там плакал, когда в пионерах был! – признание Серого прозвучало слишком сентиментально и, чтобы вернуть себе ореол мужественности, он изо всех сил шарахнул по металлу машины кулаком.
Иностранец заметно вздрогнул.
– Едь давай. В Хатынь!
Француз понял, что ему представилась возможность остаться в живых, и торопливо сел за руль.
– Смотри, блядь! В Хатынь. Если узнаю, что в Хатыни не был – найду и урою! – кричал ему в лицо Серый. Серый был страшен. – Потому, что нельзя фашистом быть, как ты! Нельзя женщин и детей стрелять, как ты, понял?
– Ну все, Серый, уймись, – успокаивал его Шульга. – Пусть себе едет в Хатынь. Отпусти. Война закончилась.
– Но, блядь, мы должны о ней помнить, ясно? Иначе будет другая война!
Шульга согласился: никто не забыт, ничто не забыто. Француз торопливо завелся, развернулся и уехал в том направлении, где, по его мнению, располагалась эта загадочная Хатынь. Больше о нем в Глусском районе никто ничего не слышал.
Глава 4
К дому Кабана подъехали почти сразу после полудня. Помимо Выхухолева, были еще сержант Андруша и два лба из РОВД, взятых на тот случай, если Кабан решит оказывать сопротивление: пусть лучше оказывает на них, они молодые, им полезно. Выхухолев предупредительно открыл перед ними калитку, запустив во двор. Одного поставил у окна и объяснил, что делать, если субъект решит сигануть через форточку. Второму наказал идти вперед, в дом: Андруша помог завязать на дурне броник.
– Каго биром? – спросил тот, и вопрос скорей касался меры жестокости, которую можно было проявлять.
– Главного подозреваемого, – лаконично разъяснил Выхухолев. – Можешь не церемониться, если что, сначала бей, потом спрашивай, что к чему.
– Гы-гы, – белозубо улыбнулся румяный страж порядка.
Хата выглядывала из бурьяна, как лошадиная кость из помойки. У входа росли огромные, в рост человека, борщевики, во дворе уже несколько лет не подкашивали былье, зато Выхухолев с удовлетворением отметил наличие тропки, проложенной в сторону туалета: подозреваемый ходит во двор, значит, не будет наложено внутри, в сенях или прямо посреди жилых комнат, как случалось порой у иных особенно тяжелых сельских алкоголиков. Утро выдалось напряженным и развивать его депрессивность отскребанием человеческого кала от служебных берцев не входило в планы Выхухолева. Забор местами повалился, выпустив бурьян Кабана на соседний участок. Рядом с домом стояла старая липа, силуэт которой искренне предлагал на ней повеситься.
– А ён там? – снова спросил лоб, которому предстояло войти в хату первым.
– А мне почем знать. Наверное, там. Дверь вон не замкнута. Где ему еще быть? Настраивайся серьезно, – предупредил его Выхухолев.
Лоб рванул на себя дверь и загрохотал ботинками внутри. В сенях споткнулся обо что-то, ругнулся вполголоса и потопал дальше.
– У вас курить есть? – спросил сержант Андруша. Он заметно волновался за коллегу.
Выхухолев не посчитал вопрос достойным ответа.
– Няма тут никога! – донеслось из дома. – Тольки бутылки пустые.
Аккуратно двинулись за ним. В сенях стояла огромная бочка с грудой окаменевшей соли: по всей видимости, некогда жилец этого дома украл много-много соли, складировал ее тут, да не накрыл толком, позабыв о протекающей крыше. У самого окошка стояла миска с прошлогодним мерзлым картофелем: не исключено, его выкопали с колхозного поля несколько дней назад. Тут же лежал качан капусты с явно различимыми следами зубов. Сразу за сенями шла пустая комната, служившая когда-то кухней, да из нее уже вытащили все то, что ее кухней делало: продана была даже плита с газовым баллоном, не говоря уже о таких ходовых вещах, как стол, стулья или занавески. Из кухни узкий коридор вел в спальню, организованную у большой крашенной в белый печи. В спальне главной достопримечательностью была кровать, она одновременно играла роль шкафа, который тоже был пропит. На кровати грудой была навалена одежда, которая все еще была во владении Кабана: зимний тулуп, три свитера грубой вязки, два женских платья давным-давно убежавшей жены, три тома из полного собрания сочинений Антона Чехова, отвертка крестиком и коловорот, явно подготовленные на продажу. Еще на кровати спала мирным сном курица, и одновременно с обнаружением курицы Выхухолев заметил, что деревянный пол равномерно закидан куриным пометом и он почти наверняка в него вступил, так что без отковыривания кала от берцев сегодня все-таки не обойтись.
– Ну и где он? – озадаченно спросил Выхухолев.
– Нидзе, – ответил милиционер, шедший первым. – Тут хаваться асоба некуды.
Погреба в хате не было, черных дверей тоже. Оказавшись перед печью, Выхухолев обратил внимание на обильно развешанных здесь на просушку карасей. Еще он обратил внимание на подпечек.
– Надо проверить подпечек, – строго распорядился он.
– Зачем его проверять, нет там никого! – горячо возразил Андруша, который испугался, что проверять подпечек отправят его.
Выхухолев заглянул в лаз, ведущий вниз: там не было видно ничего, а батареек для фонарика в отделе не было.
– У меня бабка всю зиму при немцах в подпечке пряталась. Боялась, что изнасилуют, – философски сказал Выхухолев и кивнул хлопцу в бронежилете. – Давай, ползи.
– А чаму я?
– Потому что на тебе броник. Вдруг он там с ножом, а? Давай, полез.
Милиционер пыхтя стал на четыре конечности и двинул вниз.
– Тута сажа, – жалобно подал он голос снизу.
– Не выдумывай, – оборвал его Выхухолев. – В подпечке разве что уголь складировать могли, но его не топят, он же без вентиляции, никакой сажи там нет.
Некоторое время снизу раздавалось сосредоточенное пыхтение.
– Никога! – крикнул милиционер.
– Точно?
– Да!
– Вылазь тогда давай! – распорядился Выхухолев. Он был озадачен.
Милиционер вылез действительно весь перепачканный сажей и, грохоча берцами, пошел мыться к колодцу.
– Что сейчас, товарищ майор? – спросил у него Андруша.
– Поедем брать Ваську Жабоеда, – вздохнув, ответил Выхухолев. – Он у нас тогда будет главным подозреваемым.
Они уже почти покинули хату, как курица со встревоженным квохтанием спрыгнула с кровати и, кинувшись под ноги Андруше, унеслась прочь. Обернувшись, Андруша и Выхухолев обнаружили, что тулуп, свитера, отвертка на крест и коловорот шевелятся, как будто в хате случилось землетрясение с эпицентром на кровати.
– О как, – отозвался оторопевший Андруша.
Из-под завалов тем временем восстал плюгавый Кабан собственной персоной. Он напоминал одновременно мертвеца, восставшего из могилы, и медведя, разбуженного от спячки. Его губы обилием трещин, слоев и переливов напоминали фрагмент венецианского дома, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Помимо губ запоминался его кадык, заросший клочкообразной щетиной, и прическа, как будто съехавшая с головы.
– Кабан? – на всякий случай поинтересовался Выхухолев.
– Бля, пить дайте, – ответил восставший. – Пить дайте, не могу, бля.
– Что, Кабан, опять вчера нарезался? Кабан не посчитал вопрос достойным ответа.
– Пить дайте чего, не могу, срочно пить, ну, давай пить! – с оттенком праведного гнева обратился он к двум человеческим существам, стоящим у ложа, и сцена обнаружения червей в мясе матросами «Потемкина» в одноименном фильме выглядела менее пронзительно.
– Неси воды! – распорядился Выхухолев плескавшемуся во дворе лбу.
– Не, ну серьезно, Кабан, пил вчера?
– Пил, – честно ответил Кабан.
– Ночью пил? – Выхухолев придержал консервную банку с животворной влагой, споро принесенную ему с улицы.
– Пил, – честно ответил Кабан. – И ночью тоже пил.
– А когда начал пить? – Выхухолев уже протягивал ему воду.
– Ну, как проснулся, так и начал.
– Ты вот объясни мне, Кабан, я просто не понимаю, – заговорил потрясенный Выхухолев, – вот откуда у тебя деньги на бухло? Вот я тоже, Кабан, быть может, хотел бы так: проснулся, бухнул, днем еще добавил, а ночью уж совсем смертельно закидался. Только у меня, Кабан, у меня, служащего в рядах министерства внутренних дел, у меня – не имеющего взысканий, человека, в подчинении которого – люди, в распоряжении – транспорт и средства связи, так вот, у меня, Кабан, нет денег на такой образ жизни. А у тебя, Кабан, есть. Объясни.
– Перепел, – со спокойствием античного стоика возразил ему Кабан. – Пришел ко мне перепел. И накрыл, ссука, крылом. Плохо мне, Выхухолев. Отъебался бы ты, а?
– Нет, Кабан, ты мне объясни.
– Опять пришел нотации читать про антисоциальный образ жизни?
– Нет, Кабан, на этот раз все гораздо хуже. Но ты сначала объясни.
– Да что тебе объяснить, Выхухолев?
– А то объясни! – повысил голос до крика милиционер. – То объясни! А то у меня, видишь, бойцы молодые на тебя смотрят и завидуют. И спрашивают у меня: Выхухолев, а зачем нам служить в рядах милиции, если можно вон, как Кабан – бухать напропалую? Каждый день!
– Так что тебе объяснить, не понял, – равнодушно вступил в полемику восставший.
– Откуда деньги у тебя на бухло объясни.
– Ну как. Ну вот вчера я Зинаиде прицеп дров наколол. Она мне полтос дала. А полтос это на два дня хватит, если разумно распорядиться. Мне, Выхухолев, бутылки чернил на целый день хватает: три капли выпил и, если не есть ничего, ходишь под кайфом. Только перепел от них суворый. Так что я не знаю, чего тебе объяснить. Если ты в такой сложной форме выпить просишь, то иди ты на хуй, вот что. А если по-человечески за жизнь поговорить хочешь, так мой разговор такой: осенью грибки собираю, кукурузку, продаю на рынке, хватает.
– Ворует он кукурузу, с полей колхозных, – перебил Кабана Андруша.
– Зимой рыбка сушеная, я рыбачить мастак, сушу потиху. Нет, ну если ты, Выхухолев, решил бомжевать, так я тебе за три минуты всю арифметику не выдам.
– С соседских огородов он живет и вещи жены распродает, – мрачно заключил Андруша. – Вот и вся арифметика.
– Собирайся, Кабан, поедем в участок, – подвел черту под разговором Выхухолев.
– Как в участок? – удивился Кабан.
– Так в участок.
– На каком основании?
– На таком основании.
– А где санкция прокурора? Чем мотивируете арест?
– Ты, Кабан, фильмов американских пересмотрел. Какая санкция прокурора?
– Беспределишь, начальник? – профессионально изменил интонацию Кабан.
– Ну, если ты хочешь за юриспруденцию поговорить, – спокойно и веско возразил Выхухолев, – так я готов поддержать разговор. Во-первых, я тебя не арестовываю, а задерживаю. А до выяснения никакой санкции прокурора не требуется. Во-вторых, оснований у нас более чем достаточно.
– Это каких таких оснований, – сразу оробел Кабан. Было видно, что он не очень знаком с тюремной юриспруденцией.
– Ты размахивал руками и ругался матом.
– В смысле?
– Без смысла. Свидетели, а у нас тут их трое, видели, как ты размахивал руками и ругался матом. Грубо нарушал общественный порядок.
– Так я ж дома.
– А свидетели видели тебя на улице. И это мы еще не начали говорить за то, что ты ночью натворил.
Кабан притих. События прошлой ночи вспоминались ему в весьма неясных очертаниях и путались с событиями позапрошлой ночи и всех предыдущих ночей, проведенных под сходным градусом. Кроме того, они накладывались на сновидения, которые порой носили пугающий, порой – чарующий характер, но всегда были реальны примерно в той же степени, в которой было реальным странное существование Кабана, проводимое в лихорадочном стремлении накопить на бутылку, выпить бутылку, после чего как можно скорей похмелиться новой бутылкой, потому что зависимость от плодово-ягодного вина, получаемого путем добавления некачественного спирта в брагу из полусгнивших фруктов, смешанных с дрожжами и сахаром, – страшна и по своей силе приближается к морфиновой.
– Надолго одеваться? – спросил Кабан прибито.
– Надолго. Тулуп на всякий случай возьми. Или ненадолго. Все от тебя зависит, – ответил ему Выхухолев.
Его несколько смутило, что Кабан сдался так легко: он ожидал мордобоя, погони – всего того, что потом дало бы моральное право на жесткий допрос. «Курицу не замкните», – распорядился он на улице. Ему было жалко курицы.
Глава 5
Глусский РОВД размещался в доме купца Розенфельда, дети которого торговали лесом, внуки были расстреляны НКВД, а правнуки уехали на историческую родину при первой возможности, еще в начале восьмидесятых. В разные годы в этом здании успели побывать ГПУ, НКВД, Гестапо, Военная контрразведа и КГБ, так что традиции тут въелись в стены, а камеры в подвале содержали обширный набор граффити на немецком, белорусском, русском и идише.
Для допроса Кабана Выхухолев решил использовать свою собственную комнату: мебель здесь не была прикручена к полу, как в некоторых узкоспециальных кабинетах, зато от долгого сидения на стуле у допрашивающего не затекала спина. А разговор намечался долгий.
– Все пьешь, Кабан, – пожурил его Выхухолев для разгона.
Кабан, которого уже успели на всякий случай обрядить в наручники, взмолился:
– Начальник, давай по-быстрому и уже отпускай, похмелиться надо.
– Стремление похмелиться – признак хронического алкоголизма, – наставительно произнес милиционер. – Лечиться тебе надо было, тогда бы, глядишь, не стал бы матерым рецидивистом.
Кабан, сознание которого плавало в ядовитой смеси из абстинентной лихорадки, головной боли, неуверенности в реальности реальности, жажды, не утоляемой неспиртосодержащими жидкостями, отвращения к тому образу жизни, который он вроде как не избирал, но в который привык безропотно встраиваться каждое утро, – мучительно пытался понять, куда клонит Выхухолев.
– Что я такого натворил? – аккуратно поинтересовался он.
– Я тебе так скажу: в твоем проступке, нет, давай начистоту, в твоем преступлении, да-да, преступлении – есть и моя вина, Кабан, – с намеком на искренность признался Выхухолев, и тут Кабану стало не по себе, ибо когда такой человек, как майор милиции Выхухолев, готов признать какую-то собственную оплошность, стало быть, ситуация сверхординарная и, не исключено, угрожающая. – Мне, Кабан, нужно было не наблюдать твое антисоциальное поведение, но принимать меры. Понимаешь? Нужно было отправить тебя в профилакторий, на принудительное лечение, проследить, чтобы ты устроился на работу, составить график регистраций, чтобы ты являлся, рассказывал о своих успехах, словом, взять на контроль. Просмотрел я тебя, Кабан.
– Да что я сделал?
– А ты не помнишь? – Выхухолев обошел стол и расстегнул наручники, обозначая новую, предельно доверительную, страничку их отношений.
– Не. Не помню.
– Что ты делал ночью, расскажи.
– Ну как что. Ну, пил.
– А еще что делал? Пить – это не занятие.
– Ну, спал.
– А во сколько лег спать?
– Не помню.
– Ну примерно.
– Ну не помню, начальник. Ну может, в десять. А, может, и в час. Не помню.
– А что делал перед сном?
– Пил.
– А где пил?
– Не помню.
– Эх, Кабан, Кабан, даже жалко тебя. Никакого раскаяния. Ты зачем человека убил? А?
– Я? Человека?
– Да, ты, человека.
– Как убил?
– Из пистолета, Кабанов. Два отверстия в человеке оставил. Одно входящее, другое – выходящее.
– Да не может быть, Выхухолев, да ты что! Не убивал я!
– Ты еще скажи, что магазин ты не вскрывал.
– Какой магазин?
– Ну как какой? У вас там в Малиново один магазин. От «Райпотребкооперации».
Кабан примолк: он пытался вспомнить ночную вылазку в магазин, но не помнил ее. Но – что его пугало – не мог он припомнить и другого ночного воспоминания, ухватившись за которое, он мог бы убедить самого себя, что в магазине не был. Более того, похолодев, он осознал, что идея грабануть магазин «Райпотребкооперации» не однажды приходила к нему в голову, когда собранных в лесу грибов, выловленных в речке карасей, выкопанной у соседа картошки никто не покупал, а выпить хотелось. Тем более, что решетка в магазине была сделана бестолково, как он заприметил.
– Выхухолев, ты скажи мне: как этот магаз вскрыли?
– Ну, а как его можно вскрыть? Разбили окно, в окно руку просунули, дверь открыли – и всей науки.
– И что, там на окне не осталось никаких доказательств? Ну, в смысле, что это не я?
– Нет, Кабан, все как раз говорит, что это сделал ты. А алиби у тебя нет.
– Как нет, есть! – уцепился подозреваемый за обнадеживающее слово.
– Какое у тебя алиби? Где ты был ночью?
– Дома, спал.
– Это не алиби, Кабан. Видел тебя кто-нибудь спящим?
– Не, ну ты чудишь, Выхухолев. Кто меня мог видеть спящим? Баба от меня, ты же знаешь, ушла.
– Ну вот, стало быть, ты убил.
– Кого убил? Катьку-продавщицу?
– Нет. Хмыря какого-то, я сам его не знаю.
– А что за хмырь?
Выхухолев достал худенькую серую папку с надписью «Дело №» и вытряхнул из нее несколько снимков. Отобрал самый жуткий, с мертвым лицом, снятым крупным планом, и протянул Кабанову. Зрелище разверстого рта парализовало страдающего похмельем человека.
– Знаешь его? – уточнил Выхухолев.
– Не знаю. Мерзкий какой-то, когда мертвый. Не знаю, когда живой, а мертвый мерзкий. А что за он? С чего мне его убивать? Не, Выхухолев, это дурость какая-то. Образовался у тебя висяк, так решил ты на меня его определить. Только я не возьму, не убивал, не, ни хуя, я вообще никого в своей жизни не убивал, только кур и кабана, но они не в счет.
– Не убивал, значит?
– Не убивал. Выхухолев, отпускай уже, мне похмелиться надо, – Кабан встал, показывая, что разговаривать больше не будет.
– Кабан, ну ты понимаешь, что я только предварительную беседу веду?
– Да, понимаю.
– И мне по горячим следам нужно предложить какую-то версию.
– Ну.
– А потом подключится прокуратура, следователи, они будут работать, восстанавливать по деталям, скрупулезно.
– И что? Мне похмелиться надо, Выхухолев.
– И что? А то! Не могу я тебя отпустить, пока мы с тобой документ не напишем.
– Что за документ?
– Чистосердечное признание. Тут процедура такая. Пришел, пока признание не напишешь, придется тебя мариновать.
– А если напишу?
– Сразу свободен.
– Да ну.
– Ну да, Кабан! Ты про майора Пронина книжку читал?
– Не, не читал.
– А напрасно. Интересный детектив, о работе в органах. Так там все написано. Ты должен написать признание, что виновен, а потом прокуроры и следователи будут восстанавливать каждую деталь, доказывать, что ты не виновен. А вину у нас в стране вообще суд устанавливает.
– И что, я свободный сразу буду?
– Ну конечно, свободный. Но для освобождения нужно основание.
– Что за основание?
– Я ж говорю, чистосердечное признание. Готов написать?
– А без этого нельзя уйти?
– Не, Кабан, без этого нельзя уйти. Либо пиши признание, либо сиди тут до упаду.
– И что написать?
– Ну все, как было, как пришел, как убил.
– Да я ж не убивал!
– Да понятно, что не убивал, но бумага нужна, иначе тебя нельзя отпускать. А то как это – человека я задержал, допросил, а бумаги нет. Беспредел это?
– Ну да, беспредел, – согласился Кабан. Идея о том, что каждый раз после прихода в милицию должна появляться некая бумага, ему, в целом, понравилась.
– А как я напишу, как я убивал, если я не знаю этого хмыренка и не знаю, как его прибили?
– А ты подумай.
– А если я не так напишу. Это же враньем будет!
– Ну вот следователи это увидят, что вранье, суд увидит. Все поймут, что ты не виновен. Вот тебе бумага, пиши.
– Ну ладно. И что писать?
– Ну вот начни так: «Чистосердечное признание» – по центру сверху.
Кабан сгреб ручку в кулак и, пыхтя от усердия, вывел сложно узнаваемые каракули на листе, оставив кроме слов, еще и жирный след нечистой ладони.
– Что ты написал, дубина? – вскрикнул Выхухолев.
– А что я написал?
– Прочитай.
– Чистосердечное признание.
– «Чистосердечное» пишется в одно слово! Что ты, на фене болтаешь в официальном документе? Как ты додумался, вообще – «чисто сердечное признание»? Ты что, пацанам предъяву пишешь, шконку тебе освободить просишь? Ладно, Кабан, давай я на компьютере текст напечатаю, а ты подпишешь.
– Ну ладно, пусть так.
Подождали, пока загрузится компьютер. Кабан с удивлением обнаружил, что со временем его похмелье не только не отступает, но даже наоборот усиливается. Более того, обстановка милицейского кабинета развивает его в сторону усугубления депрессивности. Тем временем, Выхухолев открыл программу и приготовил указательные пальцы для печати.
– Ну что, рассказывай.
– Да что рассказывать. Не знаю я ничего. То есть, не помню. Пьян же был. Ты пойми, Выхухолев, если я что навсамделе натворил, я отказываться не буду: не по-божески это. Вот если следователи эти твои докажут, то нормально.
– Ладно, давай уже не начинать по второму кругу. Как вы встретились?
– Да не знаю, как встретились.
– Ты думай, Кабан.
Кабан задумался. Процесс выдумывания истории увлек его.
– Ну, поскольку я его не видел, видно, он к нам в Малиново зачем-то приехал. Я к нему подошел, говорю, эй, ты, дай закурить, потому что не местный. А он мне.
– Кабан, так подробно не надо. Вот я пишу: «С убитым познакомился 10 июня».
Пальцы Выхухолева задолбили по клавиатуре. Та кряхтела и потрескивала: было видно, что долго она такого отношения не выдержит.
– Когда, днем или вечером познакомились?
Похмельный прикинул: день он еще как-то помнил, заходил к Жабоеду, они с ним кумекали за политику и никакого постороннего хмыря рядом не просматривалось. Потом он выпил пару капель, память ему отказала, и больше четких воспоминаний не было.
– Пиши, Выхухолев, что вечером познакомились. Около восьми вечера. Приехал, он значит, в село, вопрос, конечно, как приехал, ведь автобусов уже не ходит, а если на машине приехал, так люди бы знали. Другой разговор, если сам пришел, пешком, тогда люди могут не знать. Ты бы поговорил с людьми, Выхухолев.
– Это неважно пока. Вот я пишу: «С убитым познакомился 10 июля». Что делали вместе?
– Не знаю. Что мы могли делать? Не в танчики же играть. Не дети же.
– Ясно. «Сразу после знакомства начали предаваться совместным возлияниям».
– Я вообще-то абы с кем не пью, Выхухолев. Вот с тобой бы точно не пил.
– Неважно, Кабан, ну оказался хорошим человеком, решил ты с ним выпить. Что дальше? Как в магазине оказались?
– Ну ясно, как, – Кабан вздохнул. Ему было стыдно новым для него типом стыда – стыдно за то, что он совершил, за что вроде как нес моральную ответственность, но чего не помнил. – Решили мы магазин вскрыть.
– Почему?
– Ну ясно, почему. Не в танчики же играли. Не дети.
– Значит, так пишу: «Решив продолжить возлияния, совместно, организованной группой лиц, мы задумали кражу со взломом». Так?
– Ну, похоже так.
– Я тогда дописываю: «Поскольку денежных средств для покупки спиртного не имелось».
– Складно.
– Не складно, – Выхухолев расстроенно хлопнул по столу рядом с клавиатурой. – Херня у нас с тобой получилась, Кабан.
– Почему? По мне так очень даже.
– Потому, что у убитого было бабло. Нашли сто тысяч белорусских рублей и пятьдесят долларов США в кошельке.
– Зачем мы тогда магазин вскрывали?
– Вот я о том же.
– Могли спокойно пойти и купить себе. Причем водовки.
– Могли. Придется тебя помариновать, Кабан, пока чего лучше не вспомнишь. Негодный из тебя писатель.
– Не надо мариновать. Бери другой компьютер, пиши за мной.
Выхухолев послушно открыл новый документ на компьютере.
– Готов печатать?
– Давай.
– Значит, предавался я возлияниям, никого не трогал, под ночь возникло желание догнаться, денег не было, это правда, решил совершить поход в магазин. Открыл магазин, а там этот хмырь.
– В магазине?
– Да.
– А что он в закрытом магазине делал?
– А ты напиши, что магазин уже взломан был. Он взломал, а я только пришел, смотрю, какой-то городской магазин наш грабит. Вот я его и порешил. В помощь милиции. Выхухолев взвесил версию Кабана. Она открывала длинную и нудную перспективу по выяснению того, кто был грабитель и почему вскрывал магазин. Дело об убийстве превращалось в дело о вынужденной самообороне или даже о выходе за пределы необходимой обороны при попытке предотвратить преступление. При этом Кабан из подозреваемого превращался в свидетеля, что Выхухолева категорически не устраивало. Наконец, вместо преступления, раскрытого по горячим следам силами РОВД, он получал очевидный висяк с невнятными ролями участвующих в нем лиц, включая убиенного.
– Не, Кабан. Это сказка какая-то у тебя получилась.
– Почему сказка?
– Ну ты представь, два человека идут бомбить магазин в одно и то же время. Причем один при этом убивает другого за то, что тот бомбит магазин. Не, Кабан, не верю.
– Слушай, отпусти ты меня?
– И что, потом самому сидеть выдумывать? Не, будешь ты у нас в участке париться до посинения, тулуп вон взял…






