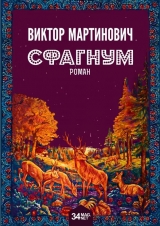
Текст книги "Сфагнум"
Автор книги: Виктор Мартинович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
– Серый, это ахтунг. Ты не опетушился? Мужики на ночь не расчесываются. И утром не расчесываются. И уж тем более днем не расчесываются.
– Зачем тогда тебе, Хомяк, расческа? – словил его Шульга.
– Нервы успокаивать, – уверенно ответил Хомяк. – Я когда нервный, зубцы выламываю. Еще на ней свистеть можно с туалетной бумагой, но я пока не научился.
Серый аккуратно тронул расческой волосы и поморщился. Баба Люба, внимательно наблюдавшая за ним, встревоженно подошла к Серому.
– Што, валасы не чэшуцца?
– Да, не расчесываются чего-то. Ехал сегодня сюда в прицепе с сеном, приснул там, видно спутались волосы.
– Вой-вой-вой! – всплеснула руками баба Люба. – Наслала на цибя тая рассамаха каутун. Не пажалела. Я ж гавару, русалка!
– Чего-чего? – насторожился Хомяк, которому нужно было понять, что делать с расческой: выкидывать ее, великодушно дарить Серому или забирать себе.
– Каутун. «Колтун» па-руски, – повторила баба Люба.
– А что это? Типа, мандавошки? – уточнил Хомяк.
– Это балезнь. Страшная, ат ее лекарствами не вылечыш. Каутун. Воласы ат самай галавы раскудлачываются. Сплятаюцца. И не расчэшэш.
– Так в чем болезнь-то? – напрягся Шульга. Серый был главным бойцом в их отряде, один вид которого зачастую решал все проблемы. – Перхоть, что ли? Или волосы помыть?
– Балезнь – в валасах. Ана будзет на цела перэхадзиць. Чэраз кажны волас. Чэраз голаву. Убиць можа. Или калекай здзелаць. Если не зашэптаць.
– Ой, вот только не надо этого! – отмахнулся Серый, который, во-первых, в заговоры не верил, во-вторых, не верил в русалок, в-третьих, был все еще обижен на деревенских. Расческа застревала в волосах, сами волосы сбились в странные узлы – вроде тех, что он заметил на Пахоме при первом знакомстве с ним в Октябрьском. Кожа головы странно зудела и чесалась. Почему-то казалось, что, если распутать их как следует, зуд пройдет. Он пробовал разобрать волосы у самых корней, но расческа увязла, причиняя боль при малейшем усилии. Тогда попытался обработать пучок волос у кончиков, но и тут не пошло – через треть сантиметра расческа наткнулась на узел, каким-то образом сам завязавшийся на голове. При этом волосы у Серого, как у любого психически здорового представителя его подвида, были короткими – если он запускал в них пятерню, из-за пальцев торчали лишь кончики. И даже такие стриженые волосы разобрать не удавалось.
– Шульга, слышь. Развяжи тут узел, а? Или срежь на хуй, – Серый терял терпение. – Очень зудит.
– Не! Не, рэбята! – испугалась баба Люба. – Каутун зашэптаць нада! Иначэ балезнь в цела уйдет!
– Шульга, развяжи, – не обращал внимания на ее увещевания Серый.
– Серый, – Шульга подошел к нему и тронул за плечо. – Серый, ты не бесись только, ладно? Баба дело говорит. Помнишь мужика этого, Пахома? У него по ходу тоже вся башка в дрэдах была. Так что, выходит, жена его мастерица. – он хотел добавить про сживание мужиков со света, но прикусил язык, не зная, что у приятеля на душе. – Ты к этому так отнесись: в Буде тысячу лет болезни шепотом лечили и только последние семьдесят лет уколами. Голова у тебя зудит, стало быть больна. Надо помочь.
– Да не дамся я! – снова выкрикнул Серый. – Идите на хуй все!
– Ему надо галоперидолом башку смазать, чтоб все мандавошки поспрыгивали, – широко почесал грудь Хомяк и потянулся. Себе он казался опытным, матерым вором, которому удалось избежать ментовского мастырка, на который попался кореш.
– Хома, я тебя убью сейчас на хуй! – грохнул Серый кулаком по столу. Стол подпрыгнул на всех четырех ногах одновременно и даже на секунду завис в воздухе, как левитирующий буддийский монах, настолько силен был удар.
– И потом, гляди, – Шульга обрабатывал Серого, как продавец подержанной иномарки обрабатывает потенциального покупателя на рынке в Гомеле, – если мы в явную жопу лезем, чтобы найти колдуна, который нам клады может расколдовать, почему ты башку свою зашептать не даешь? Это нелогично, Серый. Не накликать бы нам беды. Удача-то завтра знаешь как нужна? Тебя из трясины когда-нибудь палками вытаскивали? Когда ты по горло в жиже был? Не? А меня вытаскивали, – соврал Шульга. – Так что давай башку твою вылечим.
– Просто сена в волосы набилось, – еще раз настоял на своей версии Серый.
– Так а кто с этим спорит? – наклонился к нему Шульга. – Серый, сено так сено! Просто в этих местах сено из башки по-своему вытрясают. Знаешь поговорку эту про монастырь?
Шульга сам не помнил поговорку про монастырь и попытался ее воспроизвести по памяти:
– В чужой монастырь со своими тапками не лезут. Знаешь почему тапками, Серый? Потому, что перед тем, как в монастырь войти, нужно снять обувь. И у ворот оставить. У любого монастыря много-много кроссовок стоит. Святая земля, хули хочешь? А ты что? Пришел в монастырь и хочешь, чтоб тебе монахи обувь почистили ризами. Не пойдет так, Серый.
– Галоперидолу нужно! – не унимался Хомяк. – А еще лучше зеленкой башку залить. Тогда точно все блохи повымирают.
– Закройся, Хома! – рыкнул Серый, но по характеру рыка было слышно, что он уже не злится и готов подставлять голову под шепот.
– Серый, что-то любят тебя насекомые! – веселился Хомяк.
– В болоте – клещ, в Октябрьском – воши! Ты какой-то зоофил, Серый!
– Баба Люба, пациент готов! – крикнул Шульга в Сени. Женщина возилась там, готовя процедуру.
– Пашли на крыльцо! – позвала она. – Идзе тольки той, каго лечым.
Выйдя на ганок, баба Люба ступила на ступеньку вверх и протянула пациенту вниз граненый стакан с водой.
– Бяры, держы, воду не плескай.
Серый со стаканом в вытянутой руке выглядел органично и мечтательно, как памятник алкоголику. Баба Люба сложила ладони трубочкой, накрыла ими стакан и принялась быстро-быстро шептать в этот раструб:
– Святы Горги-пабеданосец закрыл неба звяздами, землю травой, дрэва листвой, рыбу луской. Цар Давыд скрапил неба и зямлю, зоры, ясны месяц.
Порой ее было отчетливо слышно, порой шепот становился неясным, и можно было различить только настойчивые интонации, которые становились то монотонными, то торжественными, то слезливо-просительными:
– Зара, зарыца, божая прамяница, бог Троица, бог Юры, бог Микола, бог Сус Хрыстос. Троица ад змей памагучы, да тебе идучы па полю, па дрыгве, па росе, нясу камень у кармане, у расшытым кафтане, камень агнем гарыць, руку пякець, трэба хлопца спасци ад русальчыной прысухи. Микола Чудатворац молнией бье, Юры зашчышчае, Сус Хрыстос крылами накрывае.
Ноги у Серого затекли, рука отяжелела, женщина продолжала шептать:
– Вужаку замовляю, Бога на помач зазываю. Вужаку замовляю вадзяную – стань. Вужаку замовляю балотну. Стань. Вужаку замовляю лесную – стань. Вужаку замовляю межевую – стань. Вужаку замауляю падпечную – стань. Вужаку замауляю кубавую – стань. Вужаку замовляю глауную. Стань, вазьми аганек, вазьми вецерок, вазьми зямлицы, хлопцу дапамажы здаровым жыци.
Рука Серого со стаканом начала подрагивать, баба Люба поддержала его под локоть, показывая, что важно не расплескивать воду. Когда заговор был закончен, пациент однозначно почувствовал себя более здоровым человеком, чем ощущал во время процедуры, с ее недвижимым стоянием на одном месте, с ее жутковатым бубнением ворожующей. Женщина окунула пальцы в стакан и сбрызнула ими волосы Серого.
– Шчас лей са стакана на зямлю, – приказала она.
– Все лить? – уточнил он.
– Усе. Ано у землю удзёт, усе гауно з сабой унясет. Серый послушно вылил заговоренную воду на землю, та, пузырясь, впиталась между стеблями чахлого пырея. Он тронул свои волосы. Узлы не распутались, но кожа на затылке и темени зудела меньше, возможно, потому что от долгого стояния теперь зудели спина, ноги и руки. Поднес к лицу ладонь, закусил губу: пальцы хранили ландышевый аромат той, которой он помогал застегивать лифчик утром.
Глава 16
Выхухолев пил чай, прислонившись лбом к стеклу окна собственного кабинета. Ему было тяжело после вчерашнего рандеву в кабинете председателя районного исполкома. Под пупком шевелился клубок змей, его знобило, как при гриппе, а голова была одета в милицейский шлем тяжелого похмелья: Выхухолеву было неудобно в собственном черепе. Он с молчанием внутри созерцал стоящую рядом со входом в РОВД ель, которую помогал сажать во время субботника много-много лет назад. Выкопанное лесниками дерево привезли из-под Буды на тракторе. И вот, елочка, которая родилась в лесу, в лесу же и росла, торчит теперь под окнами глусской милиции. И эта как бы та же самая елочка, которая росла когда-то в лесу, хотя в лесу ее могла ожидать совсем другая судьба: ее ветви были бы пышней, а рост – выше. Медленные, окрашенные абстинентной лихорадкой мысли Выхухолева пошли еще дальше, и он подумал о семенах, выпадающих из шишек этой елочки и зарождающих новые елочки. И о том, являются ли эти семена, ростки из них, продолжением материнского дерева или чем-то новым. И о том, что рассаженный физалис или фикус никогда не скажет другому физалису или фикусу, что он – неповторимая личность. И что в этом – секрет бессмертия растений, которые все вместе или взятые по отдельности – просто ель или просто фикус. И что люди, быть может, тоже бессмертны, но им нужно перестать выебываться. На этой сложной, но обнадеживающей фразе из внутреннего монолога Выхухолева, дверь его кабинета распахнулась, и сержант Андруша ввел редактора районной газеты Петровича. Петрович вел себя смирно, и ему даже не пришлось сковывать руки наручниками. Петрович осторожно уселся на край стула – как человек, допускавший, что стул может выпрыгнуть из-под седалища и начать лупить по спине. Он вежливо смотрел на Выхухолева.
Выхухолев не спешил. Чай «Липтон» из пакетика дал обильный цвет, заполнив кабинет уютным ароматом свежеоструганного полена. Милиционер знал, что стоя вот так, у окна, со стаканом чая в латунном подстаканнике «Белорусской железной дороге 125 лет», он чем-то похож на Иосифа Сталина. Иосифа Сталина Выхухолев любил как человека, у которого, быть может, и были свои перегибы из-за того, что Сталин был грузином, но зато страна проложила БАМ и полетела в космос. Выхухолев еще раз осмотрел открывавшийся из окна вид – ель, площадь, красочная тумба «С Новым годом!», на которой волк из мультфильма «Ну, погоди!» кружит в танце зайца в наряде снегурочки, а ведь на дворе уже июль. Выхухолеву было муторно.
– Как думаешь, Петрович, зачем мы живем? – спросил он у арестанта.
– Для того, чтобы страдать, – пожал тот плечами. – То есть одни – чтобы страдать, а другие чтобы издеваться.
– Оно, понимаешь. Человек он – как елка или физалис, – попытался выразить свою сложную мысль Выхухолев. – Растет, растет, размножается, потомство пускает, а все одно и тоже. Из года в год. Вон, плакат «С Новым годом!» никак не уберут. А уже июль, между прочим.
– Товарищ начальник, давайте допрос уже начинать, – беспокойно заерзал на стуле Петрович. Он не мог понять, зачем его вызвали.
– Как условия содержания? Жалоб нет? – поинтересовался милиционер.
– Есть, – прибито нахмурился Выхухолев. – А что толку? Вы что-нибудь кроме селедки и гнилой капусты давать отбывающим наказание можете? Безобразие.
Выхухолев со вздохом открыл ящик стола и взял из стопки бумажку, отпечатанную офисным италиком. Своим шрифтом бумажка напоминала визитную карточку с двумя длинными телефонами, но без имен.
– Что это? – спросил Петрович.
– Первый телефон – Страсбургский суд по правам человека. Второй – Гаагский трибунал. Звони, жалуйся на меня, – он мрачно хихикнул, – можешь им заодно про селедку рассказать. Они там всех выслушивают.
Петрович хмыкнул, хотел съязвить, но прикусил язык – по всей видимости, много мыслей и переживаний посетили его в камере.
– Больше бузить не будешь? – строго спросил Выхухолев.
– Так я ж и не бузил вроде, – Петрович не то, чтобы спорил, но выражал недоумение.
– Ну вот, опять начинаешь, – нахмурился милиционер, – суд собрал доказательства, опросил свидетелей, установил вину. А ты – «не бузил», «не бузил». Еще скажи, матом не ругался. И руками не размахивал.
Петрович снова хмыкнул, но решил не раскрывать рта.
– Так будешь бузить? – переспросил милиционер.
– Не буду, – вполголоса сказал Петрович.
– Ну вот, хорошо. Будем считать тебя ставшим на путь исправления. Выпустим раньше срока. Только дело у нас с тобой одно осталось. В рамках следственных действий, – он протянул Петровичу лист бумаги с напечатанным на машинке шрифтом, – роспись поставь.
– А что это?
– Это подписка о неразглашении сведений, которые стали тебе известны по делу об убийстве в Малиново, – объяснил Выхухолев.
– А какие мне сведения стали известны по делу об убийстве в Малиново? – уточнил Петрович.
– Все сведения, Петрович. Вообще все. Наш с тобой разговор. Вопросы мои, ответы твои. Что ты говорил, не говорил. Все, Петрович. Хоть слово где напечатаешь – подписка как раз об этом.
– Так а что я узнал? Я вообще ничего не узнал.
– Вот, ничего и не говори.
– Не, Выхухолев, – насторожился Петрович, – это как-то опасно. Я без адвоката подписывать не буду.
– Плохо это, Петрович, – покачал тяжелой головой майор. – А говоришь, бузить больше не будешь. Навстречу тебе пошли, а ты – со следствием не сотрудничаешь, на просьбы малейшие, вежливо высказанные, снова начинаешь кричать матом и размахивать руками. Разочарован я в тебе. Хотя, казалось бы, и надежд особенных не возлагал.
Петрович понял, что его вот-вот опять уведут в камеру и взял ручку.
– Не хочешь, не подписывай, – подбодрил его Выхухолев, – мне – все равно. Ты главное матом не ругайся в этих стенах. Это же святые стены, – он кивнул на портрет Дзержинского, висевший рядом со шкафом. – Ты одно учти. Согласно нашему УПК в случае отказа подписать подписку о неразглашении ответственность за разглашение все равно наступает. Срока давности такие дела не имеют. Так что подписывай давай.
Петрович оставил быстрый росчерк в документе.
– Молодец. Все. Можешь быть свободен. Пропуск Андруше предъявишь, – Выхухолев протянул редактору документ, требующийся для выхода из здания. – Газетку свою давай печатай, компьютеры уже вернули. А то без телепрограммы город оставил.
Петрович кивнул и выскочил из кабинета. Его преследовала мысль о сочнике с творогом – за последние несколько суток, проведенных на размоченном в воде хлебе, капусте, пахнущей помойным ведром, и селедке, от которой мучительно хотелось пить по ночам, сочник с творогом стал навязчивой идеей.
Оставшись один, Выхухолев вытащил сотовый телефон и нажал на кнопку вызова. Дожидаясь ответа, он глотнул еще чаю. Этикетка пакетика, болтавшегося на дне стакана, лезла ему в глаза.
– Все, выпустил этого, – сказал он трубке. – Не, молчать будет железно. Да, подписал! Не, ну конечно выебывался. Но подписал. Особо угрожать не пришлось. Он уже с пониманием. Ну а что вы хотите? Такая школа жизни! Большинству трое суток хватает, в закрытке. Кого? Глусских в Докольку направили? Наших? Ха-ха! И что, искали? Искали пистолет? Что, в костюмах? В костюмах прямо полезли? Во, дурни! Ну да, расслабились: откатики, коммерсантики, баня, водка, бляди, а оперативной работы не нюхали. Все Пронинами заделались, а трупака ни разу в мешок не пихали, ну! И что? Дно руками прощупывали? Три дня? Вот, хорошо! Приятно слышать, Сергей Макарович! Каждый камень подняли, да? Ай, молодцы! И ничего, да? И куда же этот пистолет делся из реки? Ха-ха! Преступник выкинул, а пуделя эти не нашли! Ха-ха! Вот загадка, да? Ну понятно, что на течение пеняют. На что им еще пенять! Вы им взыскание объявите! Обвиняемый? А что обвиняемый? Все нормально обвиняемый! Раскаивается чистосердечно. Я его на семёру настроил, Валька на через две недели суд назначила.
– Скажите, – произнес Выхухолев другим тоном, чуть тише, – может, я уже заеду? Дело скоро закроем, Кабанов сидит, Петрович молчит. Давайте, может, заеду? А? Что? Сидеть, ждать? Понял. Понял. Буду ждать. До свидания.
Он снова подошел к окну и уткнулся лбом в стекло. Зажмурился. Представил себя елью, которая никогда не умрет, потому что найдет продолжение в других елях – таких же, как она. Открыл глаза. Увидел безысходную площадь, несколько одинаковых прямоугольных зданий, тумбу «С Новым годом», слоняющихся горожан, которым как будто не хватало ног, чтобы убраться с поля зрения и вообще из этого города, нескольких подростков, кидающих явно презрительные взгляды в сторону здания милиции, мутноватое небо, тяжелый воздух, пространство, лишенное света и тени, яркости и контраста, плоское, плоское, плоское. Он понял, что ему не хочется не умирать.
Глава 17
Жители деревни Буда Глусского района Гомельской области, когда они еще не превратились в кладбищенские холмики, сосредоточенные лица на могильных фотографиях и неясные силуэты, проступающие в плотных туманах, определяли наступление трех часов дня следующим образом. В солнечный день они становились спиной к светилу и отмеряли шагами собственную тень. Если длинна тени исчерпывалась тремя шагами обычной, комфортной для них походки, это означало, что в деревне Буда Глусского района наступало три часа дня. Для вставших с зарей жителей деревни Буда Глусского района Гомельской области три часа дня символизировали то, что можно сделать перерыв в тяжелых трудах и прилечь где-нибудь в теньке для краткого сна. Проснувшись, когда тень уходила, они завершали начатое на рассвете, автоматически, без аппетита, ужинали и укладывались ждать следующей зари, зовущей к рвущему жилы труду.
Три наших героя встретили три часа дня бодрым храпом: Серый храпел басом, Шульга тенором, Хомяк – нервным, прерывистым сопрано. Накануне ночь напролет они играли в карты на фофаны и обсуждали детали предстоящего им вояжа на болота. Каждый раз, когда карты определяли «дурака», а ни во что другое приятели играть не умели, Серый возлагал проигравшему на лоб пятерню, смачно оттягивал средний палец и позволял ему грохнуть играющего по черепу. Как правило, голова жертвы издавала гул, похожий на то, как если бы две большие сковороды ударились друг о друга. Хомяк после такого удара, как правило, садился на пол и ошалело крутил головой по сторонам. Проигрывать ему нравилось, так как минутная одурь, снисходившая на его сознание после фофанов Серого, напоминала алкогольное опьянение, по которому, ввиду отсутствия возможностей приобрести пиво в деревне Буда, он очень скучал. Шульга один раз после фофана побежал тошнить, и Серый сократил силу ударов по лбу для него, боясь нечаянно прибить товарища. Когда проигрывал Серый, фофаны поочередно били сначала Шульга, потом Хомяк, но оба экономили силы, так как от столкновения пальца нормального человека со лбом Серого, палец потом еще долго ныл.
Первым проснулся Шульга, чувство ответственности в котором было выше, чем в среднем по троице. Он расталкивал приятелей, напоминая, что им предстоит сложное путешествие, но те отбрыкивались. За Шульгой встал Серый, которому было интересно узнать, как обстоят дела с его волосами. Вдвоем, забавы ради, Серый и Шульга вытащили ведро студеной воды из колодца и аккуратно вылили пару кружек на посапывающего Хомяка. Хомяк по-бабьи визжал, но не вставал, демонстрируя, что настоящий пацан может спать даже мокрым.
Внимательно осмотрев свою голову, Серый резюмировал, что та уже не чешется совсем, однако волосы по-прежнему спутаны и расчесыванию не подлежат. Некоторый прогресс в саморазвязывании самозавязавшихся узелков был налицо, но Серого это не удовлетворяло.
– Что я, как хиппи буду ходить? – рычал он, крайне недовольный тем, как с ним поступила его собственная голова.
– Серый, мы на болото идем, – утешал его Шульга, – кроме того, видон у тебя актуальный. Как у солиста группы «Модэн Токинг». Надо только кончики подкрасить в зеленый цвет.
– Во-во. Как пидор выгляжу, – тыкал Серый в свою шевелюру, в которой каждый волосок стоял вертикально, сплетаясь с другими волосами в сплошной клубок.
– Давайте его в «Метелицу» снарядим, – нагнетал страсти Хомяк, который уже встал и отжимал штаны, – от мальчиков отбоя не будет.
Для Серого мысль о том, что он выглядит «актуально» была невыносима. Он залез на печь и стал разбирать завалы ржавого железа, стараясь найти предмет, который мог бы помочь избавить голову от растительности. Через полчаса снабжаемой матом и лязгом жизни, он спустился, держа в руках окаменелый обмылок, по цвету и фактуре напоминающий кость мамонта, ржавые ножницы и три желтых одноразовых бритвы «Бик», использовавшиеся когда-то для очистки рыбы от чешуи. Нагрев кастрюльку воды, Серый сначала срезал все, что мог, ножницами, затем обильно намылил голову и стал сражаться с растительностью одноразовыми бритвами «Бик». Отдельного описания заслуживает сцена очищения крохотных лезвий одноразового станка «Бик» от ржавчины с помощью найденного на дворе камня. Цирюльник работал рьяно. Во все стороны летели пена, лохмотья шерсти, куски содранной с головы кожи. Шульга выгнал его на улицу. Когда работа была закончена и голова Серого стала напоминать колено велосипедиста, попавшего под самосвал, у калитки показалась баба Люба. Серый в этот момент облеплял голову, на которой местами сохранилась недобритая шерсть, листьями подорожника, которые, как ему казалось, останавливают кровотечение.
– Вох, што ж ты надзелау? – вскрикнула женщина.
– Вы бы сами побриться вот этим попытались! – продемонстрировал ей Серый остатки бритв «Бик». Рукоятки двух из них сломались во время самоистязания, оставшаяся в живых была настолько плотно забита обрезками волос, что ее лезвие полностью утратило резательные качества.
– Ты зачэм валасы састрыг, доубень? – крикнула баба Люба.
– А что? Нармально. Кожа заживет, – широко улыбнулся Серый. Он был очень доволен своей работой. Во-первых, он уже не выглядел, как хиппи, во-вторых, ему даже нравилось, что череп обильно кровоточит. Ему было эстетически приятно пугать людей своим видом.
– Ты дурэнь! Ой дурэнь! – баба Люба плюнула себе под ноги. – Валасам самим нада была даць распутацца! Ты што нарабиу?
– Самим распутаться? И ходить неделю с Бобом Марли на башке? Ой, я вас умоляю! – отмахнулся Серый, размазывая кровь по лбу.
– Усё лечэнне наша учэрашнее казе пад хвост! – качала баба Люба головой из стороны в сторону. – Мы ж валасы цибе загаварыли, балезнь с их ухадзиць начала. А ты атрэзал! Ана ж шчас у цела всасется! И ужэ не вылечыш ничэм!
– Да ладно, баб Люб, он здоровый у нас, – поддержал приятеля Шульга, – ему голову оторвать, табурет приделать, он не заметит.
– А таки ж малады, таки малады, – женщина перекрестила Серого обычным православным крестом, – дай я цибя абниму.
Баба Люба подошла к ошеломленной жертве бритвенных лезвий «Бик», положила на него свои лапищи и прижалась массивным телом.
– Таки малады. Мог бы яшчо жыць и жыць.
Ойкая, она потопала в свою хату и скоро вернулась к приятелям с чугунком.
– Во, глядзице, я зацирки зделала. Паешце на дарогу. А лучшэ не идзице сегодня. Ужэ поздна. Лучшэ заутра с расветам прачнитеся и идзице.
Шульга чугун с затиркой принял, но идею переносить экспедицию на завтра не поддержал.
– Мы, баба Люба, и завтра так проснемся. Мы ж городские. У нас режим другой.
– Вой-вой, бедныя, бедныя, – покачала она головой. – Ты, слышыш? Паеш харашо! – обратилась она к Серому персонально. – Так бабе старой памог, травичку вакруг хаты прыбрау, а нашто ж табе памираць? – она скривила губы в ту гримасу, которая у старух предупреждает о скором наступлении плача по покойникам. Обычно эта гримаса как бы спрашивает у собравшихся, не против ли они того, чтобы в их присутствии немного поплакали.
– Нормально, баба Люба. Прорвемся, – прервал ее так и не начавшиеся причитания Шульга.
Затирка оказалась сделанным в печи молочным супом, в котором плавала перловка и сгустки, которые Хомяк сразу же презрительно окрестил «соплями». Есть он отказался, к видимому удовольствию Серого и Шульги, которые суп вычерпали с чемпионской скоростью.
Еще час ушел на то, чтобы одеться и экипироваться. В сенях нашлись две пары сапог, дырявые и целые. Дырявые по размеру подошли лишь Хомяку. «Лучше дырявые, чем никаких», – утешил приятеля Шульга. Себе он взял целые. Серому принесли пару, дожидавшуюся у бабы Любы, – обувь оказалась исполинских размеров, и ногу пришлось увеличивать тремя парами носков из собачей шерсти, найденных в запечке. Носки были дырявыми или, как называл это Шульга, «ажурными», но география дырок не совпадала полностью, так что некоторые части ступней Серого оказались носками все же прикрыты. С собой взяли рюкзак с припасами, топор и по две палки. Фонарик нашелся только один. Металлический, похожий на железнодорожный семафор. Батарейки в нем давно потекли, и потому на элементы питания пришлось разобрать радио бабы Любы, которая его все равно не слушала.
Из деревни вышли, когда на висящее над горизонтом солнце уже можно было смотреть, не щурясь, – три фигуры, бредущие в закатных лучах к лесу. Было в этой сцене нечто из раннего Короткевича и одновременно с тем из позднего Мицкевича – тоже было. Присутствовал здесь, без сомнения, Жуковский, который поэт, но Жуковский, который живописец, тоже присутствовал. Увиденные издали три фигуры на фоне заброшенной деревни могли быть сюжетом для Левитана – для одной из его картин со щемяще-печальными названиями – «Над вечным покоем», например. Те, у кого в детстве была книжка «Последний из могикан» Дж. Ф. Купера, изданная в советской «Библиотеке приключений», наверняка узнали бы в этой сцене настроение обложки той книги. Обложки, на которой был запечатлен одинокий путник, с вызовом смотрящий с горы на раскинувшиеся перед ним леса. Баба Люба смотрела на них, стоя у калитки, качая головой и охая.
Троица красоты момента не ощущала: Серый с Хомяком самозабвенно фехтовали палками, пока Хомяк не получил по пальцам на руке и не начал, подчеркивая свою травмированность, прихрамывать. Таким образом он вызывал к себе жалость – на тот случай, если впереди возникнет потребность в тяжелом физическом труде и от труда этого нужно будет уклоняться. В лесу было тихо – как тихо бывает во всяком лесу перед закатом. Впрочем, быть может, звери и птицы примолкли, глядя на три фигуры, самозабвенно бредущие к глухим топям.
Болото встретило их лягушачьим хором, стройности и, главное, тембру и амплитуде которого позавидовал бы Большой театр. Этот контраст между настороженной тишиной леса и вакханальным вечерним весельем болота еще больше подчеркнул границу между миром понятным, засыпающим, и миром странным, просыпающимся на закате. Шульга, шедший первым, обнаружил, что аир под ногами довольно устойчив и что когда ноги одеты в сапоги, болото вовсе не такое враждебное.
– Как пойдем? – спросил он, когда приятели отошли метров на двадцать от берега.
– Нам бы машину найти, – сказал Серый, – оттуда на крышу заберемся, будем искать. По дыму. Ты ж как-то увидел.
– У меня ноги намокли, – обозначился Хомяк.
– Серый, где машина? Сможешь найти? Ты ж топил. В какую сторону нам?
Серый пожал плечами:
– Я как из кустов этих вырвался, пер просто вперед.
– Вопрос, где ты из кустов вырвался, – Шульга внимательно осмотрел заросли, обступавшие болото. Никаких прорех, следов поломов и тем более борозд от прошедшего транспорта было не различить.
– Ну, я ж говорю. Я просто прямо пер.
– Ладно. Пойдем и мы прямо, – повел приятелей Шульга.
Идти было несложно – травы, наросшие на водной подушке, пружинили под ногами, в следы моментально набиралась черная вода. Кое-где попадались кочки, на которые можно было присесть, не намочившись. Во время коротких передышек на одной из таких кочек Шульга ощутил, что его тронуло неясное чувство беспокойства. Объяснить его причину было сложно, но чувство стало нарастать с каждым шагом. Отойдя от кромки болота метров пятьсот, они обнаружили, что чахлый кустарник, росший у берегов, скрылся из вида.
– Я чего-то не пойму, – сказал Серый. – Ушли вроде близко, а берега не видно.
– Болото ниже находится, – попробовал объяснить Шульга, – ниже, чем суша. Из-за этого мы, как на дне банки. Видим только ее стенки.
– Не, если б ниже, наоборот лучше видно было бы.
– Ну, может, ушли далеко, – попытался объяснить Шульга.
– Оно кажется, что километра не прошли, а на самом деле. Двинулись вперед. Комары налетели как-то сразу, одной большой тучей, как будто в комариной социальной сети кто-то разместил объявление о свежем корме, явившемся прямо в кровать.
– Что-то машины нет, – с сомнением сказал Серый.
– Не туда ушли, – объяснил озадаченный Шульга, – левее забрали. Надо было правей идти. Мы прямо с дороги пошли, а ты, помнишь, когда сквозь кусты драл – слегка в сторону ушел.
Серый пожал плечами. Ничего подобного он не помнил.
– Смотрите. Машина, короче, справа осталась, – объяснил Шульга. – Нам надо теперь ровно направо повернуть и перпендикулярно идти. Параллельно берегу.
– Параллельно, перпендикулярно, один хуй! – разозлился Хомяк. – Ты веди давай.
Шульга развернулся, как он думал, на девяносто градусов и двинул в сторону. Порой ему казалось, что он видит машину – стало смеркаться и очертания предметов размылись, цвета – изменились.
– Слышь, братва, – подал голос Хомяк. – Старая говорила, что на болоте тропа одна. А тут куда не повернешь, везде тебе тропа. Что за шняга?
– Может, еще собственно до болота не дошли, – высказал предположение Шульга. – Может, это пока только так. Предбанник. А болото дальше будет. За машиной. Как к этому колдуну идти.
Он снова сел передохнуть на кочку. Кочка просела под ним, как хорошее офисное кресло, но осталась сухой. Слева был иконостас заката, золото постоянно меняло оттенки, то багровея, то обретая анемичную лимонность.
– Пацаны. Я, блядь, не заточился, а с какой стороны закат был? Так, между нами?
– Закат всегда на востоке, – бодро ответил Серый.
– Я понимаю, что на востоке. Это хуйня, на востоке, на севере. Когда мы к болоту вышли, где он был?
– А на хуя тебе? – подозрительно спросил Хомяк.
– На хуя, ни на хуя, надо.
– Слева, – уверенно ответил Хомяк.
– Ну, во-первых, справа, – поправил его Шульга, – справа. Я вот помню, что справа он был.
– Так это потому, что мы повернули! – нашел объяснение Серый.
– Нет, пацаны, ждите. Ждите, пацаны. Если закат был справа, то нам, если вообще пизда придет, чтобы на сушу вернуться, надо влево идти, – объяснил Шульга природу своего интереса. – А если, как Хомяку приснилось, слева – то идти направо. Сечете? Кудой выбраться надо решать. Просто на случай чего.
– На случай чего? – переспросил Серый.
– На случай если вообще пизда придет. Полная. Пока нормально, но надо предусмотреть.
– А, понятно, – сказал Серый. – Слышь, а болото это большое вообще?






