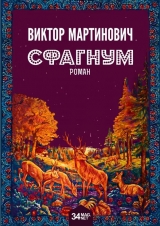
Текст книги "Сфагнум"
Автор книги: Виктор Мартинович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
– Уберите женщину, – еще раз распорядился санитар. Та закрыла своим телом калитку, не давая вынести больного.
– Баб Люб, ну пожалуйста! – попросил Шульга. – Ну вы хотя бы не начинайте!
– Так куда везете его? В Глуск? – поинтересовался Хомяк.
– Нет. В Бобруйск.
– Почему в Бобруйск? – Шульга об этом городе слышал только пришедшие из интернета шутки.
– Там морг лучше, – объяснил санитар. – Боксы современные, инструмент.
– А если выживет? – все не мог поверить в смерть Серого Хомяк. – После укола?
– А если выживет, в Бобруйске больница тоже есть. Хотя надежды мало. Я говорю – не выживет, Семуха говорит – не выживет. Значит, не выживет. А жаль. Молодой еще, – последнее было сказано без всякой интонации, чтобы никто не заподозрил, что медику действительно жаль. Кажется, душевность тут трактовалась как непрофессионализм и обывательство.
– Телефон бы какой дали! – попросил Шульга. – Чтобы знать, куда звонить.
– Мы вам не справка, – оборвал санитар, – звоните по справке в Бобруйск и узнавайте. Но в общем, тут звонить нечего. Глядите, синюшность на губах. Дыхание затрудненное. Гипоксия. Взяли бы телефончик брата. Он и венки продаст, и место на кладбище выбьет: тут важно, чтобы высоко было. Чтоб не подтапливало. Тут болота кругом. И еще хорошо, чтобы деревьев не росло рядом. Деревья корнями знаете что с захоронениями делают?
Он отодвинул бедром бабу Любу, которая уже плакала обильно и беззвучно, как по сыну, и помог водителю загрузить носилки с Серым в машину. В последний раз мелькнул посеревший профиль Серого: его брови были вскинуты домиком, а неживой рот приоткрыт.
– Ну так мы с вами? – попробовал впрыгнуть в машину Шульга.
– Нет. Только родственникам можно. По паспорту, – категорически отказал санитар. – И тело мы вам не выдадим после вскрытия. Только родственники. По паспорту. А то каждый будет приходить и трупы забирать, согласитесь? Так вот, говорю, два ведра соляры, и не тянет! Впрыск весь перебрали, так она еще и масло начала жрать!
Хлопнули двери УАЗа. Машина рванула с места, смешно поблескивая слабой синей мигалкой. Баба Люба взмахнула рукой, прощаясь с парнем, обкашивавшим ей траву возле дома. Она повернулась к Шульге с Хомяком.
– Пачэму прыяцеля сваево не зашчышчали? Пачэму атдали?
– Баба Люба, его врачи посмотрят, – объяснил Шульга. – Если смогут – вылечат.
– Эта не горад! – вскрикнула женщина. – Тут лечацца дома! Сами! А у бальницэ умирают! Дом – штоб лячыцца, бальница – штоб умираць!
Баба Люба вытерла слезы рукавом и молча потопала в свою хату. Ее молчание было пронзительней причитаний. Шульга с Хомяком впервые за все время остались один на один: два недолюбливающих друг друга человека, которых Серый, неумный Серый, мечтатель Серый, Серый, у которого всех разговоров было – про Брюса Ли и про Шаолинь, – сбивал в одну кодлу. Чувствуя, как стремительно исчезают темы для разговора, оба уселись по разные стороны той лавки, на которой еще совсем недавно лежал их товарищ.
– Красавице бы этой, с Октябрьского, пером на плечах «СУКА» вырезать, как когда зек с зоны приходит и видит, что жена другому дала, – напряженно произнес Хомяк.
На самом деле ему хотелось сказать: «Что ж ты, Шуля, такой умный, а Серого вон укатали, и ничего ты не поделал?»
– Так а хули теперь мстить? – равнодушно сплюнул Шульга. – Он выщипывал своей голой ступней пырей под лавкой. – Нам бы лучше подумать, как дальше быть. Где деньги искать. Должок за нами.
На самом деле Шульга думал: «Шел бы ты отсюда на хуй, Хомяк. Никакая мы с тобой не шобла. Вот когда Серый был – мы одной бражкой были. Все трое. А теперь – долг вроде один, а дел у нас с тобой общих нету».
– Просто жалко, что блядь эта еще толпу мужиков дыркой своей со свету сживет, – объяснился Хомяк, но словил неверящий взгляд Шульги, который действительно сомневался в том, что Хомяку может быть жалко каких бы то ни было людей. – Ну и плюс, может, если ей волосы поджечь, она бы Серого вернула, – добавил Хомяк.
– Серого не вернешь, – Шульга все рвал и рвал траву, обжигаясь крапивой и находя удовольствие в этом остром жжении. – Не вернешь Серого. Серого не вернешь. Если б можно было, баба Люба сказала бы. А эту – что копти, что вари: она только плакать будет и еще убедит, что не причем. Растрогает. И в кровать утянет.
– Может, можно Серого спасти? – спросил Хомяк, который действительно хотел спасти Серого. – Может, в Глуск поехать, свечку в церкви поставить? Чтоб свечка эта колдовство сняла?
– Нет, Хомяк, – травы под лавкой не осталось, и Шульга ковырял ступней землю, ломая ногти на пальцах. – Свечки за мертвых ставят. Если ее за живого поставить, то он только умрет быстрей. Не слышал, что ли, «за упокой»? Это если хочешь, чтоб бабка, например, твоя, когда лежит, помирает, кряхтит, просит, чтоб быстрей уже – вот тогда надо в церковь. Поставил свечку «за упокой» и все: на небесах бабка. Ножки свесила, улыбается.
– Я в религиозных вопросах не очень, – признался Хомяк. – А если, скажем, к попу явиться? Денег ему дать – все, что у нас есть дать – чтобы поколдовал? Поп же важный, у него вон церковь целая, «Мерседес», крест из рыжья. Он явно пизду эту с Октябрьского переколдует.
– Ты неверно себе представляешь расклад, – Шульга посмотрел на него с жалостью. Он не мог поверить, что существуют люди, которые до такой степени искаженно понимают духовные вопросы. – Поп он на после смерти нужен. Он что сейчас – не решает. Вот если будешь в церковь ходить, попов слушать, петь им там, как они просят, тогда после того, как дуба дашь – весь в ништяках окажешься. Все у тебя будет, как в церкви: золото, пахнет нормально, свечки. А чтоб мертвяка поднять или экстрасенса обезвредить – это мимо. Тут Кашпировский нужен. Но он в Америке. Брэда Питта от недержания мочи лечит. Нам бы лучше вот что. Нам бы план надо сообразить. Новый. Если бы рядом был Серый, Хомяк начал бы ныть о том, что все планы Шульги проваливаются, они бы поспорили, выясняя, кто из троицы более умный, в споре бы родилась идея, и в результате троица получила бы надежду. Но Серого рядом не было. Поэтому Хомяк выдавил:
– Не, Шуля. Ты не обижайся. Но это – без меня.
– Как без тебя? – без большого удивления переспросил Шульга.
– Сливаюсь я, короче.
– Как сливаешься?
– Съебываю отсюда. Нычку найду и ко дну. Зашкерюсь года на два. Пока искать не перестанут.
– Найдут.
– Не найдут.
– Эти – найдут.
– Да не найдут, Шуля! Один раз замоскворецкие полгода землю рыли – не нашли. Пока сам не сдался – не нашли. А хули? Деды наши – партизаны! Ховаться умеем!
– Хомяк. Вдвоем мы – сила. Вдвоем деньги добудем. А порознь – только ховаться. И все равно найдут, – Шульга уговаривал его без особого энтузиазма.
– Место здесь проклятое, – продолжил Хомяк. – Ты ж видишь. Русалки, колдуны, колтуны, ну его на хуй! Серого потеряли. Останемся – оба загнемся.
– Ты погоди, Хома. Наладится еще все.
– Не наладится, – уверенно сказал Хомяк. – Без Серого мы не бригада. А так – шпаница.
Шульга произнес задумчиво:
– А я, наверное, к колдуну вернусь. Упаду в ноги. Попрошу, чтобы повторил. Чтобы сам сходил, в конце концов, если по второму разу мне – никак, – он посмотрел на Хомяка. – Айда со мной. А?
– Нет, Шульга. Без меня. Шульга встал с лавки.
– Тогда пока, Хомяк.
– Тогда пока, Шульга.
Хомяк заскочил в дом, наскоро переоделся, взял спортивную сумку с надписью «Мукачево», бросил полный тоски взгляд на майку с олимпийскими кольцами, в которой, как он верил, мог ходить когда-то Путин, коротко кивнул приятелю, на которого эта майка была одета, и шагнул за калитку. Шульга проводил его взглядом.
– Стой! – крикнул он.
Подошел к Хомяку и порывисто приобнял его, похлопав по спине. Хомяк, опешивший от такого неожиданного проявления не существовавшей никогда между ними дружбы, похлопал одной рукой по плечу Шульги и поправил сумку, неожиданно тяжело, с металлическим звяком, ударившую того под ребра.
– Что у тебя там? – спросил Шульга удивленно.
– Да. Хлама всякого набрал. Ношу с собой, – отмахнулся Хомяк.
– Бывай, братан, – сердечно произнес Шульга. – Надеюсь, увидимся!
– Мы еще наворуем рыжья мешок и сверху кучку! – впервые за все время искренне улыбнулся Хомяк. Он надеялся, что Шульга в душевном порыве снимет майку Путина и подарит ему. Но Шульга не снял и не подарил.
Глава 21
– Вот, зырь. Сюда зырь, на клешню! Видишь перстак, на безымяхе? Мне его в оршанском ИТК набили. Прямоугоха, залитая сплошняком. Догоняешь, что значит? Нет? Ходок не было? Говорю, не сидел ни разу? Ни разу не сидел? Во-во – видно. Нормальный вроде баклан, а майка в штаны заправлена. Ты хоть знаешь, кто майку в штаны заправляет? А? Не знаешь? Колхозники! Ты б еще мобилу на шнурке на шею повесил. Фраерок, блядь! Это потому, что не сидел ни разу. У нас в нашем эсэсэсэре для мужиков две школы жизни. Там, на Западе, – колледжи-хуйоледжи, обсерватории и Монсеррат Кабалье. А у нас с тобой школы жизни две: зона и армия. Если бобер не сидел, ему в армии обычно мозг вставляют. А если бобер и не сидел, и в армию не попал, то вообще пиздец. Мы ж не на Западе! Это там – альтернативная служба, гражданское общество. А у нас если ты и нары не парил, и автомат не таскал, значит ты кто? Не мужик! Понимаешь? Не мужик! Так вот. Перстак. Про перстак я говорю. Ты не бойся, чего трясешься? Я ж за жизнь с тобой поговорить сел. Я б если хотел, я бы уже ебнул. Фиолетовая площадка на перстне означает, что я отбыл наказание от звонка до звонка. Понимаешь, что это значит? Нет? УДО не было. Рубишь, что такое УДО? УДО или «выхлоп» – это когда ведешь себя, как пионэр, зону подметаешь, мусорам улыбаешься. Тебя по УДО, условно-досрочке выпускают. Не, ну ты вообще как с луны упал. Феню не ботишь, мастей не читаешь. Тебя как вообще зовут?
– Маторышын.
– Что за имя?
– Ну, миня так усе знаюць.
– Откуда сам?
– С Барбарова. Трыццаць киламетрау ад Глуска. На Казаэсе работаю.
– Так зовут тебя как?
– Миша. Миша Маторышын.
– А чего говоришь, как колхозник? Что, сложно нормально говорить?
– У нас усе так гаварат.
– А в Глуске что за пасьянс у тебя?
– Падрад прыехау у испалком падписаць. Падписали ужэ. Можна дамой ехаць.
Беседа происходила в тени акаций, у неработающего фонтана, выявлявшего красоту глусского края изобразительными средствами позднего советского сюрреализма. Бассейн фонтана, выложенный бирюзовой плиткой, обильно порос травой. Когда-то здесь были брызги и шум струй, теперь фонтан напоминал скорей охладительный резервуар заброшенного атомного объекта: металлические трубки, символизировавшие деревья глусского края, заржавели и торчали, как сгнивший зуб из пораженной цингой десны. Аист, символизировавший красоту животного мира глусского края, потерял в лихие девяностые сделанную из латуни голову. Девушка, символизировавшая красоту людей глусского края, была сделана из менее ценного армированного бетона и потому сохранила свои плоские груди и каравай, который держала в руках. Но вандалы не пощадили черт ее лица, которые были безвозвратно утеряны.
– Дальше зыряй. На запяхи! Видишь браслеты? Их бьют тем, кто больше пяти лет нары парил. А вот тут четыре точки с точкой посередине. Между большим и указательным пальцем на ладони.
– У нас такия многа у каво. Мужыки сами сабе накалываюць: красива.
– Таких бобров, которые на зоне щи не ели и себе пятихатную накалывают, нормальные мужики обычно заставляют кожу ножом срезать. Потому что это ж не шутки! Это ж не «тату»! Это масти! А масти, Миша, это как у ментов погоны. Ну прикинь, если майор себя генералом снарядит. Ну пиздец ему сразу, согласен? По понятиям пиздец! Так и у нас. В нашем, Миша, мире. За шутки с мастями могут отвафлить. Точки эти значат, что человек парил в одиночной камере.
Румяный и загорелый Миша, с которым велась эта неторопливая беседа, очевидно страдал. Опыт подсказывал ему, что краткое введение в семиотику наколок закончится в лучшем случае отъемом какой-то части денег, в худшем случае – отдачей всех денег на добровольных началах. Поэтому он растирал пот под клетчатой рубахой, чесал себе макушку и искал способа убежать. Его собеседник, бледный, как плесень на тюремных стенах, покрытый дрянной редкой щетиной, оставлял впечатление ядовитого грибка, выросшего в сыром, прохладном месте. Он был одет в пиджак, который был ему очевидно велик, но зато делал плечи широкими. Под пиджаком была белая майка, которая легкой промышленностью выпускается с мыслью о бегунах, атлетах и других спортсменах, но в торговой сети востребована в первую очередь алкоголиками и деклассированными элементами. Майка выгодно обнажала миру часть наколок, покрывавших грудь, руки и шею говорящего с той же плотностью (и корявостью!), с какой стены иных сохранившихся первобытных пещер украшены древними наскальными рисунками.
– Считай купола на церкви! – приказал собеседник Мише, оттянув майку вниз и обнажив с размахом, на всю грудь, изображенный храм.
– Раз, два, тры, чатыры, пяць, – послушно посчитал Михаил.
– Пять куполов что значит? Пять куполов? Что? И тут мимо? Ну вы там даете в своем Барборово! Ни одного нормального мужика? Который мог бы масти читать? Пять куполов значат: пять ходок по пять лет. Пятью пять сколько?
– Дваццать пяць.
– Четвертной, Миша. Четвертной я на зоне отходил. А мне всего пятьдесят. Полжизни вертухали, бля. Паси, видишь, кот в сапогах на ноге изображен? Ну, да, ну, может, и не вполне на кота похож. Может, действительно, кролик. Но только усы есть? Есть! Шляпа есть? Есть. Значит, кот. Так ты думаешь, я от котиков млею, как целка розовая? Кот – шифруха! Братва – братве. Кот – «коренной обитатель тюрьмы». А вот здесь жук. Видишь, вверх ползет по руке? Жук это тоже шифруха: «желаю удачных краж». Деньги у тебя есть, Миша?
– Неа! Няма дзенег! Мне ишчо у Барбарова ехаць!
– А если найду? – собеседник наклонился к Мише и заглянул ему в глаза. Миша вдруг понял, что на следующие вопросы мужчины лучше отвечать правду.
– Ты хоть знаешь, Миша, кто я такой? А? Думаешь, к тебе тут алконавт парковый на лавке доебался? Я, Миша, смотрящий. Смотрящий по Глуску. Я тебе сейчас предъявлю, как меня зовут, и ты сразу обосрешься от того, с кем на лавке сидел. Приедешь в свое Барборово и будешь рассказывать про наше знакомство. И все будут не верить тебе. Так вот, Миша, я – Пятница. Слышал про такого? Как не слышал? Вы, блядь, там вообще охуели в Барборово? Может, синих собрать и к вам наяриться как-нибудь? На политинформацию, блядь? Я – Пятница. Я – смотрящий по Глуску. Меня тут любой мент, любой таксер знает. Не, ну ты охуел, Миша! Пятницу не знать! Видишь, Миша, магазин?
Пятница указал на стоящий недалеко дом с надписью «гипермаркет Каприз». Несмотря на кокетливое название, продавали в гипермаркете «Каприз» в основном чернила, водку, а также запечатанные в пластик готовые салаты, которыми пиво и водку можно было закусывать.
– Эти коммерсанты – подо мной. И те коммерсанты, в киоске, – тоже подо мной. Весь город, Миша, подо мной. Потому, что я – Пятница. Меня тут все знают. Менты у меня сосут. Исполком у меня сосет. Коммерсанты у меня сосут. Все у меня сосут, Миша! Потому, что я – смотрящий по Глуску. Общак на мне, разборки – на мне, суд чести воров – на мне. Сейчас, Миша, мы пойдем к коммерсантам и возьмем у них выпить и поесть. Чтоб ты не думал, что к тебе алконавт парковый доебался. Я в Глуске в любой комок могу зайти и взять все, что хочу, понял?
Собеседники встали и направились к магазину «Каприз». По пути Пятница продолжил экскурсию в художественный музей, располагавшийся на его теле. Он распахнул пиджак и приподнял майку на боку, обнажив искусную контурную татуировку девицы с остановившимися, как на картинах у Арнольда Бёклина, глазами. Барышня была изображена в анфас, с одним преклоненным коленом. Лобок она игриво прикрывала ладонью. Груди у нее были такими большими и пышными, какими могут быть груди только на татуировке, набитой в местах, где о женской груди коллективно мечтает большая группа мужчин. Обнаженное тело было увито змеей.
– Эта клава значит: «Искушен с юных лет», – гордо сказал Пятница. – Проходи вперед.
Они нырнули в залитое ярким светом пространство гипермаркета.
– Здраствуйте, Пятница! – сказала молоденькая продавщица.
– Поал! – важно ткнул Мишу в бок Пятница, возгордившийся оттого, что с ним поздоровались.
Уголовник увлек своего нового деревенского знакомца вглубь торгового зала и тут заговорил быстро и шепотом.
– Так. Берем два пузырика беленькой, «Два бусла». Не, лучше «Пшеничную»! – Пятница стремительно снял водку с полок и вручил Мише. – Давай, не тормози, блядь!
Он жестами показал, что водку нужно засунуть под брючный ремень и прикрыть бутылки сверху рубахой.
– Так, ну и закусь, закусь, закусь. Вот. «Филе сайры в масле»! Нормально! Берем!
– У штаны пихаць? – переспросил в голос Миша.
– Блядь! Чего ты ревешь? – шепотом отчитал его Пятница.
– Так а зачэм прятаць водку и кансервы, если тут тибе усе далжны? Узяли бы и пашли как людзи! – недоумевал труженик земли.
– Тут камеры наблюдения кругом! – объяснил Пятница. – Им потом учредителям как объяснишь? Что приходит Пятница, берет все, что хочет? Они ж не в курсе! Учредители-то.
– А пачэму ани не у курсе? – вытянул голову Миша, ища камеры наблюдения.
– Потому, что они в Минске, они далеко. А этим надо в Глуске работать. Со мной о крыше кумекать. Давай, пошли, мимо кассы и на выход!
– Так а пачэму я усе несу? – опять громко, в голос, спросил Миша.
– Блядь, тише говори! – шикнул на него Пятница. – Ты вообще рот закрой, выйдем, я тебе на улице на вопросы твои отвечу!
– Так пачэму? – переспросил Миша шепотом.
– Потому, что я – Пятница, – одними губами повторил Пятница. – Я – смотрящий по Глуску. Не хуй мне больше делать, как самому водку выносить!
Процессия двинулась к выходу из магазина.
– А вот это, – нарочито громко заговорил Пятница, метая быстрые взгляды по сторонам. – Олень, видишь, на левой клешне. С надписью «СЕВЕР». Это со второй ходки моей. Еще при Союзе. Я в Уренгое отбывал. Эту композицию называют «Северный олень».
На выходе случилось непредвиденное. Рядом с чахлой, как полевые цветы Глусского района, продавщицей стоял одетый в черную майку и черные брюки мужчина, грудь которого была осенена бэджем «Охрана». На брюках мужчины ясно различались стрелки, которые хорошо бы смотрелись с галстуком, но выглядели странно и даже угрожающе в сочетании с майкой. Мужчина спортивно покачивался из стороны в сторону и хрустел шейными мышцами, разминая тело, как будто перед дракой.
– Так, орлы, оба к кассе, все из карманов, руки на прилавок, – скомандовал он.
– Я – Пятница, – нагло заявил Пятница.
– Повторяю, – не обращая внимание на реплику, сказал мужчина. – Оба. К кассе. Все из карманов. Упор ладонями на прилавок.
Миша, оробев, вытащил из-за брючного ремня две бутылки водки и банку консервов «Филе сайры в масле».
– Он заплатит! – быстро объяснил Пятница. – Мы просто корзинку не брали, поэтому думали пронести.
– Опаньки! Мелкая кража, – хищно двигал плечами мужчина. Он стал переминаться на месте, как боксер во время схватки. – Стоим здесь. Ждем милицию.
– Так он заплатит! Какая кража? – вскрикнул Пятница.
– В участке разберутся, – обещал охранник.
– Ты ж мне сказау, что ты сматрашчы! Што цибе камерсанты усё даюць! – закричал Миша.
– Иди на хуй! – вполголоса ответил Пятница. Он сделал по-кошачьи аккуратный шаг к двери.
– Стоим здесь, ждем милицию! – рявкнул ему охранник.
– Да какая, на хуй, милиция! – закричал на него Пятница. – Я тут при чем? Зыркалы свои разуй! Я – чистый, у меня не было ничего! Крестьянина этого оформляй!
– Сто-им здесь! Ждем! Ми-ли-цию! – охранник набычился.
– Слышь, ты, блядь! Петушок, блядь! Мне с мусорами общаться не в дугу, понял? У меня пять ходок было, шестая на хуй не нужна. У меня блядь легкие в «Волчьих норах» остались! Трамбуй этого крестьянина, а меня не трожь! Съеби в сторону, дай выйти, блядь!
– Стоим здесь. Ждем милицию, – прошептал охранник, сдерживаясь, как видно из последних сил.
– Тебе предъявиться, блядь? Я – вор в законе. У меня паук и эполеты, – Пятница спустил пиджак и показал наколку на плече, изображавшую нечто похожее на расшитый золотом гусарский погон. – Если ты мне! Выйти! Сейчас! Не дашь! Тебе – пиздец! Пиздец тебе, сука!
Он уверенно двинулся к выходу, прямо на мужчину с бэджем «Охрана», и тут чахлая, как полевые цветы, продавщица ойкнула, потому что звук кулака, врезающегося в челюсть, был резким и неприятным, с явным костяным прихрустом: лязгнули зубы, грохнула стойка с чипсами, которую сбил летящий Пятница. Вообще, звуков у этого удара было много, а заметить никто ничего не успел. Вот, вроде долю секунды назад покрытый наколками мужчина, выпятив вперед лоб и сжав кулаки, шел на одетое в черное спортсмена и потом сразу – вокруг разбросанные чипсы из взорвавшихся пакетов, гора свалившихся с полок круп, и из-под них сучат по полу две ноги.
Охранник поправил перстень-печатку на среднем пальце и размял ладонь. Пятница встал на ноги, покачнулся, взялся за стенд с маринованными огурцами. Распахнул пиджак. Полез во внутренний карман. Достал большой пистолет, в котором эксперт безошибочно опознал бы Тульского Токарева, известный также как «ТТ». На стволе у пистолета была длинная царапина. Навел пистолет на охранника.
– Пиздец тебе, петушок, – сплюнул он кровью. Правая часть лица не двигалась, десна стремительно увеличивалась в размерах, подпирая щеку. На скуле осталась борозда от перстня. – Пиздец тебе. Пиздец, – он помотал головой, пытаясь преодолеть головокружение. – Так блядь. Как тебя там. Миша. Миша, блядь. Миша. Снимай штаны, доставай залупу. Сейчас мы петушка вафлить будем. Ты, блядь, становись на колени. На колени. Блядь.
Охранник, не до конца осознавший то, как стремительно поменялись их роли, продолжал стоять у дверей, массируя ушибленную ладонь. Он напрягся, смотрел внимательней, но еще не успел испугаться.
– Что смотришь, зайчик? Давай, блядь, на колени. И губы разминай, сука! Сейчас сосать будешь! Блядь, Миша, снимай штаны! Штаны снимай, сука!
Ни Миша, ни охранник не спешили исполнять приказы Пятницы, но спортсмен в черном уже начал понимать, чем все может обернуться, и сделал шаг назад, к дверям.
– Так, от двери отошел! Быстро, блядь! – крикнул Пятница. – Чего стоим? Чего не слушаем вора? Вы что, петушки? Вы, блядь, тюрьму не уважаете? – он надавил на кнопку в рукоятке и высвободил обойму. Вывернул ее торцом и предъявил – сначала охраннику, потом Мише. – Боевые! Блядь! Оба смотрите! Боевые! Не газ! Не травма! Боевые! С пулями! У тебя между глаз влетит и затылком твоим тут все забрызгает! Отошел сказал! – его голос набирал истеричную силу.
Охранник медленно сделал несколько шагов в сторону прочь от входа в магазин. Пятница занял его место у двери, попеременно тыкая оружием то в Мишу, то в него.
– Так. Если ты сейчас хуй не достанешь – стреляю между ног! До трех считаю! Ты, блядь, на колени стал! Быстро!
Охранник пошел красными пятнами, согнулся пополам, подогнул ноги, но пока не опустился на колени, а скорей присел, сполз вдоль кассового стенда.
– Три! Блядь! Блядь! Думаете, не шмальну! Да мне похуй! Мне в тюрьме по малолетке башку пробили! У меня пластина железная и справка из психбольницы! Белый билет! У меня две мокрых ходки! Положу тебя, а тебе просто яйца отстрелю! Дадут десятку! И хули! В тюрьме кормят хотя бы! Уважают! Суки всякие не чморят! Вору в тюрьме умереть почет и слава! Два!
Михаил торопливо расстегнул ремень на брюках и ослабил ширинку.
– Штаны снял! Полностью! И трусы! – Пятница направил ствол между ног Мише. Это подействовало мобилизующе: вообще, как показывает практика, очень малый процент мужчин остаются невозмутимыми в момент, когда на их половые органы направлен ствол огнестрельного оружия. Крестьянин трясущимися руками оголил бедра. В шерсть между его ног вжимался окаменевший от ужаса член.
– Теперь ты! – повернул Пятница ствол на спортсмена. – На колени стал! Не присел, а на колени! Рот раскрыл, язык наружу! Сей.
На этот раз удар был влажным и негромким. Быть может, – оттого, что приклад автомата Выхухолева встретился с затылочной частью головы Пятницы, а не с его челюстью, как это было, когда бил спортсмен. Дернувшись резко вперед, Пятница устоял на ногах, поднял пистолет вверх, как будто хотел почесать дулом у себя за ухом. Его лицо приняло задумчивое выражение. Он был похож на человека, который вспомнил какой-то нюанс, о котором совсем позабыл накануне. Потом он начал оборачиваться, вытягивая оружие перед собой, готовясь, видимо, к перестрелке, но так, в обороте, и рухнул в полный рост.
– Убит? – спросил Миша в ужасе.
– Да где там! – отмахнулся Выхухолев. Пощупал пульс, похлопал уголовника по щеке. – В глубоком вырубоне.
Он вальяжно поднял с пола пистолет, которым размахивал Пятница. Осмотрел его. Нахмурился. Произнес, как в трансе: «Тульский Токарев. Тульский Токарев. Вот это поворот. Хотя логично. Логично!» Выхухолев повертел головой вокруг так, как будто у него только что открылись глаза, а до этого он жил во тьме и не понимании. Открывшиеся глаза Выхухолева увидели раскрасневшееся личико чахлой, как полевые цветы Глусского района, продавщицы. Она смотрела на Выхухолева с восхищением. Так, наверное, советские женщины смотрели на майора Пронина. Впервые за долгое время Выхухолев почувствовал в районе диафрагмы щекочущее касание гордости за то, что служит в органах.






