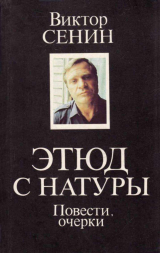
Текст книги "Этюд с натуры"
Автор книги: Виктор Сенин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Степан глубоко затянулся, сигарета разгорелась, высветив его костлявые, узловатые пальцы, худое лицо. Я ожидал продолжения разговора, и Степан, бросив окурок, повел его, несколько сбиваясь и спеша. Словно боялся, что услышит кто другой.
– Бабка у нее красавица была. Многие сватались, а она полюбила колхозного конюха. Отец наш, Михаил Дмитриевич, бедовый был. На кулачки выйдет, рассказывали, или в круг плясать – первый. Поженились, значит, родился я, а потом Мария, мать Ани. А тут война, немец прет к Ленинграду без остановки. Ушел батя биться да в боях за Синявинские высоты голову и сложил. После войны ездили на могилку. Теперь на том месте обелиск, фамилии золотом выбиты…
Матери после войны и годов было столько, сколько сегодня Аньке. Разруха, голод, а ее вроде и не берет горе, красивая, только тихая. Помнили мы, как пела, смеялась, а похоронку получила – словно онемела. На работу, с работы – молчком. Набедокурю, она посмотрит на меня да в слезы: «Был бы жив отец…» Лучше бы побила.
И вдруг пополз слух, связалась, говорили, с бригадиром да и наградила его какой-то стыдной болезнью. Я уже большой, в девятый класс бегал. Среди пацанов, известно, тайн нет. Докатилась брехня и до меня. Как услышал, дара речи лишился, озверел. Обидчика едва живого увели, вырвав из рук моих. Бил, не разбирая куда, и боли не чувствовал, руки после драки распухли, как лепехи.
Но это только присказка. Встретила нашу мать жена бригадира, подластилась лисой, на чай позвала. Мать ничего не заподозрила, согласилась, может, намереваясь прояснить истину, на свет правду вынести. Многие и не верили в сплетню. Знали: бригадиру соврать, что плюнуть. Был у него, верно, заход, пробовал в наш дом через окно залезть. Только таким макаром и выскочил. Синяки неделю примачивал. Не пошла впрок наука, похваляться возле магазина начал, что приветила будто мать наша, сменила гнев на ласку. А тут и мать, разговор, конечно, услышала.
К стене магазина вилы были приставлены, зубья до блеска выбелены. Мать – за вилы да ими бригадира к стенке: «Лазил ты ко мне в постель, говори, подлюка?» Перепугался бригадир до смерти, признался, что врал, наговаривал. «То-то же…» И отбросила вилы. Попробовал бы упорствовать – точно, вогнала бы вилы до черенка.
Может, со злости бригадир и ляпнул про болезнь и откуда она… Так вот зашла мать в его дом с миром, а бригадирша с бабами взяли и остригли мать, чтоб на позор выставить. Со стыда да отчаяния убежала мать в лес и повесилась. Успели, к счастью, из петли вытащить, в больницу отвезли.
А правда вскоре сама собой всплыла. Председатель колхоза, – у нас тогда еще был колхоз, – узнав о происшествии, завернул к бригадиру, увидел злыдня во дворе да и скажи напрямик: «Повесилась Игнатьевна, позора не стерпела. Да чтоб такая женщина на пакость пошла… Следствие установит, милиция скоро будет!»
Бригадир подхватился, забегал по двору и давай жену честить последними словами: «Курва разэтакая! Не виновата она вовсе! Не виновата! Набрехал я… В Ленинграде, когда ездил, у знакомой бабенки и заночевал…»
После бригадиру этому колом ребра-то пересчитал. До суда дошло, да колхозники заступились. А бабка Ани не много пожила на этом свете, чахнуть начала. Летом в теплый платок куталась, все ей холодно… – Степан зашуршал пачкой, достал сигарету, чиркнул спичкой нервно, потом еще раз. Огонь вспыхнул, выхватил из темноты Степана, угол крыльца, ветви яблони. – Такая она, жизнь, мать ее… За гриву норовишь вцепиться, а она тебя копытом, копытом…
Ночевал я с Аней в светелке, но уже на одной кровати. Изнемогая от объятий и ласк, Аня лежала на моей руке.
– Заманила тебя в свои сети, не испугался ли?
– Ничего я не боюсь. Ты первая моя любовь. И последняя…
Долго молчала, притрагиваясь губами к ямочке у меня на подбородке.
– Тогда и я ничего не боюсь… Рожу тебе ребеночка и успокоюсь.
– Будет сын или дочка. – Искренне верил, что по-иному и быть не может. – Сын – Вадимом назовем, а дочка – Аленой.
– Обними меня. Крепче…
Словно ребенок, она хотела укрыться, защититься от окружающего мира. Предчувствовала беду, что ли?
Перед ноябрьскими праздниками опять неожиданно позвонил Николай Синягин.
– Привет, старик! Верно то, что говорит о тебе Тося?
– Что же Тося говорит? – ответил я сдержанно, закипая злостью, как это бывало давно, когда Николай подначивал Гришина. В те минуты я не любил Синягина. Если не доходило до скандала, то лишь благодаря Анатолию.
– Да чушь, бред сивой кобылы! Будто ты собираешься жениться на Ане.
– Так оно и есть. Женюсь…
На другом конце воцарилось молчание.
– Ты чего замолчал? – спросил я.
– Думаю, не сдурел ли часом? Ты знаешь ее? Знаешь?
– Что-то не пойму твоей запальчивости.
– Да у нее перебывало… Тося рассказывала случай?
– Какой еще случай?
– Ну, когда она у меня с подругой первый раз ночевать осталась! С подругой этой я и ушел!
– Одни болтают, а ты, как баба, сплетни собираешь…
– Болтают? Предупреждаю, дурак! Если хочешь знать, подруга та… Анька и есть!
Трубка в моей руке от удара разлетелась на куски.
К Ане я в тот день не поехал, хотя и обещал. Она, конечно, звонила не раз, но я не отвечал. У меня дурное правило: когда на душе кошки скребут, ложусь в постель и стараюсь как можно скорее уснуть. Я разделся, лег и укрылся с головой одеялом.
Не позвонил и на второй день. Лишь к вечеру снял трубку.
– Что-нибудь случилось, Андрей? – спросила она обеспокоенно.
– Работы очень много…
– Но позвонить мог? Сказал бы, что занят. Я ведь не отходила от телефона.
Укоризна, с какой произносила эти слова, не понравилась. Не муж, а уже отчитывает. Хотя и понимал, что права Аня. Труда большого не составляло снять трубку, набрать номер и сказать, чтоб не ждала. Искал повод для оправдания и не находил.
– Завал в лаборатории… Разберусь немного – сразу позвоню…
– Поговори со мной.
– Некогда, Ань. Должен посидеть над отчетом. Сдавать завтра, а я не проверил.
– Ну ладно, мой дорогой. Целую тебя и жду.
Звонить не возникало желания, образовалась какая-то пустота в душе. Не хотел ни слышать, ни видеть кого бы то ни было. А тут и впрямь работы привалило, зашились с темой. Группа оказалась в тупике, а заказчик поджимал. Мы засели за расчеты, производили повторные исследования, проверки и задерживались до позднего вечера. Приходил домой усталый, с гудящей от лабораторного шума головой.
Аня металась, не находила выхода в создавшемся положении. Виноватой себя ни в чем не считала, дурного не подозревала, а неизвестность пугала. Порывалась ехать ко мне, но я останавливал, чем доводил ее до слез. Последнее раздражало, переходил на крик.
– Ты меня мучаешь, Андрей. Что произошло? Ты вдруг переменился, чужой…
– Не бери за горло! – взрывался я неведомо почему. – Ты меня за собственность считаешь.
– Будешь разговаривать со мной в таком тоне, я положу трубку.
– Мне надо побыть одному, разобраться во всем.
– В чем разобраться, в чем? Ты разлюбил меня? Скажи, разлюбил?
– Опять за горло…
– Прости, не буду донимать глупыми вопросами. Андрей, ты дорог мне. Я не смогу теперь без тебя. Не смогу!.. Скажи хоть, что случилось?
– Ты с Николаем встречалась? – выпалил я то, что все время мучило и терзало меня.
Она долго молчала. Даже испугался: как бы в истерике чего не натворила там.
– Встречалась?
– Вот ты о чем… – ответила наконец упавшим и постаревшим сразу голосом. – Вот о чем…
И положила трубку.
Первый мой порыв – немедленно ехать к ней. Попросить прощения, выяснить все и забыть. Ну, произошла глупость, если верно говорит Тося. Но нельзя же вот так обрывать все концы! Где же великодушие? Когда мы научимся понимать, выслушивать? Попадет шлея под хвост, закусим удила и несемся вскачь, ничего не слышим и не видим. Есть только наше задетое самолюбие, наша боль. А боль других, страдания, причиненные муки, крушение надежд? Принимать это во внимание или нет? Идти, не оглядываясь, по головам, лелея собственную боль, как раненую руку, остужая сердце, порождая неверие?
Аня не позвонила. Я метался по квартире, потерял интерес к работе, отбывал время в лаборатории как по принуждению. Посматривал на часы, зло чертыхался, – стрелки замедляли ход, казалось, примерзли к циферблату.
На третий день не выдержал такой пытки, уехал к ней. Брошусь к ногам, извинюсь за такое сумасбродство. Поругает, поплачет и простит. Конечно, простит. Нельзя же из-за ерунды ломать жизнь, лишать самого дорогого. Глупо получилось, уязвленное самолюбие заговорило, затмило здравый смысл. Должна Аня это понять и поступиться гордыней. Да и оправдание у меня есть: как должен был действовать? Махнуть рукой? Не тряпка же…
Аня сразу открыла дверь, словно все эти дни стояла и ждала моего прихода. Боже, как она изменилась! Глубокие тени под глазами, лицо побледневшее, осунувшееся, а главное – ее глаза… Скорбные, потухшие, как зола костра. В них уже не светились искорки.
– Прости меня, прости! – Я опустился перед ней на колени, обнял ее ноги, целовал руки, которые держала она безвольно опущенными.
– Встань, – попросила, – а то я заплачу сейчас. – Встань… – Сама попыталась поднять меня, но уронила руки и, не в силах совладать с собой, разрыдалась.
– Выбрани меня, побей, а нет – выгони!
– За что, Андрюшенька? Ох, горюшко ты мое…
– Сядь в кресло свое. Я погляжу на тебя.
– Наболтала, значит, подружка, а дружочек яду подсыпал. Вот, голубок ты мой сизокрылый, не зря люди говорят: избави меня, господи, от друзей, а от врагов я сам избавлюсь. Не быть нам вместе…
– Не мучай меня! – выкрикнул я. – Словно живого хоронишь!
– Поболит, поболит и забудется. Все проходит. Это поначалу нестерпимо. Успокойся, ясноглазый мой, не убивайся, единственный… Садись и ты, дай поглядеть на тебя. Как ни распорядится судьба, а я буду благодарить ее до конца дней. Счастье хоть и мимолетное, а коснулось меня…
– Нельзя же из-за глупости все рушить!
– Нельзя, конечно. Только за те дни, что не давал знать о себе, оборвалась во мне от боли какая-то жилочка. Не выдержала я тяжесть такую. Вот здесь саднит и саднит, – она прижала ладошку к груди, – словно выстудили там…
И заплакала горько, безутешно. Плач ее рвал мне сердце, не давал дышать. Тугой ком подкатил к горлу и застрял, как я ни пытался его пересилить. «Подлец я, какой подлец! – думал я. – Растоптал мимоходом самое святое, что может быть даровано человеку раз, не хватило ума понять. Теперь не возвратить то, что было между нами, что волновало и радовало…»
– Успокойся, погоди, – просил ее, готовый сам заплакать. – Глупость и ревность подкосили… Дурак я, дурак!
– Ах, Андрюша, Андрюша… Поверил сплетне, а меня не спросил. Верно, увязался твой Николай в тот вечер за мной. Гарцевал, что жеребец необъезженный. Только я и на порог не пустила. Противно было, что он Тосю так легко бросил. Как же, другая смазливей… Нет, Андрюша, не было до тебя мужика в этом доме. Видно, уж теперь и не будет… Несчастные мы, красивые да статные. Вроде птиц с подрезанными крыльями. Надумает какая взлететь, а не может, тут же и ударится о камни. Преданные, на все готовые, отца-мать позабудем – только бы кто дорожил да верил, ласковым словом не обделил…
К вечеру Аня все же взяла себя в руки, привела в порядок, в зеркало посмотрелась. И я обрадовался, когда сказала вдруг:
– Андрюш, а чего мы сидим в темной квартире? Съездим куда-нибудь, а?
– Конечно, поехали! Хочешь, в ресторан, потанцуем…
– На взморье хочу. Есть у меня одно местечко… В дорогу только возьму чего-нибудь.
Пока хозяйничала, кипятила кофе, я сбегал в гараж, подогнал машину.
– Позволь, за руль сяду, – сказала просительно. – Развеюсь быстрее, а то сама себе противна.
Низко ползли сизые тучи, накрапывал дождь, глянцево блестел мокрый асфальт. Поля почернели еще больше, лежали пустые и голые. Жухлая трава по обочинам напоминала свалявшуюся овечью шерсть. Леса тоже почернели, находились в ожидании, когда ударят морозы, скуют разбитые дороги. Зазвенят комья под колесами телег и гусеницами тракторов, как железные. Глядишь, полетят белые мухи.
За Осиновой рощей, где пост ГАИ, Аня свернула налево, и мы покатили дальше, но сбились с пути, пришлось возвращаться к поселку, расспрашивать дорогу на Солнечное. Нам указали путь и велели никуда не сворачивать, так и держать до нового поста ГАИ. Ехали молча, только «дворники» мельтешили и мельтешили перед глазами, словно стремились отогнать невеселые думы.
На развилке дорог постовой ГАИ, кутаясь в мокрый плащ, переспросил, куда нам надо.
– На Солнечное? Проедете километров пять, сворачивайте вправо и на переезд.
Мы последовали совету, приехали вскоре в Солнечное, свернули на железнодорожный переезд и оказались возле пляжа. Кругом было пустынно, ни одной живой души. По асфальту от Зеленогорска проскакивали одиночные машины, наши и финнов. Оставив на площадке «Жигули», дальше пошли пешком.
Песчаный берег залива был безлюден, только ветер налетал с моря да шумел прибой. Желтый песок пляжа хранил еще следы ног, но дожди прибили их. Местность, казалось, в оспинах.
Остановились возле маяка. Сюда свезли скамейки и столики, свалили в кучу. Только одна скамейка-качалка сиротливо мокла в стороне брошенная, ветер раскачивал сиденье, и ржавая цепь поскрипывала, словно жалуясь.
Безумолчно шумело море, глинистые волны набегали на песок и откатывались, оставляя кучи камыша с кугой вперемежку, куски досок. Среди выброшенного мусора лежали обтертые волнами и песком обломки бревен, валялись из-под пасты банки для чистки фаянсовых раковин и кафеля. Казалось, где-то далеко произошло кораблекрушение и остатки мачт, обшивку бортов притащило сюда. Как и полузанесенный ящик с надписью на боковой стенке:
Электроды
ЭПС-52
Брутто 36 кг
Нетто 35 кг
Где-то шла другая жизнь, полная солнечного света, говора, а здесь уже конец земли, тишина и запустение. Шум волн успокаивал, как бы играючи море бросало под ноги свои безделицы, оставляло невесть откуда взявшуюся бересту, пенопласт.
Верилось и не верилось, что на пляже не так уж и давно бегали загорающие, играли в волейбол, лотошники торговали лимонадом и мороженым, здесь назначались встречи, звучал звонкий смех, смуглотелые женщины лежали и прохаживались, а мужчины наблюдали за ними, восхищались и вздыхали. Здесь все было в постоянном движении, а море казалось ласковым и шаловливым. Теперь вокруг запустение, сырость и холод. Только море и оставалось, с его безумолчным ворчливым прибоем, без единого паруса и крика чаек. Было грустно и тягостно. Я не знал, что прощаюсь с любимой навеки. Срывался дождь, моросил и моросил.
Аня выбрала место в затишке, у самого маяка, где несколько скамеек стояли, составленные друг к другу, а между ними сиротливо возвышался столик. Достала из сумки термос с кофе, еще теплые запеченные в тесто сосиски, плоскую бутылку коньяку.
– Мне сегодня можно, а ты говей. Поведешь машину.
– Вот и гость пожаловал, – сказал я.
Подошел большой пес, отряхнулся и сел напротив. Ветер задирал его отвисшие уши, пес отворачивал голову, но тогда не видел нас. Нашелся, пересел, где не так дует. Я бросил ему кусок пирога, пес понюхал и не пожелал есть.
– Не голодный, значит, – сказал я ему. – Выходит, ты не бездомный, а бродяжка и попрошайка. Привык тут за лето…
Пес смотрел на меня и помаргивал: мол, говори-говори, а я помолчу. Потом перевел взгляд на Аню, склонив голову слегка набок, разглядывал ее долго, словно силился понять, какая собака пробежала между нами. Чтоб не допытывался, я отломил ему кусок сосиски. Пес тут же проглотил, не пережевывая, и подсел ближе.
– Нет уж, больше не получишь. Сосиску и я хочу.
Аня заулыбалась и провела ладонью по моей щеке. Я задержал ее руку, поцеловал. В ресницах Ани блеснули слезинки. Она отвернулась и засмотрелась на море.
– Как быстро пролетела осень! Зима скоро, долгая и холодная… Не пережить, кажется…
Сгущались сумерки. Море совсем потерялось, только прибой, накатываясь и накатываясь, шумел ровно и размеренно.
Пора было уходить. Я собрал остатки еды, уложил в сумку термос и начатую бутылку коньяку.
– Пьяненькая, – засмеялась Аня. – Поддерживай меня. И выпила рюмку всего…
В дороге настигла нас ночь. Я вел машину, лучи фар выхватывали из темноты одиноко стоящие у дороги деревья. Стелилась и стелилась под колеса белая лента асфальта. И казалась бесконечной.
Аня тихо спала на моем плече. А может, просто сидела закрыв глаза и думала горькую думу…
ОДИНОКИЙ ПЛАЧ РЕБЕНКА

Дневной свет пробивался сквозь плотно зашторенное окно, с улицы доносился размеренный гул давно проснувшегося города. В сумраке проступала обстановка номера, стандартная для современных дешевых гостиниц: пластмассовый фонарь под потолком, стол с лампой, полумягкое кресло, поодаль журнальный столик, а на нем – графин с водой и два тонких стакана, простенький трехпрограммный радиоприемник. Скрашивала унылость одноместного номера линогравюра на стене – городской пейзаж с видом на Москву-реку.
Пора было вставать, но Глотов медлил, спешить в министерство нет надобности, суббота, а чем занять выходной – не знал. Знакомых в Москве не имел, слоняться по городу в толпе приятного мало, да и не любил толчею. Однако и сидеть в гостинице поднадоело, неделю в командировке. Глотов с досадой представил маету одиночества, он не привык попусту тратить время, и обилие такового теперь угнетало.
Валяться в постели, глазеть на экран телевизора, запершись в номере, конечно, тоска смертная. «В Третьяковку, может, съездить? Не заглядывал со студенческих лет, – подумал Глотов и даже приободрился. – Впрямь неплохая идея – вместо того чтобы блуждать по улицам и тупикам, посмотрит картины. Столько годков пролетело…»
В Москву он приехал тогда после второго курса, увлекался фотографией, не побывать в Третьяковке после Русского музея и Эрмитажа было грешно.
До сих пор хранятся в семейном альбоме фотографии картин Васнецова, Сурикова, Крамского. Старшая дочь попросила купить альбом да и наклеила уголками фотокарточки, какие хранились в коробке из-под обуви. Поразила Глотова в Третьяковке картина Иванова «Явление Христа народу» размерами холста и тем, как написаны фигуры. А еще полотно Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Даже страх сковал, словно сам невольный свидетель случившегося в государственных покоях. Обезумевший царь, только что ударивший тяжелым посохом сына, упавший перед умирающим на колени, поднял тяжелеющее тело царевича, прижимает к себе в ужасе, целует сына в голову и, зажимая рукой рану, пытается остановить льющуюся кровь.
Мало понимающий в живописи, в общем далекий от нее, Глотов тогда был ошеломлен и подавлен запечатленным отчаянием отца, свершившего в приступе гнева зло, осознающего непоправимость содеянного. Смотрел и не мог оторвать взор от того, как слабеющей рукой сын утешает родителя, доверчиво склонил голову ему на грудь, прощает… И лужица крови на ковре…
Захотелось посмотреть на полотна столько лет спустя, интересно даже стало: какое пробудят ощущение? Может, останется равнодушным, пройдет мимо – с возрастом притупляется восприятие, охладевают чувства. То, что волновало прежде, кажется незначимым и пустым, не вызывает восторга и удивления. Жизнь помяла изрядно, верно, научила трезвости и расчету. К сорока годам понял Глотов, что мир нельзя перевернуть, надо принять его таким, как он есть, либо взорвать. Переворачивать мир он не собирался, но и подводить черту рано: дочек обязан поставить на ноги, замуж выдать.
В командировку Глотов напросился. Ехать в Москву должен был другой сотрудник, но Владимир пошел к начальнику отдела и заявил, что поедет сам.
– Ты сектор оголяешь! – ответил начальник отдела. – На кой ляд тебе переться?
– Отпусти, войди в положение.
– Какое еще положение? Конец квартала на носу, а он выпендривается. Прогуляться, видишь ли, надумал.
– Отпусти, прошу тебя…
Начальник видел, что с Глотовым происходит что-то неладное, лезть в душу не решился и уступил:
– Катись к чертовой матери!
Надо сказать, охотников ехать в столицу было нелегко сыскать. На суточные там не проживешь, доплачиваешь из своего кармана. И бегать по министерским кабинетам, высиживать в приемных радости мало. Иное дело, когда посылают к заказчику – на вокзале тебя встретят, о гостинице позаботятся. В Москве ты проситель и горемыка, кланяешься и выпрашиваешь необходимое объединению, а у заказчика – хозяин положения. Волен согласиться с мнением, пойти навстречу, вправе и отвергнуть, указав на загруженность, изменившуюся ситуацию. Вот почему просьбе Глотова даже обрадовались в отделе, пусть едет на здоровье.
Поездка Глотову была тоже в радость. Обстановка в доме для него становилась невыносимой, он задыхался в стенах квартиры, готов был уйти куда глаза глядят, только бы не видеться с женой. Самое постыдное – ложиться с ней в одну кровать. Разругается, дверью трахнет, а деваться некуда, не на лестнице же ночевать: в одной комнате дети, в другой – он с Мариной. Себя презирает, ее ненавидит, а спать приходится под одним одеялом.
На работе Глотов забывался, чувствовал свою необходимость. Он охотно всем помогал, убеждал в прогрессивности новых технологий, которые внедрял отдел в цехах. И ему верили, потому что не только теоретически знал производство и сборку машин для выпуска химических волокон – собственными руками прежде собирал их электрическую часть, каждый узел мог разобрать и собрать с закрытыми глазами.
Уходил в конце дня из отдела в добром расположении духа. Ехал в метро, строил планы на завтра, но выходил на своей станции и настроение портилось. Представлял, как встретит жена – поблекший от стирки ситцевый халат тесноват и оттеняет располневшую фигуру, выпирающий живот, – и пробуждалось глухое недовольство, рождалась раздражительность.
Повторилось все точь-в-точь и в последний раз, когда они поссорились. Встречаться с женой не хотелось. Глотов долго сидел в скверике, раздумывал, проклиная судьбу. Как-то складывалось у него все неудачно. Пока учился на вечернем отделении Политехнического института, бедовал, во всем себя ограничивал. Он любил природу, мечтал съездить на Кавказ, а город не отпускал, затягивал водоворотом однообразных будней, безденежьем. Другие могли плюнуть и порвать с надоевшим укладом, сменить профессию или бродяжничать. Глотов не мог этого сделать, – обязан был кормить семью, тянул лямку и переставал замечать течение жизни, но потом словно просыпался, осознавал тусклость своего бытия, метался как затравленный до тех пор, пока озлобленность на мир, на удачливость других не сменилась жалостью к себе.
Странно получалось: он подал заявление в партию, а его однокурсник, с которым Глотов работал теперь в одном отделе, был изгнан с позором, так как написал заявление о выезде в США. Через два года Глотов стал заведовать сектором, а имя однокурсника всплыло в деловых бумагах: он был ведущим конструктором одной из зарубежных фирм, отвечал за сильфоны, которые столько лет не шли в объединении, от них отказались, а теперь покупали на валюту у человека, презираемого прежде. Нынче перед ним стелились в министерстве, а на заводе о нем только и говорили с завистью: мол, богат, удачно женился.
Глотов ломал голову над подобными несообразностями и под конец смирился с тем, что он обыкновенный и не оригинальный человек и не сможет ни подняться высоко, чтобы оказаться хозяином положения, ни упасть низко. Примирился со словами Заратустры: «Если жизнь не удается тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть».
Разбередив душу, Глотов поднялся со скамьи и направился к своему дому. Поднялся на этаж, открыл дверь квартиры, молча снял плащ.
– Ужинать будешь? – спросила жена, появившись в прихожей.
Он промолчал, зная наперед, что сейчас Марина поинтересуется: чай будет пить или кофе? Не раз предупреждал, чтобы наливала по своему усмотрению, не столь уж избалован.
– Чай будешь пить или кофе?

Взглянул на жену неприязненно, бросилась в глаза родинка на шее под пухлым подбородком: темная горошина, а на ней волоски. Выщипывала их украдкой, но тут, видно, проглядела. Прежде он любил целовать то место, где родинка. Нравилось и Марине, говорила, что от прикосновения губ у нее даже мурашки по телу пробегают. Но теперь эти волоски вызывали раздражение. Глотов чувствовал, что малейшая неосторожность со стороны жены – и он сорвется, наговорит гадости. Не тюха перед ней, а здоровый мужчина, полный сил и желаний, должна в конце концов понимать и следить за собой. Ему хочется видеть рядом красивую женщину, которая волновала бы и манила, а не расхаживала квашня квашней. Опустилась, раздобрела, лицо одутловатое. И ведь недурна. Подведи брови, прическу сделай, живот подтяни…
– Тебе чай или кофе? – переспросила Марина.
– Чай и кофе! Сколько повторять! Жаль кофе – ставь чай.
– Не жалко. Знать хочу, что больше по вкусу.
– Какой я, оказывается, избалованный. Привести себя в порядок могла бы? Ходишь, как…
– Только с работы, расслабилась немного…
– Посмотри на себя в зеркало, обабилась до предела. В дверь не пролезешь скоро.
– Виновата разве? И ем мало, по вечерам чай разве попью без сахара, а полнею…
– Бегать надо, зарядкой перестала заниматься.
– За день так набегаюсь… Если у тебя, Володя, неполадки на работе, почему злость свою на мне срываешь?
– На заводе у меня все нормально. Ценят и уважают. Домой ехал с хорошим настроением, а в этих стенах задыхаюсь. Понимаешь, задыхаюсь! Чужой я здесь! Чужой! Выть хочется.
– Ты очень изменился, Володя. Нетерпим ко мне стал, на дочерей набрасываешься, взрываешься по каждому пустяку. Нельзя же так.
– Значит, расходиться надо. Чужие мы друг другу.
– Расходиться? А дети? О них подумал? Души не чают в отце. Особенно младшая. Прибежит с улицы, только и слышу: папочка где? Когда придет? Девочка замечает разлад в семье, переживает… Твой уход – трагедия для нее.
Пить чай Глотову расхотелось, он вышел из кухни.
– А кофе? – окликнула жена.
– Оставь меня в покое! – ответил и закрылся в комнате.
Перед программой «Время» к нему заглянула младшая дочь:
– Папка, иди ужинать.
Он медлил, но дочка взяла его за руку и потащила к столу.
Потом Глотов смотрел телевизионную передачу, а жена стирала в ванной белье. Дочери веселились в своей комнате, а после девяти вечера угомонились, старшая уложила сестру спать и села повторять уроки. Вышла в ночной сорочке и протянула исписанные листки.
– Посмотри сочинение, пап.
Дочь заканчивала десятый класс и собиралась поступать в Технологический институт имени Ленсовета. Совсем взрослая, подумал Глотов, еще немного и не нужны будут отец с матерью. Появятся свои заботы и печали.
Тема сочинения оказалась новой для Глотова «Образ нашего современника в романе Н. Думбадзе „Закон вечности“». Когда Глотов учился в школе, писали о героях Лермонтова и Тургенева, Чернышевского, романа Горького «Мать». Сам лично писал на выпускном экзамене о Пелагее Ниловне и сыне ее, Павле Власове.
«Нодар Думбадзе – известный грузинский писатель. Его произведения отличаются высоким гуманизмом и художественным мастерством, они снискали признание читателей. Роман „Закон вечности“ занимает особое место в творчестве писателя. Это произведение поднимает важнейшие нравственные проблемы современности, в нем с глубокой правдивостью показан положительный герой наших дней.
Бачана – писатель, коммунист, редактор газеты. Он волевой человек, не терпит лжи. Смысл жизни Бачана постигает, оказавшись по воле обстоятельств в больнице. Врачи спасли его. Выздоровев, Бачана говорит лечащему профессору:
„– Я покидаю вас с чувством глубокого удовлетворения… Эти два месяца, Нодар Григорьевич, для меня равнозначны жизни!
– Не понял вас…
– Человек должен хоть раз в жизни перенести тяжелую болезнь. Это позволит ему трезво, спокойно проанализировать и переоценить весь пройденный путь.
– По-моему, ваш жизненный путь не нуждается в повторном анализе и переоценке.
– Вы так думаете? – улыбнулся Бачана.
– Со стороны, по крайней мере, это кажется так!
– Два месяца в вашей больнице были для меня временем поразительных открытий!
– Что же вы такое открыли?
– Закон вечности!“».
Дальше дочь писала о понимании закона вечности, который открыл для себя герой романа, о необходимости помогать друг другу, потому что один человек не проживет, одиночество – это самое страшное, что есть в обществе. Надо стараться обессмертить души: ты – соседа, а он – кого-то другого, другой – третьего.
Глотов читал и думал о своем одиночестве, что, может, и прав Бачана – нельзя прожить без поддержки. Но почему близкие люди перестают понимать друг друга, становятся равнодушными, раздражительными, чувствуют себя еще хуже, когда вместе. Ищут дорогу к примирению и не находят, блуждают как в тумане, хотя вот он или она, протяни только руки.
– Мне кажется, сочинение получилось, – сказал Глотов дочери. – Я не читал роман, но по описанию твоему Бачана живет достойно, близко к сердцу принимает чужое горе, не терпит лжи.
– Я это и хотела сказать! – обрадовалась дочь. – А роман ты, папка, прочти обязательно, ладно?
– Ладно, – ответил Глотов с улыбкой и поцеловал дочь. – Иди спать.
Дом затихал, словно погружался в дрему. Прекратились стуки, детские голоса, шум льющейся из кранов воды. И только этажом выше в чьей-то квартире безутешно плакал ребенок. Глотов ругнул непутевую мать, которая не может успокоить дитя. «А может, ребенок один?» – подумал, и закралась в сердце тревога, готов был поспешить на помощь, утешить плачущего. Подошел к темному окну, отодвинул тюлевую занавесь. Фонари вдоль асфальтированного шоссе освещали придорожную аллею, кусты.
Вошла жена, принялась раскладывать постель, шуршала, расправляла свежие простыни.
– Что за мать такая… – не сдержался Глотов. – Ребенок в плаче заходится, а ей и горя мало.
– Это у соседки, что над нами. Неделю уже плачет, – ответила жена.
– Может, он там брошен?
– Нет, видела сегодня хозяйку, из универсама возвращалась.
За окнами простиралась ночь, Глотов вглядывался в темень, от нее веяло безысходностью. Жена ушла в ванную, долго плескалась под душем и появилась посвежевшая, с нежным запахом духов.
– Ложись, Володя, поздно уже, – сказала тихо и просительно.
В голосе жены Глотов уловил нотки прощения, желания доверчивой близости, ласки, которая примиряет супругов. Увидел круглые коленки, когда Марина забиралась в постель, полные красивые ноги, В нем пробудилось желание.
Глотов обозлился на себя, но не мог перебороть чувства, разделся и лег. Марина прильнула к нему, жарко целовала грудь, и он грубо овладел женой, быстро успокоился, осознавая, что жена не получила радости и обижена.







