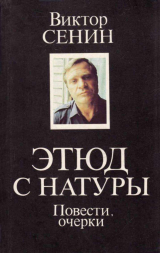
Текст книги "Этюд с натуры"
Автор книги: Виктор Сенин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
– Съедите. Зима долгая, все подметет.
Пили чай до пота.
– Отдохните пока. Пойду вынесу табуретки, чтоб до веток повыше могли дотянуться, – сказала Мария Михайловна. И ушла, оставив нас наедине.
– Хорошая у тебя мать.
– Славная! Отец умер от инфаркта. Одна и подняла нас троих на ноги. В совхозе бригадирствует. Ты ей тоже понравился, поверь мне.
Мы достали из багажника корзины, взяли ведра и пошли в глубь сада. Зеленели кусты смородины и крыжовника, пахло тмином. В раскрытом парнике расползались усохшие огуречные плети, напоминая брошенную старую сеть. Ветки пепина шафранного, осенней полосатки клонились к земле. Ярко-красные яблоки пепина, особенно крупные на верхушке дерева, гнули своей тяжестью ветки так, что казалось, они вот-вот обломятся и надо поскорее освободить их от непосильной ноши. Из предосторожности, и не излишней, некоторые ветки подпирали жерди. В траве валялись опавшие яблоки, их запах перемешивался с запахом преющей листвы.
Сорвал осеннее полосатое – светло-желтое, с красными полосами и румянцем на боку – и передал Ане. Взяла яблоко, надкусила и протянула мне:
– Должна бы я тебя первой угостить в этом саду да и приворожить…
Сочное и ароматное яблоко приятно хрустело на зубах, холодило во рту.
Мы молча обрывали яблоки, какое больше глянулось, и складывали в ведро. Затем я относил ведро и пересыпал в ивовую корзину.
Солнце пробивалось сквозь листву, было тепло и тихо, жужжали осы, кружились возле кружки на табурете, садились и ползали по краю, норовя добраться до воды. То ли бабье лето с его бездонной синью небес, серебрящимися паутинками в воздухе, покоем, какой разливался окрест, так действовало на душу после городской сутолоки и гула, но было легко и привольно, хотелось, чтоб длилось это очарование бесконечно.
«Что происходит со мной? Что? – спрашивал я себя и не находил ответа. – Почему мне так хорошо, так отрадно?»
И вдруг словно детерок донес: «Любовь это, любовь…» Я даже вздрогнул и оглянулся, чтобы удостовериться, откуда донеслись слова. Или почудилось мне?
Под соседним деревом стояла Аня с яблоком в руке, красным-красным, как сердце, и неотрывно глядела на меня.
– Какой ты!.. – произнесла с восторгом.
– Какой?
– Единственный… – И попросила тихо: – Поцелуй меня…
В тот день мы не уехали в Ленинград. После работы в саду Аня загорелась показать мне речку, на берегах которой прошло ее детство.
– Корову Зорьку пасла да венки из кувшинок плела.
– Помнишь Зорьку? – удивилась Мария Михайловна и обратила взор на меня: – Тогда скотину держали в каждом дворе. Поверите, на нашей улице насчитывалось десятка три буренок. Да почти столько телят. От коровки и кормились: детям по стакану молока к хлебу каждодневно, сметанка, ряженка, творог – в доме завсегда, не покупное. Теперь обленились, из магазина несут продукты.
– Сколько же хозяев держат коров?
– А пять на всю деревню. Старухи никак не расстанутся, кто привык к своему молоку. Внучат еще побалуют, когда из города понаедут. А остальные на магазин смотрят. Даже капусту сажать ленятся: дескать, незачем. Осенью ее завались, три копейки килограмм. Верно, много: все лари забиты. Но странное дело: к весне не только свежей не купите, квашеная в большом дефиците.
Мы вышли со двора и стежкой, петляющей у самых калиток, направились по улице к реке. Впереди ступала Аня, здоровалась со знакомыми. Женщины отвечали ей поклонами, провожали нас с любопытством. Нетрудно было понять, что Аню здесь знают с девчонок, наслышаны, наверное, о ее нескладной жизни, а потому и смотрели нам вслед с участием и сердечностью, желая благополучия.
– С приездом, подруга! – От ближайшей калитки спешила к Ане молодуха. – А я смотрю: ты или не ты?
– Здравствуй, Люба! Ты же вроде на Севере работала? В отпуске?
– Насовсем возвратилась! Замуж вышла, дочку родила. Вот и переехала к матери, здесь теперь живу. Муж в совхозе электриком, а я пока дома. – И зашепталась с Аней, поглядывая в мою сторону. – А-а… – Сказала, чтоб и я услышал: – Не упусти. Век наш бабий, сама знаешь, короток… Заходи в гости, рады будем.
– Спасибо, Люба. Может, и заглянем.
Свернув в переулок, пошли рядом. Здесь не было сторонних глаз, и могли вести себя, как пожелаем.
– Тебе неловко?
– Из-за чего?
– На виду деревни провела, как на смотринах…
– А мне приятно, что видели с тобой.
– Правда?
– Вот те крест! – Перекрестился и засмеялся.
Засмеялась звонко и Аня.
Блеснула в ивняке за луговиной река. Неширокая, в низких берегах, она поворачивала к лесу и круто выгибалась у самой кромки, как бы отсекала путь соснам и елям. Вода в реке стояла темная, холодная, тихоструйно покачивались на глубине водоросли.
– В заводи летом столько кувшинок! Вода сплошь листвой покрыта, а над ней – желтые головки цветов. Сидишь на взгорке, солнышко припекает, Зорька траву пощипывает, хвостом от мух отмахивается да вздыхает. Нарву кувшинок, на луговине ромашек много, колокольчики – и плету венок. Сплету, на голову надену и гляжусь в речную гладь, с речкой разговариваю, выспрашиваю: похожа ли на Купаву?
Зорька смирная, старательная, на пастбище голову не поднимет от земли. Спешит травки побольше ухватить, потом ляжет отдохнуть, глаза закроет и пережевывает. Холмогорка, невысоконькая, рожки маленькие, напасешь хорошо, когда и впадин на боках нет, идет бочка бочкой. Молока давала – по ведру сразу. И каждый год теленочка приносила, черно-пестрого, как и сама.
Молозиво я очень любила. Подоит мама Зорьку после отела, перельет густое желтоватое молоко в глиняный горшок да в печку. Ешь после, вроде нежного омлета…
Бредем по берегу, Аня вспоминает с восторгом и радостью – не забыла давнее, сладко ворошить старое.
– Там родничок, три ключика! – схватила за руку и увлекает вперед. – В жару пастухи воду брали. Вода холодная-холодная…
Подходим. В зарослях сочной осоки зеркальце воды, ладонями вычерпаешь, исток в траве. Наклонился к водице, а на дне живые ключи бьют, песчинки пульсируют, словно фонтанчики.
– На лугу по выходным собиралась почти вся детвора нашей деревни, в горелки играли. Становились парами, за руки брались – мальчишка с девочкой, какая нравилась. И уж расшибиться тут ты мог, но не попасться в руки тому, кто водит. Нарочно девушка может поддаться, если симпатии не испытывает к тому, кто рядышком, а, наоборот, расположена к горельщику. Ни за что не разбить иную пару. Бывает, тот, кто водит, и ловок, а девчонка хитрее его. Смотришь, снова крепко держит за руку любимого. Вновь стоят пары вереницей, выкрикивают:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле —
Гляди в поле.
Едут там трубачи
Да едят калачи…
Гу, гу, гу, убегу.
Раз, два, не воронь,
Беги, как огонь.
И мчишься мимо горельщика, угадывая его намерения, обводя, стараясь не остаться без пары. А оплошал – води теперь сам и добивайся победы, не упусти момент…
У брода остановились.
– В жару здесь на телегах переезжают, дрова из лесу перевозят. По ягоды женщины и ребятня ходят.
Повернули обратно. Закатное солнце золотило воду, она светилась тускло, покрывалась рябью. Зябко шумел ивняк и ронял в речку листочки. Ветерок подхватывал их и гонял по поверхности воды, как маленькие ладьи.
Свет гаснущей за лесом вечерней зари слабо разливался, отражаясь в окнах домов, и они отсвечивали отблесками костра. В саду было сумрачно, пустынно и прохладно. Под яблоней обнялись и поцеловались.
В домах включали огни, погасшее небо темнело, перемигиваясь, на нем роились звезды.
Постелила нам Мария Михайловна в маленькой светелке: Ане – на кровати, а мне – на полу, разложив большую пуховую перину.
– На новом месте приснись жених невесте… – сказала, пожелав спокойной ночи.
Заложив руки под голову, смотрел на мерцающий в лунном сиянии зеленоватый с серебристым отливом квадрат окна. Тень рамы падала на пол и стулья, сумрак комнаты казался бледно-голубым. Вспоминал прошедший день, увидел Аню под деревом с красным яблоком в руке. Подумал, что во сне, тряхнул головой и удивился: не спал. Значит, на мгновение забылся и явственно представил картину. Думал о счастье и верил, что все обязательно сбудется.
Уже сомкнул было веки, но тут от кровати неслышно отделилась тень, мелькнула в лунном свете, и горячее тело прильнуло ко мне, наши объятия переплелись.
– Милый ты мой… услада моя… – бессвязно шептала Аня, жарко целуя.
– Моя? – выдохнул в полубеспамятстве от ее ласки.
– Твоя, твоя… – И еще крепче обвила меня руками.
– Навсегда?
– До последней кровиночки в жилах! – Вскрикнула, уронив голову мне на грудь: – Ой, мамочка… мама!..
Мы так и не уснули в ту ночь. Изнемогая от ласк, забывались, не раскрывая объятий, и снова я жадно ловил ее губы, целовал ямочку на шее, груди с твердыми сосками.
Припадала ко мне всем телом, осыпала поцелуями, доходила до исступления. И это опьяняло, я отвечал на ее ласки, угадывая ее желания, чувствуя, как сбивается у нее дыхание, как требовательно и жадно впиваются ее пальцы в мои плечи в минуты ее полного наслаждения.
– Тебе хорошо со мной? – спросила и замерла в ожидании.
– Теперь и умереть можно…
– Живи, услада моя… Единственный мой… Послушай, как сердце бьется. Скажи только, я сделаю что угодно. Умереть прикажешь – умру…
– Успокойся, пусть тебя ничто не тревожит. Все будет у нас хорошо. Вот увидишь. – Глубокая нежность, вызванная благодарностью за пережитое наслаждение, переполняла меня, я говорил искренне, твердо уверенный, что так и произойдет, никогда не оставлю я Аню, стану ее опорой и защитой. Иначе последним подлецом окажусь, если предам любовь, разрушу бездумно.
– Да-да, я верю тебе. – Приподнялась на локтях, долго смотрела на меня, водила пальцем по бровям. – Думала, перегорело это во мне, а нет… Я люблю тебя…
– Слышу.
– Я тебя люблю! – И накрыла рот долгим поцелуем.
На рассвете мы вышли в сад и стояли, слушая росную туманную тишину. Яблоки в больших ивовых корзинах, мокрая трава и мокрые деревья. Капли срывались с веток, падали с шуршанием на жухлые листья. Мы стояли обнявшись и не хотели уходить. Гупнуло, ударившись о землю, яблоко, подскочило и выкатилось на дорожку. Кричали по дворам петухи.
Мне казалось, что я долго-долго не жил на земле, только теперь возвратился из какого-то далека и вот здесь полной грудью вдыхаю холодноватый воздух и не могу надышаться. Пришли на память стихи, и я, как заклинание, прочел:
Что-то сбудется, что-то не сбудется…
Перемелется все, позабудется…
Но останется эта вот, рыжая,
У заборной калитки трава!
– Как будто про нас с тобой, – сказала Аня.
С того дня время для меня словно изменило ход. Жизнь отсчитывала бег от нашего прощания до встречи, а затем как бы сливалась в единый миг. Я был счастлив, дни до предела осмысленны. При встречах мы рассуждали о нашем будущем: как должно быть, чего не следует допускать в наших отношениях, и эти разговоры доставляли удовольствие, пьянили, мы повторялись, но не замечали последнего. Какое все имело значение? Главное – мы были вместе.
– Я тебе буду говорить только правду, – клятвенно и наивно обещала Аня. – Только и ты будь откровенным, не мучай меня. Все можно перенести, кроме безвестности.
Она не скрывала свои чувства, иной раз ударялась в слезы и ругала себя, просила прощения.
– Это от избытка нежности. Ты не сердись.
И тут же смеялась, уверяла, что подобное не повторится.
У нас оказались общие интересы, мы посвящали друг друга в свои дела и увлечения. Тем самым как бы открывали себя, сохраняя и умножая хорошее, отметая плохое. Не замечая того, мы менялись, как менялись и росли наши чувства. Порой мне казалось, что все лишь начинается, и становилось боязно – как бы не разрушить ненароком всю нежность общения. Хотелось оградить, защитить от внешних неурядиц, глупых случайностей наше счастье. И эта боязнь приводила в тупик, я не находил выхода, чувствуя какую-то обреченность. «Любовь должна быть трагедией…» Не помню, кто написал это, но я понимал теперь смысл. Если бы мне сказали, что дни мои сочтены, то все бы повернулось иначе, я бы знал и видел исход…
Сейчас я жил в ожидании и предчувствии. Ее голос, такой дорогой мне даже по телефону, был вестником целого мира, постичь который, казалось, невозможно. Сама же Аня являлась несбыточным чудом, которое я боготворил. Я замирал, восторгаясь в сокровенные минуты изгибами ее тела, по-энгровски тонких и обворожительных его линий. Это был иной мир, в котором я был изнемогающим от жажды путником, припавшим к живительному ручью. Расставшись с Аней, уже ожидал свидания, чтобы снова ощутить чувство безотчетности, опьяняющего восторга, возможности прикасаться к ней.
– Раньше я не любила эти нежности, – сказала она однажды, – теперь прошу и ничего не могу с собой поделать. Все слова ничтожны в сравнении с тем, что тебя можно обнять…
Мне нравилось украдкой любоваться Аней, смотреть на нее как бы со стороны. Она была счастлива, это я видел. На свидания Аня каждый раз приходила как бы впервые, волнуясь и переживая. Увидев меня, вспыхивала от счастья, бросалась навстречу.
– Сказал же, что буду, – успокаивал ее.
– Никак не привыкну. Кажется, что ты не придешь…
Я приезжал всегда пораньше, чтобы не заставлять ее томиться, не видеть ее глаза, в которых мольба и радость, слезы и восторг.
Иной раз невесть почему во мне пробуждалась ревность. На улице я замечал, как на нее заглядываются мужчины, было приятно осознавать, что она принадлежит мне, но одновременно закрадывалось и подозрение: а вдруг и с другими ей так же было хорошо, и будь я далеко – откажет ли настойчивым ухаживаниям? И становилось страшно расстаться с нею хотя бы ненадолго. Пробуждалась ревность, я замыкался, придирался к мелочам. Аня, не зная причины, переживала, терялась в догадках.
Однажды задержался на службе. Приехал на Невский к условленному месту и увидел Аню. Она не могла меня заметить, а я сразу ее разглядел – строгий белый костюм, темные очки, волосы распущены по плечам. И тут на виду у всех к ней подошел мужчина. Я сбавил шаг, не отдавая себе отчета, как поступлю дальше. Что-то подленькое шевельнулось во мне; вместо того чтобы поспешить к ней, я остановился за фонарным столбом. Подумал, что встретила кого-то из знакомых. Мужчина галантно заговорил с Аней.
Не знаю, что ответила она, но мужчина отскочил, словно его ошпарили. Тут Аня увидела меня и сразу переменилась, стала прежней, какой я ее знал. Взяла меня за руку, пошла рядом, прижимаясь бедром. Была у нее такая привычка: если ее переполняли чувства, а целоваться на людях неловко, она как бы невзначай касалась меня бедром.
– Кто это подходил?
– Ты видел? Успокойся. Хлюст какой-то, видишь ли, «Жигули» у него новые, прокатиться приглашал. Запомнит надолго, кого выбирать…
Она относилась к тем женщинам, которые, полюбив, остаются верными навсегда. Их не купить, не сманить, не усыпить.
Как хорошо нам было все дни! Как нежна, как ласкова она становилась рядом со мной, как легко мы понимали друг друга! Ей нравилось говорить: «Мы с тобой…» Теперь это было для нее что-то неделимое, трепетное, что вызывало у нее восторг, налагало ответственность. Она жила этим, старалась упрочить. Порой даже подсознательно. Покупая вещь, глядела на нее не только своими глазами, но сразу пыталась угадать мое отношение. Не говорю уж о заботе обо мне. Загорелась вдруг связать пуловер. Усядется в кресло и вяжет, когда меня нет. Сказал, что зря утруждает себя, засмеялась смущенно:
– Словно к тебе в эти минуты прикасаюсь…
Я серьезно думал о женитьбе и представлял, как введу ее в родительский дом, как обрадуются отец и мать, особенно мать. По вечерам женщины будут уходить от нас, мужчин, и, уединившись, шептаться, обсуждать проблемы с обменом квартир, покупкой мебели – что нужно сейчас, а что потребуется позже.
Рядом с Аней замечал, что и сам становлюсь иным, добрее, решительнее в поступках, не позволял себе лености, отступничества даже в самом малом. Если прежде на что-то мог и рукой махнуть, дескать, не первый и не последний, шел на компромисс, то теперь останавливался, боялся выглядеть в глазах Ани заурядной личностью. Хотелось, чтобы она гордилась мной. Поймал себя однажды на мысли, что чувствую себя постоянно в ответе.
Гулял с ней вечером в парке возле Петропавловки. К нашей скамейке подошли двое подвыпивших. Один – высокого роста, спортивного вида, другой – пониже и толстый, с расстегнутой на пупке рубахой.
– Сидят голубки, да? – сказал высокий дружку. – Скучают. А вот мы сейчас развеселим…
Толстяк хихикнул:
– Дама желает. Мы это враз…
У меня заныло под ложечкой. Драться я умел, но не прибегал к этому, глупое выяснение отношений. А тут я не мог уйти посрамленным. Не о себе думал – считал себя обязанным постоять за достоинство женщины, которую любил. Никто не смел ее в моем присутствии оскорбить, унизить. Я понял, что готов погибнуть, но не отступлю. Речь шла не обо мне, моей жизни, а о чем-то более высоком и важном на свете. И будь рядом не эти двое, а больше, я пошел бы на них.
– Андрей, не связывайся.
– Отойди, пожалуйста!.. – И повернулся к искателям приключений.
– Ты чего? – отрезвел толстяк. – Чего?..
– Не дрейфь, Колька. Мы его сейчас, падлу, на кумпол…
Он не договорил. В институте не зря учили нас приемам самозащиты, осталась реакция. Я левша – преимущество не только на ковре. Не ожидает удара противник с этой стороны. Я врезал по переносице высокому. Он хлюпнул, захлебываясь кровью, но успел достать меня прямым ударом. Из глаз сыпанули искры. Не раздумывая, саданул ногой в солнечное сплетение. Противник переломился, осел на колени и зарылся головой в траву.
Толстяк перетрусил и в драку не ввязывался. В запале я бросился к нему, но он закричал и юркнул за угол.
Аня тащила меня за руку подальше от опасного места, потом остановилась в нерешительности.
– С ним что будет? – И указала на лежащего.
– Оклемается…
– Вот подонки. Сами же пристали…
Она увела меня к Планетарию, но не успокоилась и едва ли не силой потащила в «Демьянову уху», усадила за стол. Только тут пришла в себя, перевела дух.
– Ох и драться же ты!
– Гадкое занятие. Искалечишь такого, а потом совесть мучает.
– Успокойся. – И фыркнула. – Когда ты на того, высокого, пошел, я решила вцепиться в толстого. – И опять засмеялась. – Метила в пузо ему. Почему-то думала, что больнее всего будет… Ой, у тебя, кажется, синяк под глазом… – И потянулась ко мне. – Поцеловать хочу.
– Люди смотрят.
– Пусть смотрят. Хочу поцеловать.
Ее было не отговорить, если на что-то решилась. Иной раз встанет посреди улицы и с места не сдвинется: «Поцелуй меня…»
Мы жили как бы в ином мире, отгороженные нашей любовью от будничной сутолоки, предрассудков дозволенного и запретного, поступали, как сами считали нужным. Нас не касались склоки и пересуды, житейские конфликты, удачи и промахи. Как бы плыли в водовороте, отталкиваясь от берегов, не приставая ни к острову, ни к отмели.
Со мной происходило что-то странное: я работал с упоением и одержимостью. Будь я суеверен, сказал бы, что Аня принесла мне удачу, как добрый ангел оберегает от невзгод. Иной раз удивлялся, как все складывается хорошо. Прежде мне пришлось бы изрядно поломать голову над разрешением проблемы, сомневаться и отбрасывать, начинать испытания заново. Тут же находил неожиданно оптимальный вариант, щедро делился идеями – молодежь в лаборатории смотрела на меня с восторгом, шепталась о моей хватке, башковитости. Я не придавал тому значения, хотя разговоры аспирантов с поглядыванием в мою сторону льстили.
Ленинград тоже вдруг открылся во всей красоте – куда и девалась его унылая дождливость с холодным величием ансамблей, вздыбленных коней, взбухающей водой рек и каналов! В парках роняли багряную листву клены, голубизна неба казалась чище и прозрачнее, горели золотом в лучах теплого солнца купола и шпили. Тот же Невский не раздражал толчеей и шумом – прекрасный, улыбающийся, искрящийся толпой нарядных женщин, с цепочками очередей у ресторанов и кафе.
В эти дни в нашем институте произошло событие, о котором я не могу умолчать. Член-корреспондент Академии наук СССР Арнольд Янович Померанцев поссорился с нашим директором и подал заявление об уходе, заявив, что лучше моей кандидатуры на пост заведующего кафедрой он не мыслит. Верно, я был учеником Померанцева, и старик испытывал ко мне расположение, покровительствовал отечески. Как каждый крупный ученый, он желал видеть в ком-то из молодых преемника его трудов, а поверив в него, старался быть требовательнее, чем к другим. Требовательность эта граничила иногда с деспотичностью, я, конечно, отдавал себе отчет в том, что происходило. Старик вкладывал в ученика свой накопленный научный капитал, боялся ошибиться, прогадать.
Весть об уходе Померанцева не обрадовала меня. Я хотел, чтобы все то, на чем настаивал старик, произошло в иной обстановке, без эмоций и категоричности. Померанцев еще был полон сил, мог работать в институте, и уход его – несправедливость, а я вроде как пользуюсь возможностью.
Правда, кто знал суть затянувшегося конфликта между директором и Померанцевым, успокаивал меня: рано или поздно это должно было произойти. Старик Померанцев не из тех, кто уступает, изменяет своим принципам. Противники мои и недоброжелатели присмирели. Сник даже Виктор Бакшеев, заведующий соседней лабораторией, с которым у меня сложились натянутые отношения. Завистливый по натуре, Бакшеев серел, услышав похвалы в мой адрес, но молчал. Мне казалось порой, что зависть снедает его, оттого он и выглядит таким измученным. Как больной с застарелой язвой.
Начинал Бакшеев токарем, без отрыва от производства закончил университет, пробился с трудом в аспирантуру и к сорока годам защитил кандидатскую. Не обладая глубокими познаниями, добивающийся всего ценой больших усилий, как бы вымучивая, приспосабливаясь к обстоятельствам и тем, от кого зависел, он незаметно привык к такому укладу жизни, ловчил и лавировал, осознавая свою ущербность, но изменить положение не стремился, наоборот, боялся потерять добытое таким трудом и тащил лямку. Хвалиться удачами Бакшеев не мог, а потому избрал свой путь. Напускал на себя вид простака и говорил:
– Я – лошадка. Должен же кто-то и черновую работу делать.
Вот, мол, я перед вами весь, не лезу в гении, не требую ни орденов, ни званий. Ему не завидовали, не принимали всерьез, но и не трогали. Наоборот, старались не забыть, не обойти. Вроде как жалели его и благодетельствовали.
У меня с Бакшеевым было несколько стычек на заседаниях кафедры, и он искал малейшую возможность, чтобы насолить мне. Однажды я спросил его прямо:
– Виктор, какая выгода тебе от всего?
Он улыбнулся не то заискивающе, не то предостерегающе:
– Не хули других, дабы самому не быть хулимым…
Но теперь Бакшеев пытался найти пути к примирению, как бы невзначай попадался на глаза. Я понимал его состояние: совершись все так, как говорят, думал он, ему расплаты не миновать. Хотя я и не помышлял о подобном – ни обиды, ни озлобления к нему не питал. Был он, и не было его.
Поговорить бы начистоту с Аней о надвигающихся переменах… Но Аня уехала на две недели в Москву. Договорилась по телефону с вдовой писателя Константина Воробьева, Верой Викторовной. Интересовали Аню подробности написания повести «Это мы, господи!..». Писал ее Воробьев по горячим следам, бежав из Шяуляйского концлагеря. Скитался поначалу по лесам, на одном из хуторов приютила его семья, в которой хозяин был русским, а хозяйка – литовка. Они и связали бежавшего из плена лейтенанта с партизанами, дочь хуторян стала после победы женой Воробьева.
Без Ани я чувствовал себя как бы осиротевшим, посторонним в собственном доме. Мне хотелось увидеть ее, сказать о своей любви; представлял, как вспыхнут ее глаза, как дрогнут ресницы, когда она услышит эти слова. Думал о нашей встрече в аэропорту – я обниму ее и скажу: «Знаешь, дороже тебя у меня нет никого…»
И вдруг звонок в дверь. Подумал с неприязнью: кого еще принесла нелегкая? Звонок задребезжал настойчиво и нетерпеливо. Распахнул дверь и оторопел: на пороге Аня с чемоданом и сумкой. Бросила все в прихожей, кинулась на шею.
– Ты сбежала?
– Не смогла больше… Пытка не видеть тебя… – говорила и ласково ерошила мои волосы на затылке.
– Без тебя и у меня пустота…
Она тихо засмеялась в моих объятиях.
Пока я готовил кофе, Аня приняла душ и теперь сидела в дорожном халатике, спрятав под себя ноги. Кофе она любила с апельсином – положит дольку в рот и запивает. Смотрела с полуулыбкой, как я хозяйничаю, и не прятала счастья. Попросила сесть рядом, обняла за шею, обожгла поцелуем и уже не владела собой, не противилась, жадно искала мои губы…
Утром Аня вдруг заявила о ремонте моей квартиры. Подобные неожиданности были в ее характере, ее одержимость удивляла и восхищала меня. Я и сам собирался обновить обои, обстановку и даже определил место для телевизора, уголка отдыха, но все откладывал.
– Сменим обои, выберем более теплые тона.
– Согласен. Я же замечаю, что ты чувствуешь себя здесь чужой.
– Неправда. Просто хочется, чтоб не возникало впечатления холостяцкой заброшенности – стол, стулья, диван…
– Не обращал внимания.
– Позволь распоряжаться мне.
– Будь по-твоему, ты – хозяйка.
Съездили в магазин, выбрали какие-то моющиеся обои, а для кухни Аня выцыганила самоклеящиеся. В выходные мы резали, подгоняли и клеили рулон за рулоном. Комната на глазах преображалась, казалась просторнее и выше. Мебель старая вроде и не смотрелась теперь.
– Стенку необходимо купить, стулья полумягкие…
– Ну… Столько денег у меня и не найдется!
– Продадим «Жигули».
– Вот уж нет! С мебелью мы потерпим.
– Машина мне ни к чему, ржавеет.
– Продавать не будем! – стоял я на своем. – Лето подойдет, в отпуск соберемся, а на чем? В душном вагоне трястись?
– Мы поедем в отпуск? Ой как хорошо!.. Тогда… Я тебе плед принесу. Лежит у меня английский.
Ее возня по дому, покраска и побелка – все это нравилось мне, доставляло удовольствие. Я удивлялся, обнаруживая в себе хозяйственную сметку, мастеровитость, желание подчиняться распоряжениям дорогого человека, видеть обновление. Как и тому, что вижу Аню по-домашнему озабоченной, заляпанной брызгами мела, и думал, что никогда не забуду этих минут до конца жизни.
Мы строили планы, говорили о защите ее диссертации, а там… Мы не высказывали вслух заветное, боялись сглазить.
Все грезилось нам в радужном и сказочном свете, но, к сожалению, судьба является порой в самом заурядном виде.
В метро столкнулся нежданно-негаданно с Тосей. Она спешила, поругивая двух мальчуганов. По черным, как терн, глазам, головам, будто головешки, понял, что сыновья – ее. Пацаны есть пацаны, они отставали от матери, гонялись друг за другом, боролись. Куртки у обоих были нараспашку, сорочка у младшего вылезла из-под ремня брюк. Тося пыталась урезонить их, но, притихнув на минуту, братья затевали исподтишка возню.
Увидев меня, Тося смутилась – то ли из-за неслухов, то ли устыдилась своего простенького вида – осеннее пальтишко, туфли на микропоре, повязанный под подбородком шерстяной платочек. Но тут же верх взяло женское любопытство. Тося остановила меня, поинтересовалась, как живу.
Дела мои шли нормально. Поведал, что приняты две заявки на изобретение, а лаборатория признана лучшей по институту.
– С Аней встречаешься?
– Видимся!
– Как она там?
– Хорошеет.
– Бойся Анютки, разлучница она…
Полагал, шутит Тося – подруги ведь.
– К тому говорю, что мы, женщины, коварны бываем. Нравился мне один парень. Так нравился!.. Да что таить, о Николае речь. Осталась однажды у него с подружкой… Подруги и есть первые разлучницы. От них не ждешь измены, а они тут как тут… Так вот осталась у Николая, о муже и детях забыла, а подружка моя на него глаз положила да в ту же ночку и увела к себе. Долго простить ей не могла… Так что не спеши, Андрей, присмотрись, чтоб потом не жалеть. Как говорится, близок локоток, да не укусишь…
Тут же и забыл сказанное. У нас с Аней складывалось все как нельзя лучше. Я был дорог ей, видел это. Особенно после дня рождения Марии Михайловны.
Аня сказала мне о празднике накануне:
– Мама приглашает. И я прошу… Родня соберется, соседи наши.
Мы поехали искать подарок, обошли несколько универмагов, наконец нашли мохеровую кофту бледно-розового цвета. Такую и искали. К лицу Марии Михайловне, нарядно и тепло.
Мать Ани обрадовалась обнове.
– Давно собиралась купить. Да разве ухватишь из-за очередей! Спасибо.
И усадила нас за столом на видное место. Народу в доме набралось много. Пришлось другой стол раздвинуть и подставить. Зато всем было удобно, никто никого не стеснял. Приехали сестры Ани с мужьями, дядья с женами, подруги именинницы по работе. И я здесь не был чужой: и родня Ани, и мать относились ко мне с добротой и уважением.
– Налей-ка нам, Анюта, с Андреем Юрьевичем винца, – попросил сидевший напротив худой, с ястребиным носом Степан – он работал в совхозе механизатором.
– Может, хватит, дядя Степан?
– Не боись, случай уважительный. День рождения сестренки. Пусть и гость знает, какой она человек золотой. Как впряглась в совхозный воз в пятидесятом, так и не выпрягается. Было время, когда из совхоза бежали, а она осталась!
– Куда бежать, когда три рта на руках?
– Бежали! А мы землю обихаживали да город кормили! Потому как ответственность понимали. На женских плечах, считай, и держалось хозяйство. Техники такой, как нынче, в помине не было. Посадить еще посадишь, а прополка? Да и с уборкой не легче. Но урожай не хуже получали и государству сдавали честь честью. Не гнили в буртах, как теперь гниют, картофель и капуста. Берем много, да половину свиньям отдаем.
– Ответственность принижена, потому и убытки.
– Ответственность! Человек обмельчал, все ему трын-трава. Раньше оставил бы в земле картофелину? Не оставил бы ни в жизнь. Совесть замучила бы. А теперь до пяти тонн, если не больше, после комбайна лежит на гектаре.
– Ой, к чему весь разговор?
– К тому, чтобы они, молодые, задумались.
– Дядь Степан, наказ принимаем! – постаралась Аня перевести беседу на другое.
– А тебе, племянница, тоже предупреждение: попробуй не пригласи на свадьбу. Попробуй…
– Мели Емеля – твоя неделя! – накинулись на Степана женщины, но я поддержал его:
– Позовем обязательно. Верно, Аня?
– Конечно, позовем. – И посмотрела на меня с нежностью.
Вышли со Степаном на улицу покурить. Стояло предзимье. Сад давно оголился, и деревья казались корявыми, мертвыми. Вспомнил, как рвали с Аней яблоки, вспомнил и то росное утро, когда мы слушали тишину, а с ветки сорвалось большое ярко-красное яблоко и выкатилось на дорожку.
– Ты ее береги, – сказал Степан, и я вздрогнул от неожиданности. – Анька – баба преданная. Приласкай – в лепешку расшибется, отплатит добром. Невезучая только. Как бабка ее…







