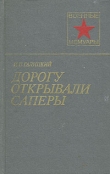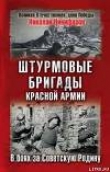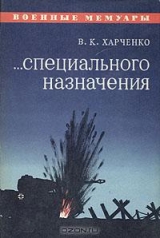
Текст книги "...Специального назначения"
Автор книги: Виктор Харченко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
В мае 1944 года директивой Генерального штаба на базе инженерных бригад специального назначения были созданы моторизованные инженерные бригады – по одной на фронт. При этом штатный численный состав несколько сокращался. Каждая бригада теперь состояла из трех моторизованных инженерных батальонов, батальона электризуемых заграждений и роты спецминирования. Зато более чем в два раза увеличивалось количество автомашин. Новые бригады должны были обладать большей маневренностью, что особенно важно для действий подвижных отрядов заграждений.
Одновременно отдельные фронтовые и армейские батальоны сводились в инженерно-саперные бригады и включались в состав армии. Для прорыва оборонительных полос противника создавались штурмовые инженерно-саперные бригады. Увеличивалось количество понтонно-мостовых бригад, формируемых из отдельных батальонов.
Наша бригада была переформирована в 1-ю отдельную гвардейскую Краснознаменную, ордена Суворова мотоинженерную бригаду РВГК. Состав бригады фактически не изменился: восемь моторизованных инженерных батальонов, батальон спецминирования, электротехнический батальон, отряд электрификации и механизации.
Эта директива не была для нас неожиданностью. Стремительное наступление Красной Армии потребовало от инженерных войск огромных усилий. Нужно было обеспечивать прорыв мощной обороны врага, снимать мины, наводить переправы, ремонтировать дороги…
Саперных бригад было немного, а отдельные фронтовые и армейские инженерные батальоны не всегда справлялись с резко возросшим объемом боевых задач. Впереди же предстояли новые, еще более стремительные и глубокие наступательные операции. Они требовали и новой организации инженерных войск, позволяющей более оперативно сосредоточивать силы и средства на решающем направлении.
* * *
Однако вернемся к делам бригады. В мае ее штаб находился в местечке Лугины, километрах в двадцати северо-западнее города Коростень.
С начала июня по множеству признаков можно было предполагать, что и наш фронт скоро перейдет в наступление. К переднему краю подтягивались войска и боевая техника. Передвигались в основном ночью, к утру все тщательно маскировалось в густых белорусских лесах. К середине июня движение на дорогах почти прекратилось. Фронт напоминал тетиву туго натянутого лука, готового к выстрелу.
Перед началом наступления, по приказу начальника инженерных войск фронта генерала Прошлякова, командный пункт бригады переместился ближе к фронту, на опушку леса в четырех километрах северо-восточнее деревни Великий Бор.
Командование 1-го Белорусского фронта планировало, прорвав гитлеровскую оборону двумя мощными ударами по сходящимся направлениям, окружить крупную вражескую группировку в районе Бобруйска. С востока на Бобруйск наступали 3-я армия генерала А. В. Горбатова, 48-я генерала П. Л. Романенко и 9-й танковый корпус генерала Б. С. Бахарова; 65-я армия генерала П. И. Батова и 28-я армия генерала А. А. Лучинского охватывали бобруйскую группировку гитлеровцев с юго-запада и обеспечивали ввод в прорыв конномеханизированной группы генерала И. А. Плиева и 1-го гвардейского Донского танкового корпуса генерала М. Ф. Панова.
Пять наших батальонов – 2, 4 и 5-й мотоинженерные, 6-й электризуемых заграждений и 8-й специального минирования – должны были обеспечивать наступление 65-й армии. Местность в полосе 65-й армии не благоприятствовала наступлению – сплошные леса и болота, многочисленные реки с широкими заболоченными поймами и каналы. Кроме того, за несколько месяцев обороны гитлеровцы создали здесь мощную, глубоко эшелонированную оборону. Особенно сильно укрепили они район Паричей. Здесь было меньше рек и болот, и местность более благоприятствовала наступлению. Генерал-полковник Батов главный удар решил наносить несколько южнее Паричей. Перед началом наступления огромную работу проделали армейские саперы П. В. Швыдкого, подготовившие все к преодолению болот, считавшихся гитлеровцами совершенно непроходимыми.
Перед 2-м и 5-м батальонами была поставлена задача в ночь перед наступлением проделать проходы в проволочных и минных заграждениях противника для пропуска наступающих частей армии.
На рассвете 24 июня мы услышали гул многочисленных авиационных моторов. Высоко в небе на северо-запад шли сотни советских самолетов. Вскоре до нас донеслись мощные разрывы авиационных бомб. Затем в действие вступила артиллерия. Около двух часов стонал воздух и дрожала земля.
Тысячи снарядов и мин летели через головы наших минеров, проделывающих проходы в минных полях. Сейчас они ближе всех к вражеским траншеям. Совсем рядом бушует огненный вихрь разрывов, осколки со свистом разрезают воздух над головами солдат.
Когда стена разрывов передвинулась в глубь вражеской обороны, проходы в минных полях были уже проделаны и отмечены. По ним стремительно ринулась на врага пехота.
Наступление войск 65-й армии с первых же часов развивалось успешно. Уже к полудню дивизии левофлангового 18-го стрелкового корпуса прорвали все пять линий траншей фашистов. 69-я стрелковая дивизия корпуса заняла сильно укрепленный пункт Раковичи, а 15-я стрелковая дивизия – Петровичи.
Пропустив пехотинцев, саперы начали расширять проходы для танков. К полудню в прорыв был введен 1-й гвардейский Донской танковый корпус. Прославленные тридцатьчетверки и самоходки стремительно рванулись вперед. Болота, считавшиеся гитлеровцами непроходимыми, танки преодолевали по гатям, проложенным армейской 14-й инженерно-саперной бригадой.
В эти минуты мы находились на командном пункте и страшно волновались. Сумеют ли наши минеры вовремя расширить проходы, не подорвутся ли советские танки?
– Как связь с Козловым? – в который раз спрашивал генерал Иоффе у майора Дворкина.
– Устойчивая, товарищ генерал!
Наконец слышим долгожданное:
– Козлов докладывает: «Танки пошли в прорыв! Чрезвычайных происшествий нет!»
Все на командном пункте облегченно вздохнули…
Минеры 2-го и 5-го батальонов, продвигаясь с передовыми частями, вели проверку и разминирование маршрутов.
Только за первый день наступления этими батальонами было проделано более пятидесяти проходов в минных полях противника и обезврежено около трех с половиной тысяч мин.
К исходу 26 июня войска 1-го Белорусского фронта окружили в районе Бобруйска пять вражеских дивизий, насчитывающих около сорока тысяч человек.
29 июня 65-я армия при содействии 48-й армии полностью овладела Бобруйском.
Во время боев по ликвидации гитлеровских войск, окруженных в районе Бобруйска, миноры 5-го батальона проделывали проходы в минных полях для танкистов 1-го гвардейского танкового корпуса. Когда же гитлеровцы попытались вырваться из окружения, на их пути встали подвижные отряды заграждений батальона. Пока шли бои за Бобруйск, 2-й батальон ушел далеко на северо-запад с передовыми частями 18-го стрелкового корпуса 65-й армии. Время от времени от командира батальона майора Козлова приходили короткие радиограммы: «Все в порядке. Проводим разграждение маршрутов».
Надо сказать, что в эти дни служба связи бригады работала отлично. Бывали моменты, когда расстояние между штабом бригады и ее оперативными группами превышало триста километров, а связь с батальонами приходилось поддерживать и на большем расстоянии.
Начальник службы связи майор Б. М. Дворкин, его заместитель лейтенант В. В. Юхневич, инструктор сержант А. П. Тимофеев сумели в короткий срок подготовить хороших радистов. Умелый выбор места развертывания радиостанций, правильное ориентирование и направленность антенн типа «наклонный луч» позволяли нашим радистам поддерживать устойчивую связь при работе телеграфным ключом на сто – сто пятьдесят и в отдельных случаях до трехсот километров, а телефоном – до восьмидесяти километров. Это в несколько раз превышало паспортные данные радиостанций. К началу 1944 года штаб бригады имел надежную прямую радиосвязь со всеми оперативными группами и батальонами. К этому времени были разработаны сигнальные и переговорные таблицы, четкий график вхождения в связь. Все это способствовало успешным боевым действиям бригады во время боев за Белоруссию.
Сразу же после освобождения городов Жлобин и Бобруйск была получена радиограмма от начальника инженерных войск фронта генерала Прошлякова о немедленном выделении трех батальонов для разминирования этих городов. На выполнение этой задачи мы направили 4-й мотоинженерный батальон, 6-й батальон электризуемых заграждений и 8-й батальон специального минирования.
* * *
После ликвидации окруженной бобруйской группировки гитлеровцев дивизии, занятые на этой операции, форсированным маршем догнали основные силы 65-й армии, ведущие бои уже под Барановичами. Туда же на автомашинах перебросили и 5-й батальон. 8 июля Барановичи были освобождены, и наши саперы приступили к разминированию города.
Правый фланг 1-го Белорусского фронта продвинулся далеко на запад. Возникла реальная угроза пинской группировке гитлеровцев. Она начала отход на заранее подготовленные позиции по берегам реки Турья. Стремясь максимально задержать продвижение наших войск, гитлеровцы широко применяли различные виды минно-взрывных заграждений.
Наши 6-й и 7-й батальоны, вошедшие вместе с передовыми частями 47-й армии генерал-лейтенанта Н. И. Гусева в Ковель, обнаружили в городе многочисленные минные поля. Минировано было все: дома, брошенная военная техника, различные вещи. Только за два дня наступления под Ковелем батальоны обезвредили около пятнадцати тысяч различных мин и взрывных ловушек.
Пытаясь задержать наше наступление, гитлеровцы предприняли несколько яростных контратак. Вместе с артиллеристами и пехотинцами их отражали подвижные отряды заграждений 6-го и 7-го батальонов. Минеры быстро прикрыли минами передний край наших войск. Потеряв на минах несколько танков, гитлеровцы убрались восвояси.
* * *
Вечером 6 июля на КП бригады мы слушали приказ Верховного Главнокомандующего об освобождении Ковеля. В приказе перечислялись соединения и части, отличившиеся при взятии города: «…саперы полковника Киселева, подполковника Соколова, майора Соколова».
Но почему не упомянули фамилию командира бригады? Может быть, с генералом Иоффе что-нибудь случилось? Вскоре новая тревога – радиограмма от командира оперативной группы подполковника К. В. Ассонова (эта группа действовала уже в районе Беловежской пущи). Из довольно сумбурного текста радиограммы можно было понять, что произошло какое-то чрезвычайное происшествие. Ассонова собираются предавать суду военного трибунала. Это сообщение немедленно передали в оперативную группу Соколова под Ковель. Там находился командир бригады. Через несколько минут получили короткий ответ: «Выезжаю. Иоффе».
Что же произошло в оперативной группе Ассонова? Почему фамилия Соколова, а не Иоффе упомянута в приказе Верховного Главнокомандующего? Эти вопросы волновали всех работников штаба.
Генерал Иоффе прибыл в штаб бригады утром и уже через два часа, решив только срочные, неотложные дела, уехал к Ассонову. Вид у Михаила Фадеевича был хмурый. Обратно в штаб генерал вернулся дня через два. Сразу же с улыбкой сообщил:
– Все в порядке. Пустяковое дело. Зря только Ассонов панику развел!
Позднее я узнал, что, если бы не энергичное вмешательство командира бригады, дело могло кончиться далеко не пустяками. А случилось вот что.
65-я армия стремительно наступала, и саперы не всегда могли тщательно проверить освобожденную территорию, и даже дороги и колонные пути. Из-за этого и произошло несколько подрывов. При одном из подрывов был контужен член Военного совета армии генерал-майор Н. А. Радецкий. Начальник инженерных войск армии П. В. Швыдкой объявил, что во всех подрывах виноваты минеры нашей бригады. Был заготовлен приказ с объявлением строгого выговора К. В. Ассонову. Непосредственные виновники плохого разминирования должны были быть преданы суду военного трибунала.
На самом же деле наши батальоны разминировали только ту полосу, где подорвался генерал Радецкий. Установили, что виллис генерала ехал по дороге, по которой ранее прошли десятки танков и автомашин. Судя по воронке, оставшейся после взрыва, машина генерала подорвалась, скорее всего, на противотанковой гранате. Как она попала на дорогу? Могли уронить с автомашины. Не исключено, что подложил какой-нибудь гитлеровец. Их тогда немало скрывалось в окрестных лесах. У Иоффе произошел крупный разговор с генералом Швыдким. Очевидцы утверждали, что во время этой «беседы» тряслись стекла хатки.
Но все кончилось довольно мирно. Проект приказа был уничтожен. Угроза появления темного пятна на репутации нашей гвардейской бригады ликвидирована. Генералы расстались вполне миролюбиво.
Немало волнений мы пережили и из-за другого «чрезвычайного происшествия» – пропажи 4-го батальона майора И. А. Эйбера. Батальон передислоцировался под Ковель. Часть личного состава поехала на автомашинах, а главные силы во главе с комбатом отправились по железной дороге. Но в указанное время батальон к месту назначения не прибыл.
Командир бригады, казалось, кипел от возмущения:
– Черт знает что! Ну задержался в дороге, всякое бывает… Но ничего не сообщать о себе!.. Нет, это на Эйбера просто не похоже!
Через несколько дней батальон «нашелся». Из-под Ковеля получили короткую радиограмму: «Находимся в назначенном месте. Все в порядке». В ответной было всего четыре слова: «Комбату немедленно прибыть бригаду».
В этот день мы с комбригом заснули поздно. Под утро, когда чуть начали светлеть окна, ординарец неслышно приоткрыл дверь и прошептал: – Товарищ генерал, прибыл майор Эйбер!
– Пусть отдохнет с дороги. Доложит после! – приказал Иоффе.
Утром выспавшийся Михаил Фадеевич был в хорошем настроении. Когда вошел Эйбер и доложил о прибытии, Иоффе сделал вид, что не узнал его.
– Виктор Кондратьевич, кто это? Эйбера мы знаем, он человек аккуратный, дисциплинированный, а это кто? – И уже совсем другим тоном: – Где столько времени пропадали? Почему не докладывали?
Выяснилось, что Эйбер действительно попал в тяжелое положение. Основные силы батальона разместились на восьми открытых железнодорожных платформах и прицепились к эшелону тяжелой артиллерийской бригады. В пути саперы несколько раз попадали под бомбежку. Особенно трудно пришлось около узловой станции Сарны, на которую постоянно налетали фашистские бомбардировщики. Эшелон часто останавливался из-за повреждения пути. Всякая радиосвязь была запрещена, чтобы противник не мог следить за переброской войск. Решили все-таки дать короткую радиограмму в штаб бригады. Однако бдительные радисты-артиллеристы немедленно засекли развернутую в вагоне радиостанцию. Начальник эшелона обвинил комбата чуть ли не в шпионаже и пригрозил отцепить платформы. Тогда Эйбер послал в бригаду с донесением мотоциклиста. В дороге у мотоциклиста сломалась машина. Когда прибыли в Ковель, то узнали, что и здесь радиосвязь строжайше запрещена. Эйбер отправил радиста за десяток километров от станции и приказал во что бы то ни стало связаться с бригадой.
…Наступление наших войск в Белоруссии успешно продолжалось. 18 июля была прорвана оборона врага западнее Ковеля. Через два дня передовые отряды вышли к реке Западный Буг, стремительно форсировали его в районе Зберже и вступили на территорию братской Польши.
1, 3 и 7-й батальоны проделали перед наступлением проходы в минных полях противника и пропустили через них без единой потери пехоту и танки. Затем они вместе с передовыми отрядами продвигались вперед, ведя инженерную разведку и разграждение маршрутов движения войск. Все три батальона в числе первых форсировали Западный Буг. При этом саперы, тщательно проверив и разминировав места переправ, обеспечили успешный ввод в прорыв кавалерийского корпуса. 22 июля части 47-й армии овладели городом Холм, зашли в тыл города Брест, отрезав пути отхода значительной вражеской группировке.
Успешно развивалось наступление и в полосе 65-й армии. В составе этой армии действовала оперативная группа подполковника К. В. Ассонова в составе 2-го и 5-го батальонов.
Больших трудов нашим минерам стоило преодоление Беловежской пущи. Наши батальоны наступали вместе с передовыми отрядами и производили разминирование и уничтожение завалов на дорогах, идущих через Беловежскую пущу. Вспоминаю свою поездку к Ассонову в те июльские дни.
Наш виллис стремительно несся по хорошо накатанной сотнями автомобильных шин грунтовой дороге, пересекающей этот старинный заповедник. По обеим сторонам грунтовки огромные столетние дубы. Сквозь их густую листву с трудом пробиваются лучи жаркого летнего солнца. Время от времени попадаются светлые заросшие густой травой и цветами поляны. Кажется, вот-вот из-за кустов появится дикий зубр. Водитель Козлов мечтает его увидеть.
– До сих пор только на этикетках встречал, – смеется он.
Неожиданно вместо зубра перед нами появляется указатель с надписью: «Сто метров поворот налево!»
Козлов уменьшает газ. Вовремя! Сразу же за поворотом огромный лесной завал. Около него люди. Ба! Да это наши. Ко мне с докладом подходит командир 2-го батальона майор Борис Васильевич Козлов. Любуюсь отличной строевой выправкой этого офицера. Высокий, стройный, бравый, настоящий гвардеец.
Лесные завалы оказались серьезным препятствием. Огромные дубы диаметром более метра было крайне трудно пилить или растащить. Чтобы не задерживать наступающие части, на каждый завал оставлялась группа саперов, которая готовила объезд. Когда основная часть войск проходила, завал подрывали.
– Вот привез трофейного тола, – рассказывал Козлов, – да и хочу проверить, как дела у хлопцев идут с завалами. Да, чуть не забыл, товарищ подполковник! На железнодорожной станции Беловежа захватили несколько вагонов с немецкими противотанковыми минами.
– Вот это здорово! – Я не удержался от радостного восклицания. – А какие мины?
– Тысяч пять тарельчатых и около двадцати тысяч старых противотанковых. Старые, видимо, из гитлеровского НЗ прислали. На фронте таких уже давно не видно.
Это было приятное известие. Трофейные мины нам очень пригодятся для подвижных отрядов заграждений. Правда, летом 1944 года нам вполне хватало своих мин. Тяжелые, неудобные и опасные при установке деревянные мины ЯМ-5 уже не выпускались. В основном мы получали мины ТМД-Б, разработанные Б. М. Ульяновым, Н. И. Ивановым и Н. П. Беляковым. Эта мина представляла собой небольшой деревянный ящичек почти квадратной формы, сбитый гвоздями из десятимиллиметровых досок. Ее можно было снаряжать любым взрывчатым веществом: тротиловыми шашками, плавленым или порошкообразным взрывчатым веществом, прессованными брикетами. Обычно мины снаряжались брикетами из смеси тротила и аммонита. Брикеты изготовляли на обычных кирпичных заводах, на тех же прессах, на которых раньше делали кирпичи. Два готовых брикета вкладывались в ящик. Между ними ставился промежуточный детонатор – стошестидесятиграммовая тротиловая шашка. Весила мина около девяти килограммов, из которых на взрывчатое вещество приходилось немногим менее пяти.
Боевой опыт показал, что заряд этой мины надежно перебивает гусеницы гитлеровских танков T-III и T-IV. Но в отдельных случаях при наезде на край мины танки T-V и Т-VI сохраняли подвижность. Был у мины и другой существенный недостаток. Деревянный откидной щиток, закрывающий отверстие для установки взрывателя, от влаги разбухал и его невозможно было приподнять. Поэтому многократное использование таких мин затруднялось. В 1944 году конструкция мины была несколько усовершенствована. Вместо откидного щитка в центре корпуса сделали круглую горловину, закрываемую стеклянной или пластмассовой пробкой. Модифицированная мина получила наименование ТМД-44. Эти мины мы только начали получать. Время от времени в бригаду поступали металлические противотанковые мины ТМ-41, похожие на высокие металлические кастрюли. Кстати, их и делали на предприятиях, выпускавших до войны хозяйственную посуду. Весила мина семь килограммов и при снаряжении литым тротилом имела заряд в пять с половиной килограммов. Этого вполне хватало для того, чтобы перебить гусеницу любого вражеского танка.
Мины ТМ-41 имели и некоторые недостатки: значительную высоту, недостаточную механическую прочность, слабую герметичность. Но для подвижных отрядов заграждений в то время это была наиболее подходящая мина. Подвижным отрядам заграждений в наступлении нужны были именно мины с металлическим корпусом. Ставя мины, саперы уже думали, как их придется снимать.
В период оборонительных боев под Сталинградом все помыслы были только о том, как задержать гитлеровские танковые колонны, как затруднить фашистским саперам проделывание проходов. Здесь более или менее нас устраивала деревянная мина ЯМ-5, не обнаруживаемая миноискателем. Ведь нам проделывать проходы в минных полях тогда почти не приходилось.
Преимущество металлических мин для подвижных отрядов заграждений мы поняли только под Курском. В ходе боев наши саперы ставили мины, как правило, перед вражескими танками, рвущимися в глубину обороны. Противник в этом случае обычно не имел саперов и редко занимался проделыванием проходов в минных полях. Ему было не до этого.
Подорвалась передняя машина – вражеские танки пытаются обойти минное поле. В этих условиях относительная легкость обнаружения миноискателем металлических мин почти не имела практического значения для противника, зато являлась существенным положительным фактором для наших саперов.
Какие же противотанковые мины имели на вооружении фашистские минеры? Наиболее распространенной в первый период войны у гитлеровцев была противотанковая мина TMi-35. Внешне она напоминала большую металлическую чечевицу с небольшим цилиндриком взрывателя в центре. Весила мина порядочно – десять килограммов, из которых чуть больше половины приходилось на взрывчатое вещество. С точки зрения ставящего ее сапера, если не считать вес, мина отличная. Гитлеровские конструкторы постарались создать мину, безопасную при установке, надежную и долговечную в работе, допускающую многократную установку. Однако образец получился крайне сложный в производстве. Видимо, у ее создателей был и корыстный расчет. Ведь изготовлялись мины на частных заводах, а чем больше ее стоимость, тем больше прибыль. Мина TMi-35 создавалась с учетом основной доктрины гитлеровской армии – стремительного наступления в глубь неприятельской территории и кратковременной победоносной войны. В этих условиях нужно было иметь сравнительно небольшое количество удобных, легко устанавливаемых мин, в основном для прикрытия флангов. Ведь фашисты обороняться не собирались, только наступать, а мина всегда рассматривалась как оборонительное средство.
Однако уже первые недели боев на советско-германском фронте показали агрессорам, что легкой прогулки не получится. Разгром гитлеровских полчищ под Москвой окончательно похоронил идею блицкрига. Небольшой запас мин TMi-35 был израсходован за несколько месяцев. Нужно было налаживать их массовое производство. Сразу же стало ясно, что это практически невозможно из-за сложности конструкции. Квалифицированная рабочая сила была нужна для выпуска более важной продукции: самолетов, танков, стрелкового оружия.
Уже в 1942 году в Германии срочно создается новая металлическая противотанковая мина TMi-42, внешне напоминающая большую перевернутую тарелку – гитлеровцы ее так и называли – «Теллермине». Она тоже была довольно сложна по конструкции, хотя и проще своей предшественницы. Главным недостатком мины было то, что она требовала дефицитной тонкой стали и мощных прессов для производства корпусов. Это означало, что ее производство можно было организовать только на хорошо оборудованном предприятии. Между тем советскую металлическую мину ТМ-41 можно было изготовлять даже в мастерских с маломощным прессовым оборудованием. Деревянные же наши мины собирались в любых столярных мастерских, даже в школьных. Количество затрачиваемых человеко-часов на производство одной немецкой мины было раз в десять больше, чем на советскую. Во второй половине 1942 года гитлеровцы почти полностью скопировали нашу далеко не самую удачную деревянную мину ЯМ-5. Вскоре на фронте появился ее немецкий вариант – «Хольцмине-42». Большего фиаско немецкой конструкторской мысли в области минно-взрывного вооружения не придумаешь.
Аналогичное положение было и с противопехотными минами. На вооружении Красной Армии с начала войны в основном состояли мины нажимного действия ПМД-6 (противопехотная мина, деревянная, шестой образец), внешне похожие на деревянные детские пеналы. Они снаряжались взрывателем МУВ и 200-граммовой тротиловой шашкой. Несколько позже появились мины ПМД-7, меньшего размера, с 75-граммовой тротиловой шашкой. В августе – сентябре 1941 года советские конструкторы П. Г. Радевич и Н. И. Иванов создают исключительно простую и эффективную осколочную мину натяжного действия ПОМЗ-2 (противопехотная осколочная мина заграждения, второй образец). Эта мина состояла из литого чугунного корпуса, взрывателя МУВ, 75-граммовой шашки, деревянного кола, на который насаживался корпус, и одного-двух колышков с проволочными оттяжками.
Очень эффективными оказались мощные противопехотные осколочно-заградительные мины ОЗМ-152, управляемые по проводам. Они представляли собой корпус артиллерийского снаряда калибром 152 миллиметра, к днищу которого приваривалась вышибная камера с пороховым зарядом и электровоспламенителем.
Такую мину устанавливали в грунт и взрывали по проводам в случае необходимости. Вышибной заряд подбрасывал снаряд в воздух, где он разрывался над землей, образуя большое количество осколков. Уже в ходе войны были созданы так называемые универсальные вышибные камеры (УВК), которые позволяли использовать прямо на месте любые артиллерийские снаряды и минометные мины, как советские, так и трофейные.
На вооружении немецко-фашистской армии в начале войны состояла противопехотная осколочная мина SMi-35, или «Шпрингмине» (прыгающая). При срабатывании она выбрасывала стальной цилиндр, начиненный 340 шариками, который взрывался на высоте около метра над поверхностью земли. По боевой эффективности это была отличная мина. Однако и она отличалась очень большой сложностью и трудоемкостью в производстве. Для массового производства в условиях военного времени мина была явно не пригодна. В 1942 году гитлеровцы были вынуждены заменить свой сложнейший взрыватель для противопехотных мин ZZ-35 на ZZ-42, являющийся копией советского МУВа. По типу мины ПОМЗ-2 в Германии была разработана так называемая «Штокмине». Фашистские изобретатели потирали руки: «Превзошли даже русских по простоте конструкции!» Корпус этой мины был из бетона с мелкими металлическими включениями. Но напрасно радовались! Наши конструкторы добивались простоты мины без существенного уменьшения ее боевых качеств. Гитлеровцы же в своем стремлении к упрощению явно перестарались. Известно, что поражающее действие осколков пропорционально массе и квадрату их скорости. Удельный вес корпуса «Штокмине» в среднем был раза в три меньше, чем у советской. Поэтому фашистская мина отличалась крайне малой эффективностью.
Так подробно на состоянии минно-взрывной техники в Красной Армии и немецко-фашистской армии я остановился потому, что для нашей бригады основной задачей была борьба с минами и их установка.
Опыт боевых действий показал, что, хотя довоенные образцы гитлеровских мин по своим боевым качествам несколько превосходили наши, общее направление в разработке минно-взрывных средств было более правильным у советских конструкторов. Однако для подвижных отрядов заграждений на всех этапах металлические мины были предпочтительнее, поэтому захват в качестве трофеев нескольких тысяч металлических мин был большой удачей для бригады.
Посмотреть на захваченные мины захотелось самому. Главное – поточнее определить их количество. Комбаты в бригаде подобрались хитрые и хваткие. Трудно ведь удержаться от соблазна иметь в запасе тысчонку-другую металлических мин. А для этого стоит лишь на такое количество уменьшить число захваченных трофеев. В этом случае рождалось «диалектическое противоречие» между интересами отдельных батальонов и всей бригады.
– Как, справятся без вас с завалом? – спрашиваю Козлова.
– Так точно, товарищ подполковник.
– Тогда поехали в Беловежу!
На железнодорожной станции разгрузка мин уже заканчивалась. На разгрузочной эстакаде около сожженного пакгауза высились штабеля мин, по-хозяйски прикрытые брезентом. Около них прохаживался часовой с автоматом. Служба в батальоне Козлова была налажена хорошо. TMi-35 были в специальных удобных для переноски каркасах на две мины, a TMi-42 – в прочных ящиках по пять штук. Посчитал. Количество сходилось.
– Борис Васильевич, десять тысяч мин возьмете себе, пять передадите в пятый батальон. Пусть оттуда подошлют машины. Остальные передадите в НЗ бригады. Как это лучше сделать, пусть решит Ассонов. Свяжитесь с ним.
– Есть, будет сделано!
Впрочем, я в этом не сомневался. Майор Козлов был одним из самых дисциплинированных офицеров нашей бригады, в которой четкость и исполнительность стали своеобразным культом.
Вскоре недалеко от железнодорожной станции Беловежа расположился и временный командный пункт бригады. Дня через три его перевели в Гайновку. Не успели мы расположиться на новом месте, как стали поступать тревожные сведения. Противник начал усиленно контратаковать части 65-й армии, вырвавшейся далеко на запад и значительно опередившей соседей слева и справа. Гитлеровцы атаковали с северо-запада, из района города Бельск. Навстречу им рвались фашистские части, окруженные под Брестом. Завязались ожесточенные бои. В них активное участие принимали 2-й и 5-й батальоны. Однако обстановка была не совсем ясной. Поэтому комбриг предложил:
– Давай поезжай снова к Козлову, посмотри, как дела у него.
Штаб 2-го батальона находился в небольшом селе, недалеко от железнодорожной станции Черемха. На месте майора Козлова не оказалось.
– Комбат в ротах – организует действия ПОЗов, – доложил встретивший меня заместитель командира батальона по политической части майор Скуратов.
– Доложите обстановку на вашем участке.
Из-за голенища замполит извлекает карту. Разворачивает. Но в это время подъехал командир батальона майор Козлов. Он доложил, что танки противника рвутся к станции Черемха. Подвижными отрядами заграждений на подступах к станции установлено более двадцати минных полей. Несколько танков уже подорвалось. Однако положение остается сложным.
Утром 23 июля частям танковой дивизии СС «Викинг», наступавшим из района Бреста, удалось соединиться с 4-й фашистской танковой дивизией, наносившей удар из района Бельска. Несколько дивизий 65-й армии оказались в трудном положении. Вместе с частями 105-го стрелкового корпуса в окружение попал и наш 5-й батальон. Временно штаб 65-й армии расположился в Гайновке недалеко от командного пункта нашей бригады. Вскоре к Батову для организации ответного удара и ликвидации прорыва прибыл заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и командующий 1-м Белорусским фронтом генерал армии К. К. Рокоссовский. Срочно были подтянуты резервы.