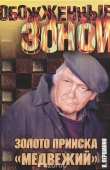Текст книги "История одного лагеря (Вятлаг)"
Автор книги: Виктор Бердинских
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
Остается лишь добавить к этому драматическому повествованию, что случаи, когда женщины сами "навещали" мужские "зоны" (за деньги, еду, "цацки" или даже бесплатно – ради "удовольствия"), не были редкостью. А нравы в лагере крутые, и тех "искательниц приключений", кто "награждал" сексуальных партнеров-лагерников "дурной болезнью", наказывали безжалостно, иногда подвергали своеобразному "аутодафе" – связывали и бросали в жарко разведенный костер…
Ну и на самом дне лагерного "мужского сообщества" находились так называемые "опущенные" (или "обиженники") – пассивные гомосексуалисты. В "зонах" их именуют "петухами", "козлами", "женивой", "машами", "красными косыночками", "девочками", "дешевками", "маргаритками" и другими презрительно-оскорбительными (по преимуществу – "дамскими") кличками (фантазия лагерных "острословов" тут поистине безгранична). Судьба этих людей в лагере ужасна: ни один "порядочный" заключенный не поздоровается с "опущенником" за руку, не возьмет из его рук курево или пищу, не сядет с ним за один обеденный стол и на одну скамью в клубе, не ляжет рядом на барачных или "столыпинских" нарах, не пойдет с ним в баню, не будет работать в одной бригаде и т.д. Считалось чуть ли не "престижным", составляющим предмет особой "блатной" доблести и гордости, "использование" этих несчастных, но страшным, несмываемым позором – любое "неделовое" общение с ними. Для "обиженки" нет нормального спального места в бараке (оно "отводится" где-нибудь в самом дальнем и грязном углу, а то и в сушилке, кочегарке или – летом – просто на "улице")… Фактически – это изгои, "парии" в лагерном "мире", люди, совершенно забитые, действительно обиженные и опущенные на самое темное дно человеческих отношений, – каста неприкасаемых.
Очевидец замечает:
"В основной массе они ("опущенные" – В.Б.) были когда-то изнасилованы, чаще всего – за карточный проигрыш. Для начала вовлекают "баклана-шпингалета-пацана" в игру, дают выиграть, а затем обыгрывают и насилуют группой "выигравших"… Или сначала "подкармливают", а потом уговорами, угрозами или силой заставляют согласиться "на один разок"… И все – никаких тебе прав, никакой защиты! Отныне и навечно – ты "петух"! Кто захочет тебя обидеть – обижает, пожелает изнасиловать – насилует. Короче говоря, – ты изгой, и это твой крест до гроба…"
***
Завершим этот непростой раздел нашего «экскурса» в лагерный мир следующим коротким резюме.
Проблемы "секса в неволе" еще ждут своих исследователей.
И дело не только в известной "экзотике" темы, потрясающей изощренности множества специфических "операций" и приспособлений для удовлетворения долговременно сдерживаемых естественных потребностей и получения при этом максимально возможной физиологической и эмоциональной (сенсорной) компенсации.
Гораздо более важна социально-психологическая сторона этих отношений, невероятно сложная, чрезвычайно запутанная и выходящая (по своему влиянию и своим последствиям) далеко за пределы уголовной среды.
Здесь – обширное "поле деятельности" не только для адептов школы Фрейда (сексологов, психоаналитиков и т.п.), но и объект для глубоких социально-психологических изысканий и обобщений…
г/ Язык лагерных символов
1920-е – 1930-е годы в истории «Страны Советов» – эпоха господства политической фразы и символов, порожденных «Великой революцией». В определенном смысле «слово» стало важнее «дела», сильнее жизни, приоритетнее экономики. Миллионы людей искренне стремились «превратить 5 в 4», искали и уничтожали «врагов народа», жили «историческими решениями» и «пламенными лозунгами» пленумов ЦК и партийных съездов. «Слово партии и государства» превратилось в вектор бытия всего народа.
К этому социальному феномену с полным на то основанием следует отнести и символику ГУЛАГа. Лагерный канцелярит ("новояз"), система команд и приказов с их квазиромантической патетикой и псевдореволюционным пафосом "перековки" миллионов, эмблематика, фалеристика и ономастика органов НКВД-ГБ – все это области, совершенно не изученные на сегодня, обладающие колоссальным объемом исторического подтекста, смысловой "тайнописью", куда нам пока ход закрыт…
Отражением в кривом зеркале ГУЛАГа общего для всей страны синдрома "виртуализации действительности" является и символика мира заключенных: с острохарактерным стилем лагерных поделок (что мастерились для себя, "родных и знакомых"), специфичной иерархией "блатных" татуировок, особым лексиконом, а также рядом других знаковых систем. В настоящем исследовании мы коснемся в основном лишь проблем лагерного языка – так называемой "фени".
Отметим, что эта тема изучалась специалистами МВД, но в прикладном смысле, для сугубо ведомственных целей, а изданные в свое время практические словари предназначались "для служебного пользования", то есть приравнивались, по сути, к секретным документам.
Между тем лагерная лексика несет в себе отнюдь не узкоутилитарные функции: в ней сконцентрированы философия, мировоззрение, нравственные установки и, без преувеличения, социальные ориентиры уголовной субкультуры, сформировавшейся, возьмем на себя смелость такого утверждения, во вполне определенную и немалозначимую страту нашего общества.
Основу лагерного языка составил воровской жаргон 1920-х годов, которым некогда так увлекались отечественные поэты-конструктивисты (например, Илья Сельвинский). Эта "лексическая система" предназначалась для "кодирования" криминальной "профессиональной" информации, чтобы в нее не смогли "внедриться" посторонние. Именно поэтому "воровской" жаргон перегружен специфическими, чисто "цеховыми" терминами.
В своем замечательном очерке "Язык, который ненавидит" не раз уже цитировавшийся нами писатель С.Снегов делает вывод, что "блатной" язык – это речь ненависти, презрения, недоброжелательства. Он (этот язык) обслуживает вражду, а не дружбу, выражает вечное подозрение, страх предательства, ужас наказания, Этот язык пессимистичен, он уверен, что вокруг – все мерзавцы и ни один человек не заслуживает хорошего отношения…
"Блатной" жаргон действительно крайне скуден по своему содержанию, и тем не менее он на протяжении многих десятилетий "подпитывал" обиходную речь населения Советского Союза (в основном, конечно, русскоговорящих, но отнюдь не только их). Сотни тысяч возвращавшихся из лагерей сограждан вносили свой (и заметный) "вклад" в язык миллионов. Элементы "фени" становились устойчивой "модой" для молодежи и интеллигенции (очередной "пик" этой "моды" мы, безусловно, переживаем в настоящее время). Какая-то часть "блатного" лексикона прочно утвердилась в общем языке, что-то "вымылось" из него, но присутствие "фени" в нашем повседневном общении остается прочным, становится все более заметным фактом "изящной словесности" и последовательно "корректирует" литературно-лексические нормы…
Каковы же принципы "структурирования", строительства "блатного" жаргона? Попробуем определить их тезисно, в максимально сжатом виде. Прежде всего отметим, что хотя слова русской речи здесь переиначиваются, но делается это не хаотично, а системно.
Главный принцип "кодирования" – вещность и частность.
Главная методологическая установка – "принцип оскорбления".
Основная функция – информативность: в этом "языке" нет мышления, он не дает возможностей для "интеллектуальной" беседы.
Словарный запас "фени" создан уголовным миром, как мы уже говорили, для обеспечения безопасного взаимообмена информацией в присутствии посторонних людей – "нежелательных" либо несведущих ("не ботающих по фене"). В качестве "наглядного пособия" приведем образец рассказа "вора" своим "коллегам":
"Канаю на бон, зырю – угол, разбиваю… У, блин! Кишки, прохаря, котлы!.."
На слух непосвященного – абракадабра, не так ли? А теперь – дословный перевод:
"Иду на вокзал, вижу – чемодан, вскрываю… У, б…! Тряпье, сапоги, часы!.."
Новичка в "зоне" определяют и по манерам поведения, и по сюжетам татуировок, но прежде всего – по разговору ("трепу"). Наиболее употребительные в уголовном среде понятия имеют множество жаргонных обозначений. Например, выражение "говорить неправду" в переводе на "феню" может звучать так: "трепездонить", "толкать фуфло", "темнить", "вешать лапшу на уши", "крутить луну", "толкать телегу", "потереть уши", "закосить словами"…
По наблюдению П.Т.Ожегина, "урка" не скажет "украл" или "ограбил". Для этого он использует жаргонизмы: "прихватил", "ковырнул", "наколол", "липонул": "ковырнул" кассу, "наколол раззяву"… Деньги также имеют свои обозначения: "лавешки", "дубы", "драхмы", "бабули", "гульдены", "алтушки", "башки", "башли", "барыш", "бабки", "бонаши", "капуста"… По-своему называются на "фене" купюры и разменные монеты: один рубль – "дуб", десятирублевая ассигнация – "декашка", сторублевка – "кусок" или "косая", миллион – "лимон" и т.д. Нож по-"блатному" именуется "пером", пистолет – "игрушка", "пушка", "машинка", "зажигалка", "керогаз", "вольер", "бирка", а патроны к нему – "пчелы", "орехи", "горючее", "маслята"… Так что если в "зоне" мелькнет "слушок", что кто-то имеет "керогаз, заправленный маслятами", – это вовсе не "кулинарная" шутка, а серьезный сигнал для администрации: кто-то из заключенных "обзавелся" пистолетом с патронами – нужно принимать срочные "оперативно-профилактические" меры…
"Блатари" не скажут: "убили человека". Они "замаскируют" эту фразу выражениями "одели в деревянный бушлат", "грохнули", "расписали", "поставили куранты"… Если сказано: "Грохнули по лобашу, а он и хвост откинул," – следует понимать, что кого-то ударили по голове и убили…
Если один "урка" говорит другому: "Фильтруй базар!" – это значит: "Попридержи язык, следи за своей речью!" Вопрос: "По фене ботаешь?" – "в переводе" означает: "Говоришь ли на "блатном" языке?"…
Мы ранее уже пытались ответить на вопрос о том, с какой целью создавался и употребляется уголовниками "блатной" жаргон. Вряд ли стоит принимать здесь в расчет какие-то принципиальные "идейно-концептуальные" соображения, попытку выделиться в некое сообщество под девизом: "своя "зона" – свой мир – свой язык". Все гораздо проще и прагматичнее.
Во-первых, владение "феней" – это определенный внешний признак, по которому сразу можно отличить "своего брата-блатаря", "урку", "цветного" (то есть человека своего криминального круга – "своей масти") среди "чужих" – "фраеров", "мужиков" и т.п.
Во-вторых, коверкая общепринятый язык, применяя "феню", уголовники тем самым ограждают себя "словесным туманом" от окружающих, чтобы скрыть от них (при необходимости) истинное содержание разговора (беседы) между собой. Прежде всего это (в условиях лагеря) необходимо, если в присутствии представителей администрации, охраны или просто "нежелательных" людей возникает нужда переговорить ("покалякать", "перетрекать") о каких-то очень серьезных и "конфиденциальных" вещах: о подготовке к побегу, например. В последнем случае может прозвучать: "Перепрыгнем баркас, замочим жабу и прихватим игрушку!" – и дай Бог, чтобы присутствующий при этом разговоре сотрудник или стрелок охраны понял: замышляется преодолеть "запретку" и забор лагпункта, убить часового и забрать у него оружие…
Ну а в-третьих, "ботать по фене", вести разговор на "блатном" своем "птичьем" языке считалось (и считается) в уголовной (и, заметим, отнюдь не только в уголовной) среде своего рода "шиком", "хорошим тоном" ("а ля бонтон"), так же, как и умение виртуозно, вычурно, со всевозможными и немыслимыми вариациями демонстрировать неисчерпаемые, бездонные запасы русской ненормативной лексики, проще говоря – "баловаться" отборным ("от души") отечественным матом…
Отметим, что, как правило, у многих "лексем" "блатного" жаргона имеются свои прототипы в реальной жизни.
Пример "навскидку": хулиганов (которых среди осужденных всегда с избытком) сами лагерники уничижительно называют "бакланами" (хулиганить – "бакланить"). Какова же "этимология" этого жаргонизма? Оказывается когда-то на Дону был такой атаман Бакланов, который славился своей несдержанностью и рукоприкладством. Его-то фамилия и перешла в "феню", "закрепилась" в ней, но уже как собирательное, нарицательное понятие.
Другой пример: "трекало" ("пустомеля", "болтун", "пустобрех") – эта "фенечка" происходит от названия инструмента, с которым в старину ходили сторожить но ночам жители юга России и Украины, охраняя покой своих хуторов и станиц. Инструмент самый немудрящий: доска с ручкой, внизу которой на веревке (либо на ремешке) приспособлено "било" – гайка или камушек. При движении ручки "било" ударяет то по одной, то по другой стороне дощечки, и производит трескучий дробный звук – нечто вроде "трекания". Так это приспособление и называлось – "трекало"…
И такого рода примеров можно привести немало.
Но это уже выходит за рамки избранной нами темы.
Подчеркнем еще раз: "феня" – профессиональный жаргон "блатного" мира – вырос на почве нормативного языка. Но он создан и используется со строго определенными целями – как "прикрытие" от внешнего мира и, одновременно, как вербально-знаковая система общения внутри своей маргинальной социальной страты с очень низким образовательным уровнем, крайне узким культурным кругозором и почти полным отсутствием цивилизованных духовных потребностей.
К явлениям этого же порядка относится и выработанная в уголовной среде на протяжении долгого времени еще одна – изобразительно-знаковая, криптографическая – система. Мы имеем в виду своеобразную и специфичную для лагерей традицию татуировки ("наколки"). Это тоже – своеобразная система отличительных знаков в криминальной среде, средство внешней "идентификации" заключенных в лагерной иерархии.
Технология нанесения татуировки предельно проста и до последнего времени в лагерных условиях каких-либо новаций не претерпела: игла – тушь – немного терпения – и "все дела"…
А вот что касается манеры исполнения и содержания "наколок" – тут спектр чрезвычайно широк: от подлинных художественных шедевров – до примитивной порнографии, от замысловатых орнаментов – до банальных надписей-цитат из "блатного" фольклора… Здесь все определяется фантазией и мастерством исполнителя, а также вкусом, прихотями и (в немалой степени) болеустойчивостью "заказчика". Но есть в этом деле одно непреложное правило: "наколка" должна четко и достоверно отражать, к какой категории ("масти") лагерного сообщества относится ее владелец. Именно по содержанию, сюжету, символике татуировки можно практически безошибочно определить, когда и за что посажен человек, к какой "блатной" группировке он принадлежит, каковы его внутренний мир, жизненные устремления, цели, намерения (нередко на самых "обозримых" местах "пропечатывается", скажем, клятва отомстить тем, кто "заложил" или "продал" и т.п)… "Наколки" у гомосексуалиста иные, нежели у наркоманов, у насильника они не совпадают с "росписью" убийц, у "цветных" – отличны от рисунков на теле у простого работяги – "мужика" и т.д. Например, "паук в путине" означает наркомана, "гладиатор" – хулигана, "крест" – карманного вора…
Обратимся вновь к воспоминаниям ветерана Вятлага П.Ф.Лещенко (речь в них идет о середине 1950-х годов):
"…На "Волнушке" с наступлением тепла, пока не взбесились мошкара и гнус, многие заключенные старались при любой возможности (в том числе на работе) "погреть косточки" на чахлом северном солнышке и "подзагореть", раздеваясь при этом до пояса, а то и более… Я обратил внимание на изобилие и качество татуировок на телах. Просто диву даешься, каково художественное мастерство тех, кто творил эти шедевры… Причем преобладали изображения русалок и "ангелов-амуров" на руках, монастырей – на спине (там же часто "помещали" почему-то мавзолей-усыпальницу "вождя мирового пролетариата"), но самое странное – это обилие нагрудных "портретов" Ленина и Сталина (первый – на правой стороне груди, второй – на левой)… Ходила по "зонам" легенда, что где-то в какой-то "расстрельной" тюрьме одного "вора", приговоренного к "высшей мере", оставили в живых только потому, что у него на груди – "прямо над сердцем" – была "наколка" с портретом "Усатого" ("Усатый", "Ус", "Зверь", "Пахан", "Трубка", "Гуталин" – лагерные прозвища Сталина)…
Вместо "саморуба" (с целью отдохнуть в "больничке") иные лагерники наносили на лоб, лицо, веки татуировки с крамольными надписями типа "раб КПСС", "сын Вятлага" и т.п. Такие "наколки" вырезали вместе с кожей прямо в медпунктах "зон" – и без какой-либо "анестезии"… Встречались "зеки-долгосрочники" с "богатым" уголовным прошлым, у которых чуть ли не каждый сантиметр кожи на теле, включая интимные места, был покрыт татуировкой…
Делали "наколки", естественно, и заключенным женщинам. По преимуществу это были эротические рисунки на спине, груди, других местах. Бывали и "нейтральные" сюжеты: например, летящий с трамплина лыжник – гигантская "композиция" через всю спину…"
Вся эта "живопись", как и любая лагерная символика, значима, информативна. Но истинное ее смысловое содержание закодировано и предназначено лишь для круга "посвященных" – "своих" людей из "блатного мира".
д/ Лагерные судьбы
…Деревянные, грубо сколоченные стеллажи – до потолка и во всю длину холодного просторного помещения – битком набиты невзрачными, порядком потрепанными канцелярскими папками. Одни – совсем тонкие, в несколько страниц, другие – помассивнее и потолще… На нескольких стеллажах сбоку прикреплены бумажки с надписями красным карандашом: «58-я статья»… «Спецпоселенцы»… Это – ведомственный архив Учреждения К-231 с «личными делами» тех заключенных, что умерли, погибли, сгинули в Вятлаге на протяжении всех шестидесяти лет его существования («дела» остальных бывших лагерников, за исключением бежавших и не возвращенных в «зону», через определенное соответствующими инструкциями время списываются «по акту» и уничтожаются «путем сжигания», а документы на тех, кто переводится в другие «места лишения свободы», вместе с заключенными «уходят по этапу»). Многие тысячи архивных папок, и в каждой из них – последнее (а нередко и единственное) свидетельство о чьей-то искалеченной, до срока оборвавшейся человеческой жизни…
Что же содержалось в таком "личном деле" того несчастного, кто злой волею судьбы либо по собственной вине оказывался здесь, в лагере? Обратимся к конкретным архивным материалам, повествующим о конкретном бывшем заключенном Вятлага. Тонкая стандартная серая папка – "Личное дело з/к Копытина М.П.". Внешне – ничего примечательного. Но открываем обветшавшую обложку – и перед нами трагическая судьба необычного, незаурядного, по всей видимости, человека. Начинается "дело" небольшой бумажкой, озаглавленной так – "Выписка из протокола Особого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР". Внизу – факсимильная подпись секретаря… Это – страшная, кровавая "бумага". Именно она и решила судьбу Копытина М.П., как и несчетного круга его товарищей по несчастью. Их ведь даже не судили очно – "приговоры" выносились ОСО НКВД либо местными территориальными "тройками" "заглазно", целыми списками, в которых зачастую – сразу десятки, а то и сотни фамилий. "Обвиняемых" никто не защищал, они и сами-то, как правило, отсутствовали на процедуре своей гражданской казни… Через какое-то время (иногда уже в лагере) их знакомили с "приговором" и заставляли расписываться на его обороте. При отказе заключенного от такой "расписки" проблем не возникало – тогда прикладывал руку (и не только к бумаге) тот сотрудник НКВД, который этот приговор "подсудимому" оглашал или кто-то из "коллег-чекистов". У некоторых заключенных (в основном – у так называемых "бытовиков") вместо этих бумажек мог быть "настоящий" приговор (постановление) суда или военного трибунала. Но для "политических" (или "контрреволюционных") "личных дел" наличие такого рода документов – явление, мягко говоря, нехарактерное… Словом, сверхмощная машина террора действовала без перебоев и не особо утруждая себя соблюдением юридических формальностей…
Но вернемся к открытой перед нами подшивке документов, именуемой "личным делом заключенного". Итак – Копытин Михаил Петрович, дореволюционный интеллигент, заместитель председателя Госплана Туркменской ССР, участвовал в гражданской войне на стороне "белых", работал в правительстве Колчака (кстати, никогда этого не скрывал). В 1937 году его, естественно, "повязали"… Перелистывая первые страницы "дела", мы видим "учетную карточку" заключенного Копытина – с "порядковым" лагерным номером, краткими биографическими данными, особыми приметами, перечислением близких родственников, указанием адреса последнего местожительства… Необычно в "деле" Копытина то, что здесь наличествуют сразу два документа, по которым Михаил Петрович был осужден: наряду с упомянутой выпиской из протокола ОСО НКВД СССР от 26 апреля 1940 года имеется еще выписка из протокола предшествующего по времени заседания "тройки" НКВД Туркменской ССР ("Слушали…, постановили: Копытина Михаила Петровича заключить в ИТЛ сроком на десять лет, считая срок с 25.VII.37 г…"). Очевидно, что Копытин пытался обжаловать решение "туркменской тройки" в центральных инстанциях и это принесло (на волне показушной бериевской "оттепели") некоторый результат: "тяжелую" статью 58-11 ("контрреволюционная деятельность" – "КРД") заменили на более "легкую" – 58-10 ("антисоветская агитация" – "АСА").
Далее в "личном деле Копытина М.П." имеются: постановление об избрании меры пресечения; лист с отпечатками пальцев обеих рук; сопроводительное письмо в тюрьму; медицинская карточка; служебные записки по тюрьме; протокол личного обыска; ордер на допрос; сопроводительные письма (при переводе из одной тюрьмы в другую); квитанция на изъятые при аресте личные вещи; отказ в удовлетворении кассационной жалобы; вятлаговская характеристика; донос тюремного "шептуна" о "перестукивании з/к Копытина с лицами в соседней камере"; формуляр к "личному делу"; протокол "медицинского освидетельствования инвалида Копытина М.П."; фотографии "з/к Копытина" (в профиль и анфас); справки по "личному делу" и в завершении – "Акт о смерти" и "Акт погребения" (умер Копытин М.П. от дистрофии в преддверии войны). Вот и все, что осталось от человека на грешной земле… Сколько таких судеб пресеклось в свирепую полосу "ежовщины" и "бериевщины"? Люди с глубокими культурными корнями, отличные профессионалы в своей сфере деятельности, но чуждые новой власти в силу их "непролетарского" происхождения, погибали за фикцию, за неугодную строчку в анкете – в каннибальских условиях лесного лагеря они, в большинстве своем, были обречены…
Отмечались, впрочем, редчайшие случаи, когда некоторые "уникумы" (как правило, уголовники – социальным происхождением "из рабочих и крестьян") проводили в лагерях всю свою жизнь.
Бывший начальник вятлаговского 22-го ОЛПа вспоминает:
"Один из заключенных (фамилию не помню) впервые сел за мелкое воровство в 1913 году. К 1952 году он совершил более 20 побегов, но только однажды добрался до Москвы и был задержан на вокзале. За каждый побег ему давали дополнительный срок наказания. В 1954 году он должен был освободиться в возрасте около 65 лет. Родственников растерял, жизни на "гражданке" не представлял. Здоровье и возраст давали о себе знать. Боялся освобождения и в разговорах неоднократно заявлял, что намерен совершить новое преступление, чтобы продлить срок и остаться в лагере…"
Случались истории и прямо-таки анекдотические, если не сказать – трагикомические. Нищая и голодная жизнь в советском колхозе послевоенной поры была настолько убогой и нестерпимой, что отбывший на 26-ом ОЛПе Вятлага свой "срок наказания" за "хищение общественного имущества" рядовой удмуртский колхозник заключенный Н. при освобождении из лагеря в 1951 году "упросил" оставить его работать там же при "зоне" по вольному найму (хозвозчиком на лагпункте). По словам Н., он только здесь, в лагере, увидел, что такое простыня и нормальная еда… И ему (в порядке исключения) пошли навстречу. Он обосновался в лесном прилагерном поселке, привез сюда из родной удмуртской деревни жену с детьми… Но "идиллия" продолжалась недолго: через некоторое время Н. "попался" при попытке "провезти в "зону" водку ухищренным способом" и, как положено, тут же был уволен и выселен за "пределы Вятлага"…
"Лагерный отпечаток" на судьбе человека оставался (так или иначе) навсегда – "на всю оставшуюся жизнь". ГУЛАГ постоянно воспроизводил сам себя, формировал и расширял преступность в советском обществе. Человек, единожды попавший в лагерные "жернова", очень часто (более чем в одной трети случаев) обречен был вернуться в "зону". Значительная масса людей, когда-либо осужденных (уголовников-"бытовиков") вновь попадала в "места заключения" по тем же самым или еще более тяжким статьям УК. Ну а молодежь, пройдя в тюрьмах и лагерях жесткую и основательную "воровскую школу", в значительной массе своей превращалась в закоренелых преступников-профессионалов…
Рецидивной преступности в немалой (а нередко – определяющей) степени способствовала сама система отношений государства, местных властей и общества к бывшим заключенным: ограничения (часто – абсурдные) для проживания в крупных городах ("за 101-й километром" и т.п.), искусственные трудности с устройством на работу и получением жилья, семейные проблемы, становившиеся крайне болезненными или просто неразрешимыми за время гигантских сроков "отсидки" на лагерных "дачах", нескрываемо негативное, предубежденное отношение милицейских начальников по месту жительства и хозяйственных администраторов на предприятиях к прописке и приему на работу лиц с "подмоченной репутацией"…
Уголовный мир получил также мощную "подпитку" из среды крестьянства, разоренного в годы "раскулачивания" и повального голода на Украине и в Поволжье, жертв массового принудительного переселения целых народов, когда десятки тысяч сирот стали беспризорниками и вынуждены были, чтобы выжить, кормиться мелким воровством и другими криминальными "промыслами". Как мы знаем, тяжесть меры наказания (даже за ничтожные проступки) в советском обществе была несоизмерима с истинной виной "правонарушителя". А попав в "исправительно-трудовой лагерь", пройдя там "уголовные университеты", человек "освобождался" от своих обычных естественных привязанностей, ожесточался до звериного состояния и "на грош не ценил" ни своей, ни (тем более) чужой жизни. Лагеря стали своеобразным местом концентрации, передачи и распространения "воровского" опыта, повышения уголовной квалификации, рассадником криминальных порядков, правил, обычаев, норм поведения. Даже в том случае, если человек сам не становился уголовником, он, сталкиваясь с этим миром, невольно заражался его миазмами, "оттачивал" об него свою душу…
Рассказывает П.Ф.Лещенко:
"Как-то в 1958 году по делам школы захожу в кабинет начальника ОЛПа, а у него на приеме – огромного роста и великанских размеров "зэк". Начальник спрашивает: "Чем будешь заниматься, уйдя на "волю"?" Он отвечает: "Буду получать пенсию у ЧК. Я же всю жизнь проработал на них." Оказывается, что этот "гулливер" сидит уже 33 года. Такого я еще не встречал. Вот его история. Молодой парень-костромич на гулянке (или на свадьбе) кого-то избил. Дело обычное по тем временам и в тех краях. Ему дали срок (3 года) и отправили на лесоповал в Кай. Тогда в лагерях еще не было ни "воров", ни других "мастей". Но тут в одном бараке у "работяги" украли деньги, и сход лагерников решил избрать "тройку", которой поручили сделать повальный обыск. В "тройку" выбрали и этого великана-костромича. Когда обыск был проведен, подозрение пало на одного "мужика". Его "приперли к стенке": "Признавайся – или нож!" "Мужик" взмолился и указал, что ворованные деньги зашиты в хлястике бушлата, владельцем которого является как раз один из участников той самой "уполномоченной тройки": "мужик", мол, видел, как "троечник" зашивал их. Хлястик вспороли – деньги там. Наш "герой" (фамилия его – Соколов) схватил нож и зарезал владельца бушлата. Суд – 10 лет. И "загудел" Соколов по кайским "санаториям" НКВД. Досиживал 13 лет. В одной из "зон" назначили его заведующим столовой. К этому времени в "зоне" уже появились "авторитеты", потребовавшее готовить им ("ворам") еду отдельно от "общего котла", от чего Соколов решительно отказался. Тогда они ("ворье") решили зарезать "строптивца-фраера". И как-то рано утром группа "приблатненной" шпаны "прижала" Соколова к котлам, а он схватил первого попавшегося из "резаков", поднял его вверх и опустил головою в котел кипящей каши… Снова суд – еще 10 лет. И так далее…"
Особенно трудна, поистине трагична судьба в Вятлаге жителей южных и прибалтийских республик СССР: Кавказа, Средней Азии, Латвии, Эстонии (а среди них, как сейчас выясняется, оказалось немало уроженцев и подданных зарубежных государств – Афганистана, Ирана, Турции, Греции, Италии, Австрии, Венгрии, Румынии, Германии, Китая…). Морозы, сырость, крайне неблагоприятный климат, постоянный голод делали свое черное дело: порождали массовый туберкулез, дистрофию, пеллагру, а это предопределяло чудовищно высокий уровень смертности (например, по самым "осторожным" предварительным данным, он составлял среди прибалтов – латышей и эстонцев, водворенных в Вятлаг в июле-декабре 1941 года, – от 60 до 70 процентов). Повествуя о 1930-х – 1950-х годах, когда в лагерях "обретал" самый разный "контингент": от дворника – до академика, от колхозного конюха – до известного генерала, от сапожника-кустаря – до союзного наркома, – очевидцы вспоминают множество самых поразительных историй об удивительных человеческих судьбах. Встречались и среди вятлаговских "сидельцев" люди по-настоящему интересные – оригинальные, европейски образованные, представлявшие цвет изводимой под корень "старой" отечественной интеллигенции. И очень многие из них нашли здесь, на болотистых прилагерных погостах, свой мученический вечный покой…
Кроме греющей душу мечты о "воле", каждый узник живет еще верой в то, что его (именно его!) осудили незаконно (или "не совсем законно"). Отсюда – нескончаемый поток писем и жалоб во все доступные и мыслимые "инстанции": от местного лагерного прокурора – до Генерального секретаря ООН… Но лишь на волне "хрущевской оттепели" (да и то отнюдь не часто) все эти "послания" приносили какие-то результаты… Хотя невинно "сидевших" людей в лагерях (Вятлаг – не исключение) всегда хватало (помимо "политических", "нацменов", "следственных" и т.п.). В основном, это те, кто был осужден огульно, по судебному головотяпству, чиновничьему равнодушию и, как правило, – за чужие преступления.