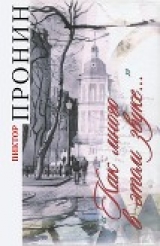
Текст книги "Как много в этом звуке…"
Автор книги: Виктор Пронин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 49 страниц)
– Да нет, почему! Дело не в том, что не хотим, просто это будет неправильно, только и того. – Хозяин даже руками всплеснул, как бы удивляясь бестолковости следователя.
– Понял, – кивнул Зайцев. – Тогда приступим к разговору.
– А до сих пор что у нас было? – усмехнулся хозяин.
– Треп, – ответил Зайцев. – Только треп. Вы давно были у Акимовых?
– Давно. Уж не помню, сколько лет назад.
– А где вы были в эти выходные? Вчера, позавчера?
– На рыбалке.
– Хороший был улов?
Хозяин не успел ничего ответить – Зинаида поднялась, как-то гневно поднялась, почти фыркнув от возмущения. Пройдя в ванную, вернулась оттуда с ведром и поставила его у ног Зайцева. Ведро было почти полное живой рыбы, залитой водой.
И тут в общей тишине почти вскрикнул от восторга бомж, который, похоже, подобных зрелищ не видел в своей жизни. Он присел на корточки перед ведром и, запустив в холодную воду руку, изловил одну рыбешку. Вынув ее из ведра, он поднял, всмотрелся в нее с блаженной улыбкой, обвел всех глазами, словно желая убедиться, что и остальные радуются вместе с ним.
– Какая красавица! – прошептал бомж восторженно и осторожно опустил рыбу в ведро. – Неужели такие еще ловятся в наших усыхающих реках?
– Ловятся, – кивнул Евгений. – Места только надо знать.
– О-хо-хо! – горестно вздохнул бомж и снова уселся на свою табуретку в углу кухни.
– Теперь вы верите, что я был на рыбалке? – спросил Тихонов.
– Да я, в общем-то, и не сомневался в ваших словах. – Зайцев был явно озадачен. – Мне положено составить отчет о нашей с вами встрече, и я задаю протокольные вопросы.
– Хорошая была погода? – неожиданно спросил молчавший бомж.
– Да, – кивнул Тихонов. – Дождь лил как из ведра.
– А в дождь клюет?
– Как видите. – Тихонов кивнул на ведро, все еще стоявшее посреди кухни.
– А у нас в городе не было дождя, – пробормотал бомж.
На этот раз с легким, но вполне уловимым гневом поднялся со своего места хозяин. Он прошел в комнату, на балкон и вернулся с брезентовым плащом.
– Прошу убедиться… Дождь все-таки был. – И он встряхнул сыроватым плащом.
И опять странно повел себя бомж. Он пощупал брезент, восторженно поцокал языком, убедился, что карманы пришиты надежно, что капюшон тоже не отваливается, и наконец попросил разрешения примерить.
– Примерь, – недоуменно пожал плечами Тихонов.
Натянув на себя плащ, бомжара вопросительно посмотрел на Зайцева – каково, мол.
– Тебе идет, – сказал Зайцев.
– Хорошая вещь, – вздохнул бомж. – Такой плащ меня бы частенько выручал. – Сунув руки в карманы, он даже глаза зажмурил от удовольствия. – Может, подаришь? – спросил он у Тихонова.
– В следующий раз, – ответил тот. Бомж с сожалением вернул плащ хозяину.
– С вами кто-то еще ездил на рыбалку или вы в одиночестве? – спросил Зайцев.
Тихонов поворчал, долгим взглядом посмотрел на Зайцева, на бомжа, на собственные ладони.
– Так, – сказал он наконец. – Как я понимаю, мне нужно доказывать, что я в самом деле ездил на рыбалку, что я не убивал Акимовых, да? Я правильно все понимаю? Рыба вас не убеждает, плащ, в котором я больше суток мок, тоже не убеждает, да?
– С Николаем он ездил! – вдруг вскрикнула Зинаида. – Работают они вместе! И на рыбалку ездят вместе. Спросите у Николая, были они на рыбалке или не были.
– Фамилия Николая? – невозмутимо спросил Зайцев.
– Федоров, – ответил Тихонов.
– Я, конечно, извиняюсь, – заговорил бомж, – но, может быть, вы позволите выйти на балкон, сигаретку выкурить?.. У вас тут разговор суровый, криминальный…
– Кури здесь, – сказал Тихонов. Он почему-то сразу решил, что к этому человеку можно обратиться и на «ты».
– Да неловко, – смутился бомж. – Я уж на балконе… Если позволите, конечно…
– Пройди через комнату… Там открыто.
Сутулясь и заворачивая носки ботинок внутрь, бомж вышел из кухни, пересек комнату и толкнул дверь на балкон. И тут же вслед за ним на балкон вышел и хозяин.
– Чуть не забыл, – сказал он, беря сапоги в углу. – Если уж твоему хозяину нужны доказательства… На сапогах еще грязь не просохла. – И он унес сапоги на кухню, а через несколько минут снова бросил их на прежнее место.
Тут же, на балконе, стояли нераспечатанные пачки с кафелем. Они были сложены стопками, и бомж довольно удобно расположился на одной из них, присев в самом углу.
– Ремонт намечается? – спросил он у Тихонова, когда тот вернулся с сапогами.
– Да, небольшой. – Тихонов хотел было уже уйти, но его остановил следующий вопрос бомжа.
– Ванную будете обкладывать?
– Ванная уже обложена… На кухне хочу угол отделать вокруг раковины.
– Хорошее дело, – ответил бомж, пуская дым в сторону – он даже на балконе не чувствовал себя уверенно. – Хочешь, погадаю? – неожиданно спросил бомж.
– Что? – не понял Тихонов.
– Погадаю… Я ведь немного звездочет… А звездочеты, хироманты – одна шайка-лейка. – И он протянул руку. Тихонов в полной растерянности протянул свою, ладонью кверху.
– Ну вот видишь, как все получается… Я примерно такой картины и ожидал…
– И что же там получается? – У Тихонова рука явно, просто заметно дрогнула, и бомж только с удивлением посмотрел на него.
– У тебя линия сердца и линия ума сливаются в одну, это, можно сказать, одна линия.
– И что же это означает?
– То ли сердца у тебя нет, то ли ума… Во всяком случае, сливаясь, эти линии ослабляют друг друга. Это можно сравнить с волнами – они гасят друг друга. Хотя бывает и наоборот, но здесь не тот случай, очень неглубокая линия, да и по цвету бледная… Но жить будешь долго.
– Пока не помру? – усмехнулся Тихонов.
– Жить будешь долго. – Бомж не пожелал услышать ернические слова Тихонова. – Но в разлуке.
– Это в каком же смысле? – Тихонов выдернул свою ладонь из немытых рук бомжа.
– Не знаю… Но разлука на твоей ладони скорая и долгая.
– Ладно, разберемся. – И Тихонов, хлопнув дверью чуть сильнее, чем требовалось, ушел на кухню к Зайцеву.
Когда бомж вернулся на кухню, Зайцев уже прощался с хозяевами, извинялся за вторжение, просил Тихонова подписать протокол с рассказом о рыбалке, Зинаида тоже подписала, убедившись, что в протоколе упомянута и рыба в ведре, и мокрый плащ, и сапоги в грязи, что упомянут Николай Федоров, с которым муж ездил на рыбалку в выходные.
Бомжара произнес первое слово, когда Зайцев уже отъехал от тихоновского дома километров пятьдесят. Все это время он маялся, вертелся на заднем сиденье, вздыхал, курил, выпуская дым сквозь приспущенное стекло.
– Напрасно, – протянул бомж с тяжким вздохом. – Все-таки напрасно.
– Не понял? – резковато спросил Зайцев, поскольку был недоволен бессмысленностью поездки.
– Напрасно ты его не взял.
– Кого?
– Убийцу.
– Какого убийцу?
– Ну этого… Который порешил Акимовых… Старика и старушку.
– Так. – Зайцев резко затормозил, съехал на обочину и, остановив машину, обернулся к бомжу. – Слушаю тебя внимательно.
Бомж помолчал, тоскливо глядя на Зайцева, вздохнул, долго смотрел в окно.
– Ты что, ничего не понял? – наконец спросил он.
– Я понял все, что мне сказали. Все, что услышал. Все, что увидел. Что я еще должен понять?
– Может, он и не убивал, я не могу так вот окончательно судить. Судить, уличать, доказывать – это, капитан, твое дело. Я могу только суждение высказать, предположение, умозаключение…
– Почему ты решил, что он убийца? – твердо спросил Зайцев.
– Он не сказал ни одного слова правды.
– Ты рыбу видел?
– Это не речная рыба. Это прудовая рыба. Он не мог поймать ее на рыбалке. Он мог купить ее в соседнем гастрономе. Она живая. Как он мог живую рыбу привезти домой? Он что, в ведре ее вез? Так не бывает.
– А плащ?
– А что плащ?.. Ну, подставил под душ на минутку, вот он и сделался мокрым. А в карманах сухо. Сухие карманы, – повторил бомж, словно не уверенный, что Зайцев его понял. – Он не был на рыбалке. Но все время доказывал, что был. И все время врал. Зачем ему врать, если он был на рыбалке? Зачем ему так настойчиво отрекаться от Акимовых, если ты нашел у них пачку открыток? Люди старые, одинокие, они рады любой весточке из внешнего мира… Они берегут эти открытки, перечитывают их. Какое-никакое, а все утешение… Он, наверно, не подумал, что его открытки будут хранить годами… Глупый.
– Он и сапоги приносил, показывал… Там грязь еще свежая, – неуверенно проговорил Зайцев.
– Это городская грязь. Возле речки другая… С травой, илом, навозом… А это другая. Вот, возьми. – Бомж вынул из кармана и протянул Зайцеву маленький сверток из газеты. – Грязь с его сапог… Твои ребята пусть посмотрят в свои микроскопы. Они разберутся и скажут тебе, городская она или речная. И еще… У него на пальцах следы клея… «Момент» называется. Чтобы отпечатков не оставить, подушечки пальцев смажешь, и несколько дней клей держится. С одного раза не смоешь, даже если и захочешь.
– У него вроде и свидетель есть…
– А что свидетель? Какой это свидетель? Меня кто-то попросит, я тоже смогу подтвердить все, что угодно. Ты пригласи этого Николая к себе в кабинет, потормоши его хорошенько, скажи, что на кону два убийства… Он и дрогнет. Этот Тихонов наверняка запудрил ему мозги. Дескать, загулял, у бабы был, подтверди, что на рыбалку ездил… Он и подтвердит. Но долго не продержится. Покажи ему снимки трупов, кровь, развороченное лицо старика… Дрогнет. На фиг ему в это вляпываться. Все очень просто, капитан… Тихонову сейчас надо отдалиться от Акимовых… А когда все успокоится, когда ты уже не будешь заниматься этим, он возникнет со своими правами на квартиру… Им сейчас там тесновато, а в трехкомнатной будет в самый раз…
– Неужели вот так просто можно пойти на подобное? – почти шепотом произнес Зайцев.
– А почему нет? – удивился бомж. – Люди каждый день идут на что-то подобное. Сделать аборт, убить собаку, предать друга, прогнать женщину, которая тебя любит, расстрелять стариков в затылок, в спину. Я же говорил тебе – стеснительный убийца тебе попался.
Зайцев долго молчал, глядя перед собой на дорогу, на проносящиеся мимо машины, на темнеющее уже к вечеру небо. Бомж молчал. Поездка для него оказалась утомительной, и он задремал в углу на заднем сиденье.
– И ты давно все это понял?
– Мыслишка мелькнула еще там, в квартире старика и старушки.
– Какая мыслишка?
– Когда я вышел покурить на площадку, с соседом потолковал… В день убийства старик бегал к этому соседу за водкой… Гостя, говорит, надо угостить… А у соседа оказалась только початая бутылка. Старик его заверил – неважно, дескать, сойдет. А початой бутылкой, капитан, можно приветить только близкого человека… Вот и приветил.
– У тебя все? – спросил Зайцев, как бы очнувшись, как бы вернувшись из тех мест, по которым он носился только что.
– Ты о чем, капитан? А, вспомнил… – Бомж протер глаза, поерзал на сиденье. – Еще один момент… Кафель.
– Что кафель? – сдерживая себя, спросил Зайцев.
– На балконе у него кафель. Хороший такой запас кафеля. По качеству он средненький, из дешевых, но много.
– Это хорошо или плохо?
– Смотря с какой стороны посмотреть… Если вообще для хозяина, то хорошо… А для Тихонова плохо.
– Говори, говори, Ваня… Я слушаю тебя, – сказал Зайцев раздраженно. Впрочем, это могло быть вовсе и не раздражение, скорее нетерпение.
– Я спросил у него, зачем, дескать, кафель… Говорит, на кухне возле раковины хочет обложить пару квадратиков… И красиво опять же, и стена не мокнет, и протереть всегда можно…
– И что же здесь от убийства?
– А от убийства, как ты выражаешься, капитан, количество кафеля. Там его метров тридцать! Квадратных! К большому ремонту готовится Тихонов. В его квартире столько кафеля не нужно. Для трехкомнатной квартиры приготовлен кафель. Опять, же линия ума и линия сердца на ладошке…
– Что линия ума? Что линия сердца? – почти заорал Зайцев.
– Сливаются.
– И о чем это говорит?
– Ущербный человек… И по уму, и по сердцу.
– Про ладошку ты хорошо сказал. Надо обязательно включить в протокол, – хмыкнул Зайцев и, включив мотор, круто развернул машину в обратную сторону.
Бомжара возвращается
Нет, ребята, не надо меня дурить, я все в этой жизни уже знаю, во всяком случае, знаю главное – ничто хорошее не может продолжаться слишком долго. А если что-то хорошее и существует некоторое время – это повод задуматься о жизни и правильности твоих представлений о ней. Вот открыли недалеко от моего дома маленький такой магазинчик, хозяйственные товары продавали. Стоило только мне полюбить его легкой, необязательной любовью – закрыли. Теперь там зал игровых автоматов, говорят, заведение более прибыльное. Аптека как-то возникла на углу, хорошая, скромная аптека, без виагры, но с валидолом. Только пристрастился – приказала долго жить. Сейчас там пивной бар. Небольшой, пока еще в кружки пиво наливают, до банок дело не дошло, не растащили еще кружки благодарные посетители на сувениры. Но ходить туда опасаюсь – вдруг привыкну…
Передел собственности продолжается, куда деваться…
Магазин, аптека, бар – ладно, это терпимо, можно переболеть. Но вот женщина… Хорошая женщина, молодая и красивая, любовные записочки писала, коротенькие, но… Разве пишут длинные любовные записки? Обстоятельными бывают лишь прощальные письма. И вот только сроднился, только свет на ней клином сошелся… На моих глазах, представьте, на моих несчастных, как у побитой собаки, глазах она тискается с каким-то поганым хмырем. Может быть, он для нее не такой уж и поганый, но все, кто при мне целуется с ней, – хмыри поганые. И поступила она так не со зла, не по испорченности своей нравственной, нет, ребята, все проще. Увлеклась девочка, заигралась, как она выражается. И просто перестала меня видеть. В самом прямом, простите за ученое слово, физическом понимании слова. Сидел я на голубой скамейке, на набережной, никого не трогал, рядом лежала собака. Так вот, не видела она ни меня, ни собаки, ни моря. В этот момент мы с собакой и с морем в своем значении для нее уравнялись, сделались как бы несуществующими.
Конечно, увидь она меня, нашла бы местечко, где можно было… Для чего угодно нетрудно найти местечко летом в Коктебеле. Кстати, и зимой тоже. Но не увидела. И очень удивилась, когда я горестно рассказал ей об этом случае. Искренняя, блин, бесхитростная. Ну да ладно, не обо мне речь и не об оптических странностях, случающихся время от времени с некоторыми красавицами на коктебельском берегу.
Ваня, бомжара Ваня – вот кто опять растревожил душу мою. С ним случилась примерно та же история, что и со мной. Едва только прижился он в подвале неплохого дома, только обустроил себе местечко возле трубы парового отопления – тюфяк притащил со свалки, подушку, оставшуюся от покойника, трехногую табуретку в качестве ночного столика… Пришли улыбчивые дяденьки с добрыми, но волевыми лицами и заварили арматурой все выходы и входы в подвал этого дома. Да так сноровисто, быстро, умело, что не успевшие выбежать бездомные собаки еще неделю, подыхая от ужаса и безысходности, выли в том подвале.
И ничем Ваня помочь им не мог. Бросал сквозь прутья найденные в мусорных ящиках куски подсохшей колбасы, корки хлеба, но без воды собаки не могли это есть, а воды он не мог дать, не сумел изловчиться.
И ушел со двора, чтобы не слышать предсмертного собачьего воя. Дело вовсе не в том, что пришли во двор люди безжалостные и бездушные – о добре думали, о детях заботились, об авторитете родного города на международной арене. Какой-то важный президент приезжал на пару дней, и, чтобы Москва ему понравилась, решили срочно от бродячих собак и бездомных людей избавиться. Опять же и собаки эти, и люди были переносчиками заразы, а дети от них могли заболеть и слечь с температурой, поносом и прочими детскими хворями. Опять же полиция в городе появилась взамен осрамившейся и потерявшей всякое к себе доверие милиции.
Так Ваня оказался на городской свалке – это по Минскому шоссе, где-то за сороковым километром, за Голицыно. Свалка большая, просторная, почти до горизонта громоздились дымящиеся кучи мусора – день и ночь свозили сюда самосвалы отходы жизнедеятельности громадного города.
Ваня пристроился неплохо – на опушке, среди березок, но подбирался, подбирался все ближе к нему мусор, безжалостно поглощая деревья, полянки, тропинки. И Ваня каждую неделю переносил все дальше в глубь леса свою картонную коробку из-под большого телевизора, или, как их называют, домашнего кинотеатра. Кто-то ведь смотрел эти самые домашние кинотеатры с экраном в полстены.
Ваня был не одинок – сотни бомжей жили здесь, кормились, выясняли отношения, частенько непростые отношения. Суровость жизни многих ожесточала, но упрекать их было нельзя, найденный кусок колбасы в свежей куче мог на несколько дней продлить жизнь.
С одной из таких куч и начались события, в которые Ваня опять влип со всей необратимостью, на которые бывают способны события. Все было как обычно – приехал из Москвы самосвал, пристроился, чтоб удобнее и мусор свалить, и отъехать без помех. Поскольку Ваня оказался рядом, он первым подошел к куче. Кивнул водителю, поздравил его, по своему обыкновению, с хорошей погодой, тот тоже произнес что-то необязательное, дескать, удачной тебе охоты, мужик, счастливых тебе поисков и находок. И отъехал.
Постояв у кучи, Ваня поддал консервную банку, отпихнул ногой газетный сверток, развернул что-то тряпочное, бесцельно потыкал палкой, и тут его внимание привлек небольшой сверточек, тоже газетный. Ваня поднял его, повертел перед глазами и развернул…
И тут же отбросил, вернее, отдернул от свертка руку.
Внутри газеты лежал человеческий палец.
Ваня присел и некоторое время рассматривал находку, не прикасаясь. Палец ему не понравился. Был он какой-то неопрятный, в подсохших пятнах крови и отрезан неаккуратно, наискосок. Взяв из мусорной кучи щепку, Ваня перевернул палец и увидел, что заканчивается палец длинным ногтем, покрытым красным лаком. Возраст пальца он определить не мог, поскольку тот уже и подсох, и как-то съежился. Но в том, что палец женский, сомнений не было.
– Так, – сказал Ваня и беспомощно оглянулся по сторонам. Но никого рядом не было, и никто не мог ему посоветовать, как быть дальше. – Так, – повторил Ваня. Осторожно завернув палец в ту же газету, он сунул его в карман, ушел к березкам и забрался в свою картонную коробку.
Находки ему попадались самые разные – почти новая чашка, непочатая бутылка водки, медаль за взятие Берлина… Но чтобы человеческий палец… Такого еще не было. Ведь где-то, видимо, живет человек, которому этот палец принадлежит… Если этот человек, конечно, жив…
– Да ведь ее пытали! – воскликнул он вслух. – Значит, преступление… И, похоже, убийство… Если людям рубят пальцы… То вовсе не для того, чтобы после этого выпустить их на волю… На воле они могут навредить… Сообщить куда надо, в полицию опять же, поскольку вера в нее и надежда на нее ничем еще не омрачены…
Дальнейшие действия Вани были спокойными и уверенными. Он уже твердо знал, как ему поступить, что делать и в каком порядке. Порывшись в своей куртке, он во внутреннем кармане нашел небольшую картонку, которая служила ему телефонной книгой. Там было всего несколько номеров, но ему в его жизни больше и не требовалось. Выбравшись из коробки, Ваня направился в дальний конец свалки, где обитал молодой, но нелюдимый бомж, у которого, несмотря на все его недостатки, было и достоинство – мобильный телефон. Кто-то на большой земле, в суровой Москве, помнил о нем и время от времени оплачивал его редкие и бестолковые звонки.
Бомжа звали Арнольд. Так назвали его родители лет двадцать назад, видимо, желая ему жизни красивой и возвышенной. Не получилось, не состоялось. Мобильный телефон – единственное, что осталось у него от прошлого.
– Я к тебе, Арнольд, – сказал Ваня.
– Прошу садиться, – бомж сделал широкий жест рукой, показывая на кучу тряпья. – Что привело тебя ко мне в столь неурочный час?
– Почему неурочный?
– Послеобеденный отдых, – пояснил Арнольд.
– Я на минутку.
– Валяй, Ваня. Всегда тебе рад. Телефон? Звонок другу?
Вместо ответа Ваня лишь развел руки в стороны. Надо, дескать, куда деваться. Арнольд молча протянул мобильник.
– Я не умею, – сказал Ваня. – Набери, пожалуйста. – И, сверившись со своей картонкой, продиктовал номер Зайцева. Трубку долго никто не поднимал, Ваня маялся, виновато поглядывая на Арнольда, он уже сомневался в том, что поступает правильно, когда вдруг неожиданно в трубке раздался суматошливый голос Зайцева.
– Да! Я слушаю! Говорите! Капитан Зайцев слушает!
– Привет, капитан, – негромко проговорил Ваня.
– Кто говорит?
– Ваня.
– Какой Ваня?! – требовательно спросил Зайцев.
– Тот самый.
– Не понял? Повторите!
– Да ладно тебе, капитан, – Ваня потерял терпение, понимая, что идут драгоценные секунды, текут чужие деньги за разговор. – Ваня говорит. Бомжара на проводе.
– А! – сразу все понял Зайцев. – Так бы и сказал! Слушаю тебя, Ваня. Говори!
– Повидаться бы…
– Когда?
– Сейчас.
– Ни фига себе!
– Я теперь на свалке обитаю… Сороковой километр Минского шоссе… Буду ждать тебя у километрового столба.
– Что-то случилось?
– Да.
– А подробнее?
– Труп.
– Подробнее, говорю!
– Женский.
– Буду часа через полтора!
– Заметано, – сказал Ваня и протянул трубку Арнольду. – Отключи, я не знаю как.
– Где это ты труп обнаружил? – спросил Арнольд без интереса, из вежливости спросил, чтобы разговор поддержать.
– Да ладно, – Ваня поднялся, отряхнул штаны и, заворачивая носки внутрь, побрел в сторону Минского шоссе.
Дымились кучи мусора, свезенные со всей Москвы, среди них неприкаянно бродили бомжи, что-то искали, что-то находили, иногда перекрикивались, узнавая друг друга в прозрачном дыму. У каждого в руке была палка, крюк, кусок арматурной проволоки. Это было не только орудие поиска, это было оружие, надежное и опасное. И разборки, которые здесь случались время от времени, подтверждали, что люди эти, несмотря на кажущуюся беспомощность, таковыми не были. Лохмотья, сумки через плечо, молчаливость, вернее, немногословность – все это было вынужденное, наносное и к сущности этих людей отношение имело весьма отдаленное.
Мусорные кучи, и свежие, и уже почти сгоревшие в вялом зловонном огне, действительно простирались чуть ли не до горизонта. Это был целый мир со своими законами, правилами, обычаями, мир не то чтобы злобный, нет, скорее его можно назвать чреватым. Любое неосторожное слово могло обернуться дракой, а то и кое-чем покруче, вышвырнутые из жизни люди были обидчивы, настороженны, и никогда нельзя было заранее предугадать, как они отнесутся к новому человеку, к неожиданному слову, нарушению сложившихся условностей.
Ваня в разборки не влезал, за лакомые кучи не дрался, никакие свои права не отстаивал, прекрасно понимая, что ни к чему это. пустое. Махнув Арнольду на прощание рукой, он через минуту скрылся в тяжелом, стелющемся над землей дыму. К километровому столбу вышел безошибочно и сел возле него, подстелив под себя подобранную по дороге картонку. Вот так неподвижно, не проявляя нетерпения, он мог просидеть час, два, три, не замечая проносящихся машин, проносящегося времени, проносящейся жизни.
– Привет, Ваня! – эти слова Зайцева вывели его из забытья, и он слабо улыбнулся, чуть шевельнув приветственно рукой.
– Садись, капитан, – Ваня приглашающе похлопал ладошкой по траве. – В ногах правды нету.
– А где она, правда? – напористо спросил Зайцев, присаживаясь. Поначалу он хотел было пригласить Ваню в машину, чтобы там поговорить без помех, но вовремя спохватился, решив, что с бомжом лучше общаться на свежем воздухе.
– Где правда? – усмехнулся Ваня. – В дыму! – он сделал широкий жест рукой, показывая Зайцеву раскинувшуюся перед ними сватку.
– В этом?
– Дым – понятие широкое, – раздумчиво заметил Ваня и вскинул к плечу раскрытую ладонь – точь-в-точь как это делали когда-то греческие боги, собравшись потусоваться на Олимпе. – Дым ведь не только скрывает, он и многое обнажает в нашей жизни, полной неопределенности и непредсказуемости.
– Да, видимо, ты прав, все именно так и есть, – чуть поспешнее, чем следовало, ответил Зайцев. – Слушаю тебя, Ваня.
– А правда, что при переводе из милиции в полицию звездочку на погоны дают?
– Ха! Размечтался! Дадут! Догонят и еще раз дадут!
– Надо же, – Ваня осуждающе покачал головой. Не произнося ни слова, он полез в карман, вынул газетный сверток и протянул его Зайцеву.
– Что это? – спросил тот.
– Вещественное доказательство, – Ваня опять вскинул правую руку в божественном жесте, как бы говоря, что добавить к сказанному нечего.
Зайцев настороженно взял сверток, развернул и некоторое время рассматривал с озадаченным выражением лица. Потом аккуратно завернул палец в тот же клочок газеты и посмотрел на Ваню как бы даже жалостливо.
– Где ты это взял?
– Нашел… Там, – Ваня махнул рукой в сторону дымящегося пространства.
Зайцев долго смотрел на стелющийся дым, на бродящие между куч мусора зыбкие фигурки бомжей, на самосвалы, на заходящее красное солнце, которое сквозь низкий дым казалось каким-то бесформенным. Потом осторожно, искоса взглянул на Ваню и тяжко, прерывисто вздохнул.
– Возьми, – он протянул сверток. – Оставь себе. На память о нашей встрече.
– Не понял? – сказал Ваня, но сверток взял и сунул его обратно в карман.
– Ваня… – Зайцев помолчал, подбирая слова, которые не обидели бы бдительного бомжару. – Мы каждый день находим… Головы… Руки-ноги… Младенцев в целлофановых пакетах… А ты со своим пальцем… Хочешь, чтобы я всю эту свалку просеял в поисках оставшихся пальцев?
– А американцы два своих взорванных небоскреба… Просеяли.
– И что нашли? – с интересом спросил Зайцев. – Ни фига не нашли.
– А зачем просевали?
– Надо было что-то делать… – Зайцев поднялся. – Помнишь, была школьная дразнилка… Один американец засунул в попу палец и думает, что он заводит патефон, помнишь?
– Помню.
– Тогда на этой веселой ноте мы с тобой и расстанемся. Рад был тебя повидать. В случае чего… Звони. Заметано?
Вернувшись к своему лежбищу, Ваня опрокинулся на спину, заложив руки под голову. Ноги его в коробке не помещались, они лежали на пожухлой траве, но это его не смущало. Разговор с капитаном Зайцевым нисколько его не затронул, другого результата он и не ожидал. А если и пригласил следователя, то только для очистки совести. Чтобы потом, когда кто-то, живущий в нем, спросит: «Ваня, а ты все сделал, что мог?», он имел бы право спокойно ответить: «Все».
Пока лежал он и смотрел в картонное свое небо, мимо несколько раз промелькнула неслышная тень, хотя какой звук может издавать тень? Но эта тень была именно неслышной. Краем глаза Ваня отмечал ее появление, ее какую-то уже нечеловеческую настойчивость. Он знал – это хозяйка окровавленного пальца. Когда долго живешь наедине с самим собой, такие вещи начинаешь замечать. Это в толпе, в разговорах пустых и тщеславных, видишь только самого себя и не замечаешь странной жизни, невидимо струящейся мимо.
– Ладно, – сказал Ваня. – Успокойся. Помню про тебя, помню.
И тень исчезла.
Ваня приподнялся и сел – размер коробки позволял сесть. Вынув из кармана сверток, он развернул его, осторожно отложил палец в сторонку и расправил на колене клочок газеты. Это был верхний левый угол газеты «Коммерсант». Номер страницы был залит уже подсохшей кровью, а вот дата просматривалась – газета вышла три дня назад.
– Очень хорошо, – пробормотал Ваня и все свое внимание теперь уже обратил на палец. Отсечен он был кривовато, но гладко, одним ударом. Ваня хорошо себе представил, как можно это сделать. Например, кухонным топориком, если положить палец на разделочную доску. А можно приставить к пальцу острый нож и ударить по тыльной его стороне. Или садовым секатором.
Почему-то эти картины замелькали перед его глазами, более того, у него появилась уверенность, что все именно так и происходило. Маникюр на пальце был излишне красным, почти как на пожарной машине, а кроме того, лак был несвеж. На нем можно было различить царапинки, кое-где уже отвалились чешуйки. Увидел Ваня еще одну подробность – и под маникюром было что почистить, там была не только запекшаяся кровь, но и, простите, грязь.
– Виноват, – пробормотал Ваня смущенно, извиняясь перед хозяйкой за свою наблюдательность.
Снова завернув палец в газету, Ваня втянул ноги внутрь коробки, закрыл вход картонными створками и улегся до утра. Размазанное по небу солнце уже село, и свалка погрузилась в темноту. Кое-где еще мелькали искорки тлеющих отбросов, но света они не давали. Только фары проносящихся по трассе машин позволяли ориентироваться в этой кромешной темноте.
Проснулся Ваня в хорошем расположении духа, прошелся между березок, чтобы размять затекшие ноги, разжег небольшой костерок. Насадив на прутик найденные накануне сосиски, он обжарил их и с удовольствием позавтракал.
Машина, которая вчера привезла мусор с пальцем, появилась уже после обеда.
– Привет, – сказал Ваня, подходя к водителю. – Помнишь меня?
– Старик, ты чего? Вчера же встречались! Я еще пожелал тебе счастливых поисков и находок… Нашел чего счастливого?
– Нашел, – кивнул Ваня. – Ты это… Помнишь, откуда вчера привез свое добро?
– А я всегда привожу с улицы Пржевальского… А что?
– И номер дома помнишь?
– Номер? Подожди, дай подумать… Значит, так… Вчера я заправился, потом мент пристал… Форма на нем была милицейская, хотя на самом деле уже, наверно, числился полицейским, как ты думаешь? Очень старался… Хотел я от него поллитрой откупиться – не взял. Представляешь, поллитру не взял?! Потом я зацепил машину какого-то придурка… Вспомнил! Это был двадцать четвертый дом… Точно! Двадцать четвертый. Но, знаешь, там большой двор, потому что три дома под одним номером… Корпус один, корпус два, корпус три… Врубился?
– Да, вроде…
– Неужто нашел чего?
– Письмо забавное, – слукавил Ваня. – Хочу найти, кто писал.
– Тогда надо с почты начинать, – посоветовал водитель.
– Ты это… Может, подбросишь?
– Что, прямо сейчас?
– Мои сборы недолги, – Ваня махнул в сторону своей коробки.
– Заплатишь?
– Бутылка водки… Непочатая.
– Хорошая водка? – с настороженностью спросил водитель.
– Гжелка… Кристальская… Поллитровка.
– Годится. Поехали.
Двадцать четвертых домов действительно оказалось три. Расположенные буквой «П», они замыкали большой двор с детским садом, школой и заброшенной хоккейной площадкой. Дома были девятиэтажные, блочные и какие-то непривлекательные – с ржавыми потеками, которые тянулись от железных прутьев балконов, кое-где застекленных, развешанным для просушки бельем, сваленным на них хламом…
Почту Ваня нашел быстро – она располагалась в одном из этих домов. Возле входа висел телефонный автомат – ныне большая редкость в Москве. Сняв с крючка трубку, Ваня убедился, что автомат работает – редкость еще большая.







