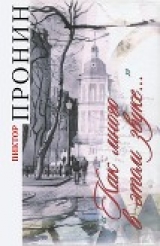
Текст книги "Как много в этом звуке…"
Автор книги: Виктор Пронин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 49 страниц)
Очнулся Варахасин у себя дома, в кровати, в своей пижаме. Над ним склонилось заботливое и встревоженное лицо Таисии. Чуть в стороне Варахасин увидел человека в белом халате. Врач был лыс и улыбчив.
– Ну вот мы и проснулись, – сказал врач мягким воркующим голосом. – Вот нам уже и хорошо.
– Игнатий, – всхлипнула Таисия. – Как ты себя чувствуешь?
– Плохо, – сказал Варахасин. – Но это хорошо. Я влюбился, Таисия. Я влюбился и не знаю, как мне быть.
– Как же помочь тебе, Игнатий? Ведь с этим надо что-то делать!
– Да, я знаю, это большая беда. Я уже не могу…
– Может быть, с ней поговорить? Пусть бы она уехала куда-нибудь, а?
– Не поможет, – слабым голосом ответил Варахасин. – Я поеду следом. Я за ней куда угодно поеду.
– А если тебе уехать куда-нибудь? На полгода, на год?
– Не получится, Таисия. Она приедет, она найдет меня.
– А если ей выговор объявить или на товарищеский суд вызвать?
– Это ее только рассмешит. И меня тоже, – упавшим голосом ответил Варахасин. – Нет-нет, ничего не получится. Я пойду… помоги мне встать… Я должен идти, иначе я умру…
– Куда?! – воскликнула Таисия с ужасом.
– К ней. Где мои туфли?
– Может быть, ее сюда пригласить?
– Нет, нам удобнее встретиться на улице. Смотри, какая ясная осень. – Лицо Варахасина осветилось радостью предстоящей встречи. Солнечный луч, отраженный от желтой листвы клена, упал ему на лицо, и оно сделалось даже розовым.
– Есть еще один выход. – Врач поднялся и подошел к кровати, поставив рядом с собой блестящую никелированную кастрюлю. Варахасин сразу почувствовал опасность, исходящую от этой железной банки. В это время раздался телефонный звонок.
– Это она! – воскликнул Варахасин. – Дайте мне трубку! Дайте, не то мне будет плохо, я могу умереть… – Действительно, он побледнел и без сил откинулся на подушку. Таисия поднесла трубку к самому его уху, но уже раздались частые гудки отбоя. – Она сейчас позвонит снова, – прошептал Варахасин. Через минуту снова раздался звонок.
– Как ты? – спросила Алиса.
– Ничего… Какой ты молодец, что позвонила… Уже лучше. Говори, говори, мне сразу стало лучше.
Минут через пять Варахасин положил трубку на рычаги телефона, стоявшего на кровати, и облегченно перевел дух. Врач сделал знак Таисии, и она вышла из комнаты.
– Есть еще один выход, – повторил врач, открывая свою кастрюлю.
– Какой? – настороженно спросил Варахасин.
– Укол. Безобидный, безболезненный укол. И все пройдет. Сейчас многие прибегают к этому средству. Иначе жизнь бы стала невозможной. Непредсказуемой. Мы не можем этого допустить. Я сделаю вам укол, и вы проснетесь здоровым человеком. Вы будете радоваться жизни, станете румяным и веселым, и ваши друзья снова вернутся к вам. И ваша жена…
– Я не хочу выздоравливать! – закричал Варахасин, увидев в руках врача большой прозрачный шприц с кривоватой иглой на конце. – Я хочу болеть дальше! – кричал Варахасин, а врач тем временем достал стеклянную ампулу, напоминающую по форме бутылочку, с хрустом надломил ей горлышко и погрузил кривую иглу в желтоватую густую жидкость. Вставив большой палец в железное блестящее кольцо, он втянул всю жидкость в шприц, отвел его в сторону, нажал на кольцо. Желтый фонтанчик ударил из иглы, сверкнул на солнце, и об эту искру опять обожглось настороженное сознание Варахасина.
– Я ненавижу себя здорового и веселого, доктор! – воскликнул Варахасин. – Я боюсь того человека, в которого вы хотите меня превратить! Он мне противен! От него можно ожидать всего, чего угодно. Он убьет меня!
– Все так говорят, – улыбнулся врач, показав белые острые зубы. – А потом благодарят, подарки приносят, конверты…
– Стану глупым и угодливым, буду лукавить, льстить и обжираться! Я превращусь в животное! Я уже был животным, я знаю, что это такое! Пощадите же человека, который начал просыпаться во мне!
– Ваша жена дала расписку в том, что не возражает против курса лечения. А поскольку вы не отвечаете за свои слова и поступки, то ее слово является окончательным. Таисия Тихоновна! – крикнул врач, обернувшись к двери.
– Но это буду уже не я, это будет другой человек!
Вбежала Таисия и, не говоря ни слова, упала на Варахасина поперек туловища, намертво обхватив его руками, так что он не мог пошевелиться. Варахасин дернулся, но тут ему на ноги сел врач и задрал на животе пижаму.
– Потерпи, родненький, – шептала сдавленным от натуги голосом Таисия, обливаясь слезами. – Потерпи, Игнатушка, тебе станет лучше, всем нам станет лучше. Это совсем не больно…
И тут Варахасин почувствовал, как ему в живот чуть пониже пупка вонзилась кривоватая игла и в его тело начала вдавливаться желтая жидкость. Он еще раз дернулся, но уже слабея, уже теряя сознание. Ноги его потеряли упругость, с лица исчезло напряженное страдающее выражение. Через несколько минут он спал глубоким сном. Щеки его порозовели, губы округлились, лицо разгладилось.
Через неделю врач закрыл Варахасину больничный лист, и тот вышел на работу. Вышел в охотку, соскучившись по сотрудникам и несложным своим обязанностям. Шел Варахасин пружинисто, предвкушая многочисленные встречи. И действительно, уже через десять минут в курилке раздавался его уверенный сытый басок, вокруг, как сумасшедшие, смеялись сотрудники едва ли не из всех отделов. И вдруг все неожиданно примолкли – в конце коридора показалась Алиса. Она шла с какими-то бумагами, просматривая их на ходу, и лишь за несколько шагов увидела Варахасина. Остановилась от неожиданности, не зная, как ей быть.
– А! Алиса! – радостно воскликнул Варахасин. – Что-то давно тебя не было видно, а? – И он снова повернулся к курильщикам, вспомнив еще один анекдот, тоже смешной, – он немало наслушался их от врача, который приходил к нему каждый день со своим шприцем и ампулами. Стеклянные колбочки с желтой жидкостью врач надламывал с душераздирающим хрустом, и каждый раз это было последнее, что слышал Варахасин.
– Ну вот и все, – сказал наконец врач. – Вы здоровы. Поздравляю.
– Спасибо, доктор! – с чувством произнес Варахасин и незаметно положил в карман его белого халата небольшой конверт, который приготовила жена.
Маета
Еще с вечера я решил, что утром сяду писать рассказ. Мужественно отказался от встречи с Юрием Ивановичем, по телефону извинился перед Равилем, еще кое-куда позвонил: не могу, дескать, нечто чрезвычайное… Ну, и так далее. В общем, умыкнулся, чтобы уж никакие события, никакие случайности не повредили рассказу, который начну завтра утром.
Стол, конечно, был завален бумагами, письмами, какими-то листочками с телефонными номерами, таблетками от головной боли, визитными карточками, командировочными удостоверениями, проездными билетами. Все это я рассовал по конвертам, ящикам, а большую часть бумажного хлама попросту смахнул на пол. На освободившееся место установил пишущую машинку, рядом положил стопку чистой бумаги, еще раз убедился, что со стола убирать больше нечего, и лег спать, хотя по программе «Время» еще передавали сводку погоды на завтра. Она меня не интересовала – чем хуже будет погода, тем лучше для рассказа.
Проснулся я, когда солнце било в окна, а стекла, кажется, прогибались под напором сильных горячих лучей. И тут же обрадованно вспомнил о рассказе. Меня охватило тревожное чувство, запомнившееся с давних времен, когда мне было лет десять-двенадцать и я просыпался в день своего рождения. В моей жизни было всего несколько таких пробуждений, и в то утро, когда я должен был сесть за рассказ, пробуждение оказалось таким же вот радостным и тревожным. Заструились начальные слова, заголовки, мутными белесыми пятнами промелькнули лица друзей, врагов, прежних и нынешних начальников, женские лица, к сожалению, не всегда приветливые и восхищенные мною, далеко не всегда. Подчиненные не возникли перед моим мысленным взором, поскольку у меня никогда их не было. Может быть, это хорошо, может быть, плохо. Но я об этом не сожалел. Мне почему-то казалось, что, если бы я был начальником, если бы в моем подчинении было хоть несколько человек, я бы никогда не смог написать рассказ. А если бы и написал, то это был бы вовсе не тот рассказ, который мне хотелось написать. И вообще это был бы не мой рассказ. В нем обязательно появился бы плохой работник, хороший руководитель, а работник неизбежно прогуливал бы, пил бы водку в неумеренных количествах, а руководитель, чтобы лучше и быстрее повлиять на него, познакомился бы с его женой, а та оказалась бы красивой и печальной женщиной, любительницей поэзии и романсов, а руководитель, едва увидев ее, понял бы, что жизнь его до сих пор была сущим прозябанием, и если кто нуждается в перевоспитании, то это он сам, уважаемый и унылый руководитель, у которого…
Ну и так далее.
Нет, не буду я писать этот рассказ, пусть его пишет начальник, пусть поручает это подчиненным, пусть…
Домашние еще спали, и я, встав раньше всех, бесцельно и босо ходил по комнатам, выглядывал в окна, смотрел, как на школьном стадионе появились первые бегуны, как убегали они от инфаркта, но не очень быстро, не очень. Если бы инфаркт захотел, то наверняка догнал бы любого из них на первом же круге. Похоже, он просто играл с ними в поддавки, внушая ложную и опасную мысль о том, что они и в самом деле могут убежать от него.
Бродя по квартире, я наткнулся на свой стол, потрогал клавиши машинки, убедился, что стопка бумаги вполне достаточна, и пошел на кухню варить кофе. И пока шел, ясно, осязаемо видел себя со стороны – небритый, всклокоченный, в великоватых пижамных штанах, с растерянным взглядом, босой и счастливый.
«А не напоить ли мне ее чаем?» – возникла вдруг странная мысль, и я даже остановился от неожиданности. Но нет, мысль продолжения не получила, и я тут же забыл о ней. Смиренность охватила все мое существо, и я понял, что это хорошо. Ничто в это утро не должно расстроить меня, лишить самообладания, повергнуть в раздражение, недовольство, гнев. Иначе никакого рассказа не получится. И я не смогу написать его ни завтра, ни через год, никогда. А если что-нибудь и напишу, то это будет нечто совершенно иное, слабее и беспомощнее.
Постепенно просыпались домашние – не хочу даже говорить о них подробно, потому что я воспринимал их не как близких мне людей, а как некую помеху, которая должна со временем исчезнуть. Они о чем-то разговаривали, выясняли важные вопросы, искали потерянные носки, щетки, шлепанцы, обвиняли друг друга в кознях и нерадивости, потом жарили, кипятили, звонили по телефону, что-то требовали от меня, в чем-то упрекали и стыдили.
Я оставался смиренным и всепрощающим. Кивал головой, улыбался, неслышно передвигался по квартире, подметал пыль длинными пижамными штанами. Домашним казалось, что я безразличен к их жизни, что я угрюм и недоволен ими, людьми душевными и участливыми. И с этим я смирился. Скользил по комнатам бесшумной тенью, стараясь не вслушиваться в их голоса, не вникать в их заботы, я пережидал, прятался за углами, в дальней комнате, сидел, запершись в ванной, пока нетерпеливый стук в дверь не вынуждал меня покинуть это убежище.
Наконец разошлись.
Грохнула в последний раз дверь на площадку, и в квартире наступила тишина. Такую тишину я слышал только однажды – на острове Кунашире. Как-то ночью я отбился от пограничников и, чтобы не заблудиться, не пропасть, до утра просидел среди прибрежных валунов. Ничто в мире не нарушало ни тишины, ни темноты. Только на самом горизонте чуть заметно светилось несколько слабых, почти исчезающих огоньков – там начиналась Япония. Это было в тот самый мой приезд на Кунашир, когда произошло извержение вулкана Тяти – вулканическая пыль поднялась на несколько километров, достигла берегов Филиппин и Полинезии, а корабли, которые в это время…
Нет, не годится. Рассказ должен быть не об этом. Нет ничего хуже, как писать о диковинных местах, экзотических странах, высокопоставленных людях. Это слишком простой, вульгарный путь. Только когда пишешь об обычном, привычном, появляется возможность взглянуть поглубже, попристальнее…
И я начал постепенно, медленно, кругами и причудливыми петлями приближаться к машинке, я уже был совсем недалеко от нее, уже различал буквы на клавишах, как вдруг заорал кот – требовал рыбы. «Хорошо», – вздохнул я и отправился на кухню. Открыл холодильник, нашел мятую, много раз прожженную кастрюлю. К этому времени вопли кота сделались совершенно нестерпимыми, он с силой тыкался мордой в мои ноги, урчал, мурлыкал и снова орал – уже не от голода, уже в предвкушении пиршества. Щедро вывалив в миску вареного минтая, сунув кастрюлю обратно в холодильник, чтобы кот не добрался до нее, я осторожно двинулся в сторону письменного стола.
Сел.
Придвинул машинку.
Вставил чистый лист бумаги. Но как-то неудачно вставил, видно, торопился – один уголок оказался заломленным. Я расправил его, подровнял лист, снова зажал валиком и уже взмахнул руками, чтобы напечатать название, как взгляд мой неожиданно наткнулся на заломленный уголок листа. Расправил его еще раз, тщательнее. Но теперь оказался перекошенным весь лист. Отжав рычаг, я поправил его, хотя почувствовал, что лист уже не настолько мне нравится, чтобы начинать именно на нем писать рассказ. Ладно, стерплю. Можно начинать. Но уголок не отпускал меня, требовал внимания, участия, понимания. Он словно что-то хотел сказать, о чем-то предупредить, вмешаться в мои намерения.
Я отвернулся к окну, закрыл глаза. И снова увидел тот надломленный уголок. Какая-то косая, угластая ухмылка виделась мне в его надломе. Тогда я решительно и бестрепетно выдернул лист из машинки, смял и не глядя бросил его за спину.
Вставил новый. Этот вошел хорошо. Видимо, тот, угластый, влез без очереди.
Так, теперь все в порядке. Пора начинать.
На кухне кот, вылизывая жестяную тарелку, языком загнал ее под дверь и пытался вытащить. Где-то за окном начинающий автомобилист учился преодолевать подъем. Потом из-за стены донеслись рулады Пугачевой – она заклинала тучу, чтоб та убиралась подобру-поздорову. Пугачева поперхнулась и смолкла. Кто-то затянул песню про морячку, которая никак не может встретиться с рыбаком, но голос был такой радостный, что стало ясно – не надо им встречаться, так будет лучше. Стремитесь друг к дружке, пишите, перезванивайтесь, рассказывайте всем и каждому, как вам тяжело друг без друга, а встречаться не надо. Ничего хорошего из этого не выйдет. Так мне подумалось, но слов, истинных слов песни я разобрать не мог. Пришлось отправиться в ванную. Там я взял большой таз, приложил его к стене, из-за которой доносилась песня, а к донышку таза прижался ухом. Слова стали более внятными, но встретились ли рыбак и морячка или остались коротать жизнь разлученными, установить не удалось…
Ну и не надо. Не так уж это и важно. Я тоже, между прочим, нахожусь в разлученном состоянии с одной невероятно красивой женщиной… И ничего, живу. Влюбленный, несчастный, смирившийся. И никаких надежд, никакого просвета… Печально. Одно утешает – не один я на земле в таком беспросветном состоянии коротаю дни…
Итак, рассказ. Он должен быть небольшим, страниц двенадцать, самое большее – пятнадцать. Потом можно будет еще поджать, к собственному тексту я отношусь достаточно жестко. Да, двенадцать страниц – это как раз половина печатного листа. И подсчитывать в сборнике будет просто, и предложить можно в тонкий журнал, в газету. Двенадцать страниц возьмут гораздо охотнее, чем пятнадцать или восемнадцать, не говоря уже о двадцати четырех. Двадцать четыре страницы у меня нигде не возьмут, это уже надо быть слегка классиком…
За стеной явно намечалось какое-то веселье. Там прибавили звук, и я услышал старую песню: обручальное кольцо не простое украшение, обручальное кольцо тра-та-та-та повышение… Одна моя знакомая додумалась взять в отпуск колечко, подаренное бабушкой, даже не колечко – перстенек, из которого постоянно выскакивали маленькие острые вспышки, искорки. Бриллиантик, наверно, был вправлен. И надо же, потеряла колечко – на пляж она его с собой брала, конечно же, в надежде на приятное знакомство. И потеряла. Всю ночь просеивала песок, с килограмм монет собрала, а колечко как в воду кануло. Скорее всего так оно и было. И с тех пор, вот уже года четыре, о чем угодно она говорит только стонущим, плачущим голосом, настолько велико было ее потрясение. Наверно, это уже навсегда, хотя кто знает, кто знает…
А что, в этом есть какая-то зацепка… Колечко от бабушки, бриллиант с прыгающими искорками, ночное просеивание песка, килограмм монет и навсегда оставшееся скорбным выражение лица… И постепенно это несчастное кольцо превращается в ее воспоминаниях в сундук с драгоценностями, никак не меньше, а его потеря – в жизненный крах, катастрофу…
Откинувшись на спинку, я ощутил спиной что-то мягкое. Оглянулся – на стуле висели мои штаны и рубашка. Ладно, пусть. Они нисколько мне не мешают. Так даже удобнее, потому что спинка стула жесткая… Хотя штаны наверняка висят наискосок, и стрелка получится не там, где ей положено быть, окажется сбоку, и весь мой вид будет помятый и неряшливый… Да и воротник рубашки скомкается. Да ладно, все равно в стирку отдавать… Прачечная через дорогу, и если все собрать с вечера, а утром выйти пораньше, то очередь будет не слишком большая, за полчаса можно управиться. А то очереди собираются хоть и небольшие, но мучительные в своей безысходности – рассевшись по углам, на ступеньках, на подоконниках, ящиках, граждане долго и сосредоточенно пришивают номерки к своим штанам, пиджакам, трусам. Иголок не хватает, нитки гнилые, рвутся, ножниц нет, лезвия с заусеницами, длинную ленточку с номерками приходится пережигать спичкой, потом слюнявить химический карандаш и сопя выводить номерки…
Я встал, сгреб со спинки стула ворох одежды, отнес в другую комнату и зашвырнул на кровать. Но, уходя, оглянулся. Гора одежды была безобразна. Когда я накрыл ее простыней, ворох стал похож на спящего человека. Расшвыряв одежду по всей кровати, набросил сверху подвернувшуюся накидку. Теперь было такое впечатление, будто под этой злосчастной накидкой спит полдюжины котов. С силой поколотив по ним кулаками, я добился наконец ровной поверхности и, обессилев, вернулся к машинке.
Название… Нужно хорошее, свежее название, которое бы сразу хватало читателя за горло и не отпускало до самой последней строки. А можно пойти по другому пути – дать нарочито невинное название, нарочито упрощенное, как бы ни о чем, как бы между прочим… А можно использовать какую-нибудь известную фразу, но смысл ее по ходу рассказа вывернуть наизнанку…
Хотя проще всего название впечатать потом, когда рассказ будет закончен. А пока можно обозначить только жанр – рассказ. И я с наслаждением отпечатал эти семь букв. Семь – это хорошее число. Выверенное веками. Семь раз отмерь, у семи нянек, семь богатырей, на семи ветрах… Правда, буква «а» не получилась, она выглядела явно бледнее, худосочнее. Какой-то вымученной она мне показалась. Тогда я сдвинул каретку и пропечатал ее еще раз. Теперь буква выглядела жирной, самодовольной, спесивой. Это мне не понравилось, на нее неприятно было смотреть. Пришлось снять с машинки верхнюю планку и прочистить букву. Когда я вынул из углубления безобразный черный комок из пасты и тряпичных волокон, буква сразу засверкала. А все остальные буквы оставались сумрачными, забитыми грязью. Напечатать такими буквами светлый, радостный рассказ… Нет, это невозможно.
Я взял иглу, какую-то липкую гадость, купленную несколько лет назад в канцелярском магазине, и занялся шрифтом. Через час все было готово – буквы сверкали, их изогнутый сияющий ряд радовал глаз. Правда, выяснилось, что лист бумаги, заложенный в машинку, покрыт отпечатками пальцев, вымазанных о ленту. Пришлось его выбросить. И новый лист оказался ничуть не чище – я и его сумел испачкать.
С тяжелым вздохом поднявшись со стула, я отправился в ванную мыть руки. Заодно побрился и принял душ. Хотел было подстричься – я всегда стригусь сам, – но в это время зазвонил телефон, а у меня дурацкая привычка бросаться на телефонный звонок, будто мне должны сообщить о выходе моей книги или о том, что я могу немедленно отправиться на Канарские острова. Или Мальдивские. Но все оказалось проще – Виктор Емельянович, истосковавшись по живым голосам, подробно рассказал о новостях в шашечном движении страны, сообщил, что в Столешниковом переулке продают какую-то диковинную водку, а обмен квартиры, который он затеял, неожиданно сорвался, поскольку один из семи участников передумал. «Опять эта цифра „семь“», – подумал я и, положив трубку, выдернул телефонную розетку из гнезда.
А ведь у меня выходила книжка, правда, до неприличия тощая, до сраму чувствительная, но по молодости чего не напишешь. К тому времени у меня уже был Наставник, умудренный, выпустивший десятки книг, человек, относившийся ко мне чрезвычайно уважительно. И вот я, замирая и трепеща, написал на первой странице какие-то заветные слова, постарался вложить в них и безмерную признательность, и легкую игривость: дескать, все мы братья-писатели, что-то еще… И отправился к Наставнику.
О, это была незабываемая встреча! До сих пор она живет в моей памяти. Он принял меня в майке. Растянутая на животе майка, когда-то она была, похоже, не то розовая, не то зеленая, застиранный цвет был у майки в момент нашей встречи. Наставник и поздоровался, и за книгу поблагодарил, и разговаривал со мной довольно странно – не отрывая взгляда от телевизора. Что-то там футбольное происходило. Когда же я дерзнул намекнуть, что хочу попросить у него рекомендацию в Союз писателей, а эта книжечка была у меня не то вторая, не то третья, он немного оживился, остро глянул на меня, но продолжал смотреть футбол.
Уходил я от Наставника слегка подавленный необычностью нашего общения, а он уже в прихожей, поправляя отвисшее плечико майки и почесывая под мышкой, этак между прочим сказал, что рекомендацию он, конечно же, даст, я ее вполне достоин, но с меня причитается сколько-то там тысяч рублей.
– Можно и в долларах, – добавил он.
– С деньгами нынче туго, – поддержала мужа присутствующая здесь же его жена, монументальная дама на две головы выше моего низкорослого Наставника.
И я рассмеялся тогда, вот дурак-то, господи! И сейчас не могу удержаться от улыбки. Бедный, бедный мой Наставник! Он даже не сознавал, какую фантастическую сумму заломил. В то время я бывал счастлив, когда удавалось принести домой полкило вареной колбасы или пакет картошки. Бывало, надкусывал булку в магазине, стоя в очереди к кассе, а когда подходило время расплачиваться, разыгрывал перед кассиршей целый спектакль, шаря по карманам в поисках вроде бы затерявшейся монетки. И, конечно, же не находил, да и не мог найти, поскольку ее попросту не было, а кассирша, глядя на обесчещенную булку, с миром отпускала меня, наказав, чтобы в следующий раз я вернул долг. Иногда я возвращал, случалось и такое.
Прощались мы с Наставником чуть ли не со слезами на глазах. Понимали – навсегда. Так и получилось.
Нет, не пойдет…
Какая-то грязь, деньги, вымогательство… Не хочу. Не желаю. Хочется чего-то чистого, возвышенного, трепетного. О собственном прошлом, например. В прошлом всегда видится так много прекрасного… Чего бы ты ни добился сегодня, собственное прошлое тебе не превзойти. Тогда впереди была жизнь! А сейчас… Одни огрызки от той, предстоящей, жизни.
Подняв глаза от машинки, я увидел цветы на своем столе, высохшие и оттого пахнувшие выжженным побережьем Коктебеля. Цветы стояли в голубоватой пузатенькой вазочке с высоким горлом. Взяв вазочку в руки, я вдохнул запах иссохших стеблей, свернувшихся лепестков и на какие-то секунды снова оказался на коктебельской набережной, среди громко хохочущих писательских жен, у облезлой и нагретой за день железной бочки, из которой тонкой струйкой текло мутное вино…
Цвет пузатенькой вазочки точно совпадал с цветом моря в полдень – та же голубизна с легким зеленоватым оттенком, глазурь, напоминающая водную рябь и сухой шелест жесткой травы… Кстати, вазочка эта сопровождает меня по жизни уже лет тридцать, с тех пор еще, когда я жил на Украине в маленьком, вросшем в землю глинобитном домике. Мать иногда брала меня с собой на базар – это было целое путешествие. Вначале, больше двух километров, мы шли по железнодорожным шпалам, пересыпанным горячим ракушечником, он ломко скрипел под ногами, жестко колол босые ноги. Потом садились в красный трамвай с узким входом и длинными гладкими поручнями. И два вагона, не торопясь, ковыляли по разболтанным рельсам через весь разбомбленный и сожженный войной город. В трамваях со штанги свисали ручки, у входа сидели кондукторши. Они продавали билеты, открывали и закрывали на остановках двери, дергали за какой-то шнур, подавая сигналы водителю, или, говоря точнее, вагоновожатому. Некоторых кондукторов я помню до сих пор, это были кричащие, худые, малорослые женщины, способные протискиваться сквозь плотно набитые вагоны. Однажды такая вот кондукторша поручила мне закрыть дверь на остановке, а сама быстро и, кажется, необратимо ввинтилась в толпу и исчезла за спинами. Дверь я закрыл, видимо, не совсем удачно, кого-то прижал, прищемил, послышались ругань, угрозы написать жалобу куда надо, а я ни жив ни мертв сидел на месте кондуктора и ждал расправы. Иногда мне кажется, что я до сих пор жду наказания за то давнее непредумышленное, но очень серьезное преступление.
На базаре мы покупали картошку, помидоры, а иногда восковые цветы. Розы, сделанные из цветной бумаги, обливали воском, отчего они становились тяжелыми, маслянисто-жирными. Потом проволокой их прикрепляли к тонким прутикам, рядом привинчивали такие же листья. Наверно, они считались красивыми, эти букеты из восковых цветов, во всяком случае, были долговечными – стояли непоколебимо на комоде всю зиму, весну, дотягивали до теплых летних дней. Иногда, при хорошем уходе, если с них своевременно сметали пыль, они могли продержаться и два, и три года. И вот мы, с ощущением праздника в душе, несем эти тяжелые, глухо ударяющиеся друг о дружку розы, долго едем в трамвае, потом бредем по нагретой солнцем железнодорожной насыпи. Ракушки скрипят под ногами, над рельсами дрожит разогретый воздух, изредка нас обгоняют дребезжащие грузовики, и горячая пыль долго и неподвижно стоит в воздухе, хотя грохот машины уже затих где-то в стороне дровяных складов. Дома мать помещала цветы в пустую вазу, ставила ее на радиоприемник с круглым зеленым глазом, а под вазу клала кружевную салфетку. Перед праздниками или при общей уборке она выносила цветы во двор и, набрав в рот воды, с силой брызгала на цветы, смывая с них пыль – они почему-то сильно пылились. А когда розы выгорали и по цвету уже не отличались от желтоватых свечей, их выбрасывали.
Я любил сжигать эти цветы и всегда боялся, что их выбросят без меня. Наверно, они чем-то мне досаждали, чем-то раздражали, если я до сих пор помню, с каким наслаждением бросал в подожженный комок газет эти тяжелые, жирные цветы. Они тут же вспыхивали, плавились, с них стекали пылающие струйки воска, и в воздухе пахло горящей свечой. Я смотрел на костер и не уходил, пока от цветов не оставались кучка черного пепла и обгоревшие проволочки…
Нет, так не пойдет! Взяв с полочки вазу с подсохшими цветами, я отправился на кухню и вытряхнул их в мусорное ведро вместе с подкисшей зеленоватой водой. Ополоснул вазу, протер содой, так что зеленоватые глазированные бока засверкали, заискрились на солнце. Поставив вазу на полку, я увидел в ней свое уменьшенное, искривленное отражение. Когда-то вот точно такое же отражение я видел в слезах девушки, но, что самое странное, девушки я не запомнил, и лица ее не помню, и той размолвки, которая случилась между нами. Но у меня до сих пор стоит перед глазами пустынный осенний пляж с покосившимися грибками, сваренными из железных прутьев. Мутные волны реки поглощали падающие снежинки, по смерзшемуся песку ветер гнал бледно-желтые листья тополей.
Волны бухали в бетонный причал так гулко, будто в них все время что-то лопалось, взрывалось, раскалывалось. Шуршала газета, примерзшая к заколоченному киоску, скрежетал на ветру надорванный кусок жести, иногда, заглушая все эти звуки, по мосту над нами проносился железнодорожный состав. Девушка мерзла в тоненьком пальто, волосы ее были наполнены холодным ветром и снежинками, но ей, похоже, нравилось это прощание, она казалась себе значительной и печальной, может быть, даже несчастной. Это возвышало ее в собственных глазах, оправдывало в поступках…
«А не напоить ли мне ее чаем?» – снова ворвались в сознание странные слова, откуда-то из прошлого ворвались, но опять я не мог вспомнить, откуда они, что за ними стоит. Слова не уходили, продолжали звучать во мне, как приставшая мелодия. Я повторял их на все лады, распевал и проговаривал, не в силах заглушить в себе. А когда мне наконец удалось избавиться от них, я застал себя на кухне. Передо мной кипел чайник, а в руке была только что вскрытая пачка чая с черным индийским слоном.
Пришлось заваривать чай, потом пить его, потом непонятно зачем я включил телефон, и он тут же разразился резкими звонками, от которых, кажется, по всему телу пошла рябь возмущения. Не помню, с кем я говорил, о чем, но слова произносил громко, уверенно, напористо, заверял кого-то все сделать быстро и решительно, а трубку положил с таким удовлетворением, будто свое обещание уже выполнил. Какое обещание, кому?..
Когда я вернулся к машинке, в моем углу гудела муха. Твердыми сухими глазами она билась о стекло, буравила воздух прозрачными крыльями, в ее жужжании чувствовались недоумение и недовольство. Похоже, совсем потеряв самообладание, муха никак не могла понять невидимой преграды, которая мешала ей вырваться на свободу. Вначале я пытался не обращать на нее внимания, но потом понял, что это невозможно. Содрав с себя взмокшую после чая рубаху, я принялся гонять муху по комнате, пытаясь выпроводить ее в форточку. Муха мгновенно осознала грозящую опасность и приняла защитные меры. Неожиданно приземлившись в неприметном, труднодоступном для меня месте, она замирала, стараясь, чтобы я не услышал ее хриплого, запыхавшегося дыхания. Я тоже останавливался и как дурак стоял с зажатой в руке рубахой и всклокоченными волосами. Но, не выдержав этой затаившейся тишины, начинал беспорядочно размахивать рубахой, пока волной воздуха не вынуждал муху снова устремиться к свету. Увидев ее на фоне окна, я бросался к ней, но мои удары запаздывали, муха отчаянно увертывалась, носилась по всему окну, а обессилев, устремлялась в глубину комнаты и, затаившись где-то, отдыхала, тяжело переводя дыхание.







