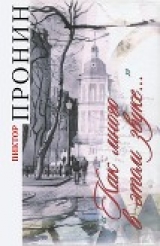
Текст книги "Как много в этом звуке…"
Автор книги: Виктор Пронин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 49 страниц)
– Поклон ей.
– Она права?
– Да как сказать…
– Но ты же знаешь, я молчу как асфальт. Ввяз?
– Парнишка один… попросил у прохожего тридцать восемь копеек, на бутылку не хватало. Решил друзей угостить перед армией…
– Ну? – Никодим Петрович лег грудью на стол.
– Тут дружинники, то-се… Он бежать, его догнали…
– Ну?!
– Шесть лет строгого режима за вооруженный разбой.
Никодим Петрович обхватил лицо ладонями и замер. Сквозь его пальцы просачивались слезы и капали на стол. Он пытался скрыть свое состояние, но, поняв, что не удается, разрыдался, сотрясаясь всем своим плотным немолодым телом. Попытался что-то сказать, но не смог произнести ни одного внятного звука, сорвал с гвоздя кухонное полотенце и прижал к глазам. Посидев так несколько минут, поднялся, подошел к раковине, плеснул себе в лицо холодной водой…
– Прости… Не могу… Стар стал… Скажи… Неужели все зря, неужели ничего не добьемся?
– Авось, Никодим Петрович, авось.
– Но ведь с этим делом о тридцати копейках ты мог пойти в любую газету, а?
– Ходил. Опасаются. А в одном месте меня просто спросили – сколько взял за хлопоты?
– Сколько взял?! – Никодим Петрович опять прижал к глазам два несуразных больших кулака. – А с парнишкой что?
– Год уже сидит, но кое-что сдвинулось…
Никодим Петрович поднялся с торжественностью в движениях, обошел вокруг стола и остановился рядом со мной. Что-то было в его взгляде такое, что заставило меня подняться. А он, поколебавшись, вдруг обхватил меня поперек туловища, потерся небритой своей щекой о мою небритую щеку, замер на какое-то время и вернулся на свой стул.
– А что, ваш отец действительно воевал в восемнадцатом? – спросил я, чтобы как-то нарушить молчание.
– Отец? Мой? А ты не знаешь? – Взглянув в этот момент на лучезарное лицо Никодима Петровича, ни за что нельзя было поверить, что ровно секунду назад он был безутешен и рыдал как ребенок. – И в восемнадцатом, и в двадцатом… Когда большевики порубали в Крыму сорок тысяч солдат белой армии… Перед этим уговорили их сдаться… Дескать, вы – наша надежда, цвет России… Те и поверили…
– Сколько расстреляли?
– Сорок тысяч. А что, мало?
– Да нет… Вполне.
– Рассказывал отец, рассказывал… А знаешь, как казнили офицеров? Отвезли на крейсер «Романия» и вынесли приговор – выбросить за борт. Связали руки, привязали к ногам колосники – и под радостные крики матросов с высокого борта в набежавшую волну. А адмирала Новицкого и сына генерала Думбадзе связали спина к спине и это… За борт.
– А всего сколько сбросили?
– Точно не помню… И на транспортном судне «Тревор» то же самое… И на…
– Вон когда все начиналось… А сейчас отец…
– Помер. На девятом десятке помер. Как-то он написал своему однополчанину Папанину…
– Тому самому?
– Да, нашей гордости всенародной… Так, дескать, и так, уважаемый друг революционных лет, мне восемьдесят два года, пенсия сорок восемь рублей, пособи маленько с жильем или с пенсией в память о наших славных делах двадцатого года, в память о «Романии» и «Треворе»… Не ответил Иван Дмитриевич, не счел. Ну да ладно. – Никодим Петрович помолчал, взгляд его, скользнув по окну, остановился на портфеле, раздутом от бумаг. – Ну что ж… Творческих успехов, как говорится… Рад был повидать. – Он поднялся. – Спасибо за угощение, пойду.
– Прижмет, приходите. – Я его не задерживал.
– Видно будет, – он взял портфель, подержал на весу, и я видел, какой страшный соблазн он преодолевает, как ему хочется сейчас открыть его, поделиться содержимым, рассказать о всех тех несправедливостях, которыми набита его душа. – А может, тряхнешь стариной? – жалобно посмотрел он на меня.
– Я ведь не говорю, что я не хочу, Никодим Петрович! Не могу. Ни одного законного удостоверения у меня нет. В прокуратуру проникаю только воровски. Лукавя, притворяясь, валяя дурака и каждую секунду рискуя быть разоблаченным…
– Как знаешь… А я уж привык, уж и не могу иначе… Лукавлю, притворяюсь и валяю дурака. Но еще кое-кому на любимую мозоль наступлю, ох наступлю. – Воткнув указательный палец в стол, он посмотрел на меня сурово и осуждающе. И тут же сник, застеснялся, засуетился, торопясь начал перетряхивать газетные свертки в авоське. В коридоре он обулся, тяжело нырнул в пальто, подхватил портфель и авоську.
– Может, останешься, отдохнешь, Никодим Петрович?
– Да некогда особо, скоро светать начнет, а с жалобами люди кое-где очереди с вечера занимают… Пора.
Он неловко ткнулся в мою щеку губами и вышел. Некоторое время я стоял неподвижно, прислушиваясь к затихающим шагам. Потом вернулся на кухню, выключил свет. Из окна было видно, как Никодим Петрович темным неуклюжим пятном вышел из подъезда, потоптался, соображая, в какую сторону двинуться, и направился к станции. Он шел согнувшись, преодолевая наметенные за ночь сугробы.
Я взглянул на часы. Половина шестого утра. Уже забравшись под одеяло, я почувствовал, что проснулся окончательно.
Иван и Изольда
Ее звали Изольда Мазулина.
Имя, конечно, несколько вычурное, но его можно назвать и изысканным, тем более что изысканность – именно то, к чему постоянно стремилась эта женщина. Воротнички, манжетики, маникюр, перламутровая помада, такая, что и не поймешь сразу, есть ли на губах что-то постороннее или они сами мерцают так молодо и призывно, – все было брошено на достижение этой цели. В ушах у Изольды, или Золи, как ее все называли, простодушно полагая, что полное имя может ей казаться обременительным – так вот, в ушах у Золи неизменно теплились золотые сережки, иных она не признавала. На пальцах, разумеется, перстенечки, ну и, сами понимаете, обручальное кольцо.
Однако образ Мазулиной будет явно неполным, если ничего не сказать о ее ногах. Нет-нет, речь не о том, хороши ли были у нее ноги, стройны ли, так же молоды и призывны, как губы, дело в другом. Поскольку Золя не удалась ростом, она вполне благоразумно решила этот недостаток поправить, приняв на вооружение туфли с высокими тонкими каблуками, которые придавали бы ей ту самую изысканность. Поэтому неудивительно, что все, кто в разные годы знал Мазулину, вспоминают ее исключительно как женщину на высоких тонких каблуках. А ноги у нее были не то что полноваты там или кривоваты, нет, крепенькие ножки были у Золи, особенно это стало заметно на четвертом десятке. При ходьбе на высоких тонких каблуках они, естественно, напрягались, казались излишне мускулистыми, но она, похоже, этого не знала или же сознательно пренебрегала столь незначительным обстоятельством, считая его, может быть, даже привлекательным. Все мы заблуждаемся относительно своей внешности, и все мы склонны собственные недостатки называть странностями, особенностями, свидетельствующими о нашей неповторимости, а то и загадочности. Менялась мода, женщины надевали туфли с громадными квадратными каблуками, потом перешли на кроссовки, на туфли с мягкой подошвой, Мазулина же оставалась верна своему давнему выбору. И если опять же обратиться к людям, знавшим ее, каждый припомнит, что Изольду сопровождал по жизни незатихающий жестковатый стук каблуков. Шла ли она по асфальту, по паркету, каменным ступенькам или гранитным плитам вестибюлей, издали заслышав этот подкованный перестук, все сразу понимали – где-то рядом Мазулина, приближается Мазулина, берегитесь Мазулиной.
Вот и выскочило это словцо – «берегитесь». И не случайно. Нет-нет, Мазулина не относилась к женщинам бесконтрольно общительным, но поговорить на возвышенные темы любила. Вся душа ее так стремилась за пределы обыденности, будничности, что даже выражение мазулинского лица было не просто одухотворенным, а даже как будто нездешним. Ее волновали театральные постановки, новинки литературы, газетные статьи об искусстве, очень переживала она, узнав, что какой-то актер бросил какую-то актрису и женился на другой. Конечно же, методическая контора при Министерстве чугунной промышленности не могла удовлетворить ее душевные запросы. А работала Мазулина именно в этой конторе – исправляла грамматические ошибки в инструкциях, рекомендациях, указаниях, которые эта самая контора обязана была плодить и насыщать ими предприятия министерства. Можете представить себе тот громадный перепад между обязанностями Мазулиной и ее привязанностями. Жестокие жизненные ножницы.
Мазулина никогда не хохотала, только тонкая, понимающая улыбка. Не повышала голос – только спокойный, с придыханием, даже некоторой интимностью. Высокие каблуки принуждали ее держать распрямленной спину, а голову слегка вскинутой. Отсюда возникло мнение, что Мазулина гордячка, много о себе понимает и с пренебрежением относится к окружающим, хотя она всегда готова была с кем угодно поговорить, особенно об искусстве, особенно об импрессионизме. Сотрудники, не желая обнаруживать свое невежество, слегка ее остерегались.
Муж. У нее был муж. Мазулин Федор Петрович. Он занимался оформлением городских витрин, как продуктовых, так и промтоварных. Если вы увидите в универмаге витрину, затянутую полотнищем, можете быть уверенными – там, за полотнищем, ковыряется Мазулин, общается с манекенами, стараясь придать их непослушным гипсовым членам жесты изысканные и привлекательные. Так что в чем-то душевные позывы Мазулиной и будничность забот ее мужа соприкасались. Но надо с горечью признать, что это соприкосновение было едва ли не единственным в их жизни. Да, да, да. Прошли годы, прошли десятилетия, и все, что пылало когда-то, постепенно улеглось. Муж находил утеху, встречаясь с друзьями-оформителями, жена ушла в мир возвышенных мечтаний. Маленькая девушка с восторженными глазами превратилась в привлекательную женщину с развитым чувством собственного достоинства и… Неловко, но сказать об этом надо – появился у Мазулиной животик, придавший ей вид не только серьезный, но даже неприступный. Случилось так, что внутренне она сохранилась куда лучше, нежели внешне. Внутри она оставалась прежней Золей, а вот снаружи, простите, – Изольда Матвеевна. И когда однажды утром она не смогла поместиться в свое любимое платье, когда убедилась, что в нем отпущено все, что можно отпустить, и все швы на пределе, и влезать в него попросту рискованно, Мазулина присела на кровать и, положив платье на голые колени, всплакнула, поняв – кончилась одна жизнь и начинается другая.
Господи, да все мы находимся где-то между двадцатью и тридцатью годами, сколько бы лет нам ни стукнуло. Именно там, в этом счастливом десятке, остались друзья и подруги, все наши помыслы и сладостные воспоминания. И живем мы там, там живем, а здесь лишь существуем, зарабатываем на хлеб, пьем водку, провожаем иногда взглядом существо, забредшее случайно из того десятилетия, куда нам не вернуться.
Прошел день. Вернулся с работы муж. Человек добрый, заботливый, но равнодушный, безразличный и духовно опустевший – так считала Мазулина и, наверное, была права. Авоська с картошкой и капустой из магазина, витрины которого Федор расписал сегодня полыхающими красками, мало ее утешила. От мужа пахло каким-то растворителем, был он слегка небрит, чуть неопрятен. Нет-нет, неопрятным назвать его нельзя, но по сравнению со сверкающими кружевами на воротничке у жены, по сравнению с ее пальчиками, туфельками на высоких каблуках… В общем, сами понимаете…
– Привет! – сказал Федор, грохая авоську в угол. – Как поживаешь? Что нового в мире?
– Оркестр приехал… Симфонический.
– Да? Чего это они разъездились… Все дела себе не найдут.
– Они по делу приехали… Дадут несколько концертов.
– Дадут? Ха, держи карман шире. Ничего они даром не дадут.
В ответ Мазулина только вздохнула.
– Ты неисправим, – сказала она, помолчав.
– Это хорошо или плохо? – засмеявшись, спросил Федор.
– Да как тебе сказать… И то и другое…
– Дорогая! – протянул Федор, поняв настроение жены. – Не надо. Все прекрасно. Какую я сегодня свеклу изобразил – за квартал видно! Если бы она у них еще и в продаже появилась… Директорша пришла в восторг и даже позволила картошки выбрать из общей кучи. Ты посмотри, какая картошка!
– Сварить?
– Не стоит… Мне надо к другу забежать…
– Выпьете?
– Если найдется.
– Найдется, – тихо, почти про себя проговорила Мазулина.
– Но ты ведь меня не осуждаешь?
– Что ты, что ты!
Пофыркав в ванной, поковырявшись в холодильнике, позвенев крышками кастрюль, Федор ушел. Мазулина подошла к окну, проводила мужа взглядом, присела к столу.
О, эти женские мысли на кухне!
Никто не предскажет, к каким отчаянным поступкам толкнет созерцание перекошенных шкафчиков, куцего стола, нищенских кастрюлек. Не в силах больше видеть все это, Мазулина прошла в комнату и поставила на проигрыватель пластинку с записью сочинений Иоганна Себастьяна Баха – есть такой композитор, вернее, был. Он давно помер, но пластинки его выпускают, и послушать их можно. Особенно ее тревожили клавесин со скрипкой, была в этой музыке слабая надежда на что-то высокое и чистое, когда, казалось, все вот-вот оборвется, рухнет и настанет тягостная немота, но музыка продолжала звучать, слабые, дребезжащие звуки крепли, почти неуловимая мелодия проявляла стойкость и силу, а скрипка не просто ее повторяла, она поддерживала, звала, увлекала, и за всем этим стояла уверенность в правоте. Нет, не возникали перед мазулинским воображением пейзажи, лица знакомые или незнакомые, и никакие желания не посещали ее в эти святые минуты. Лишь росла в душе твердость и ощущение правоты. А правота заключалась в том, что только любовь имеет смысл, только любовью можно измерять все на свете и все на свете оправдать. На пятнадцать лет назад унеслась Мазулина и даже не заметила, как закончилась пластинка и сработал автостоп.
Но встревоженность, вызванная клавесином и скрипкой, осталась. Наверное, все-таки Мазулина не была чужда высоких порывов и на концерты, вполне возможно, ходила не только для того, чтобы потом намекнуть об этом в разговоре с сослуживцами, измордованными неудачами в нашей чугунной промышленности. Еще звучала в ее душе музыка, когда Мазулина подошла к письменному столику, вынула из ящика толстую тетрадь в клеточку и, присев, подперев ладошкой щеку, поколебавшись, написала шариковой ручкой на первой странице «Дневник». Острая необходимость поделиться с кем-либо своей неутешностью в этот безрадостный вечер охватила ее. Надо ли говорить, что и музыка, и концерты, и кружевные воротнички – все было вызвано отсутствием любви в жизни Мазулиной. А именно любви ей и недоставало хоть для какой-никакой удовлетворенности в жизни. Отношения с Федором были вполне полноценными, но без трепета, без волнений и терзаний. Она наперечет знала все срамные подробности, которые произойдут, и не покидало ее ощущение, что вся эта ночная возня под одеялом не более чем исполнение опостылевших обязанностей по отношению друг к другу. Обязанности оба выполняли исправно, и единственное, чего добивались, – снимали нежелательное напряжение в организме.
И только.
А хотелось любви.
Чтобы была луна, был дождь, гул ветвей в ночном небе, чтобы шумело море, сыпались желтые листья, чтобы кто-то кричал в телефонную трубку прощальные слова, и гудели бы самолеты, загнанно визжали электрички, и трепетало, часто и встревоженно билось сердце, и непонятно было – от слез ли мокрое твое лицо, от дождя ли, от мокрых брызг… И чтобы кто-то страдал по тебе, стремился к тебе, преодолевая всевозможные препятствия, чтобы в конце концов кто-то рыдал у тебя на груди в счастливом потрясении…
И хотя понимала бедная Золя, что не будет, никогда уже этого не будет, ничего не могла с собой поделать. Хотелось. Страшно хотелось. И только этим можно объяснить ту глупость, которую она сделала в следующий момент, – Мазулина начала писать дневник. Ну ладно бы обиды на Федора описывала или впечатления от концерта, так нет же. Она начала писать дневник, обращаясь к воображаемому возлюбленному. Такая вот блажь ударила в голову. С женщинами случается. В том или ином виде, в том или ином возрасте. С Мазулиной это произошло, когда ей едва минуло сорок. Впрочем, чаще всего именно в этом возрасте, говорят, и происходят всякие неожиданности.
О возлюбленном. Это был не какой-то придуманный красавец с широкой грудью, плоским животом и влюбленным взглядом. Это был отставник Иван Адуев. И грудь не больно широка, и живот плоским никак не назовешь, а уж влюбленности в его взгляде сроду никто не видел. Иван Борисович Адуев работал в той же конторе, что и Мазулина, так же сидел за маленьким фанерным столиком и ковырялся в бумагах. Каждый день они встречались, обменивались разными словами, но если Мазулина напирала на духовность, то Иван делился своим прошлым – не то он плавал на чем-то, не то летал, не то на гусеницах железных по земле передвигался, в общем, в мирное время защищал родину и осталось у него об этом бесконечное множество воспоминаний. Делился он ими охотно, стоило только неосторожному слушателю проявить скромный интерес. Он даже пытался записывать свои воспоминания, носил их в газеты, зачитывал на пионерских сборищах… Ну что говорить, дело ясное, льстило ему человеческое внимание, страдал он без славы и почета. Но суть в другом – под воздействием красочных повествований о том, как он плавал и летал, адуевский облик в глазах впечатлительной Мазулиной обволокся ореолом необычности.
И так уж случилось, что, написав слово «Дневник», Мазулина тут же обратилась мыслями к Ивану Адуеву. И написала слова… Такие слова написала, что сердце ее захолонуло от чего-то запретного и несбыточного. И не спохватилась, не вырвала и не сожгла. Продолжала писать изо дня в день. И настолько ловко все у нее стыковалось, такой искренности достигла в своих упражнениях, что человек неподготовленный содрогнулся бы от собственной обделенности.
Можно привести пример, чтобы было понятно, о чем идет речь…
«Ваня, ты не представляешь, что происходит со мной, когда ты рядом! Каждое твое слово, улыбка, прикосновение заставляют меня содрогаться, и единственное мое желание – быть с тобой как можно дольше. Ты не поверишь – я в такие моменты счастлива. Когда ты сегодня взял меня за плечи и посмотрел в глаза, я с ужасом поняла, что самой большой бедой для меня было бы потерять тебя. Ночь пролетела, как одно мгновение, и в то же время она тянулась, как жизнь, счастливая жизнь, которой, наверное, не было у меня никогда. Да уж и не будет».
Попадались в дневнике страницы, где Мазулина прибегала и к чисто дневниковому стилю, отмечала события как бы для памяти, чтобы ничего не стерлось временем…
«Сегодня он пришел с цветами. Безмерная радость охватила меня, и я готова была сделать для него все, что угодно. Он заверял меня, что тоже счастлив со мной. Как мне хотелось бы, чтобы это было действительно так. Случайно увидев в толпе человека в голубом клетчатом костюме, я осознала вдруг, что сердце мое учащенно бьется. И, только придя на работу, поняла, в чем дело, – у Вани такой же костюм».
Были и другие записи, более откровенные или, лучше сказать, сокровенные, поскольку Мазулина, почувствовав вкус к творчеству, отдалась ему полностью. Их отношения с Иваном Адуевым не застыли в какой-то постельной истоме, случались ссоры, обиды, потом они мирились и становились еще более близкими. К концу толстой тетради в клеточку они уже съездили в отпуск и у них чуть было не завелся ребенок. Это была трагедия. Мазулина впала в отчаяние, Иван, как мог, утешал ее, и только взаимная любовь и мужество, которое проявили оба, позволили им сохранить отношения, скрыть свое несчастье от окружающих.
Напряженная внутренняя жизнь не могла не повлиять на Мазулину. Она стала, как никогда, изысканной, четкий стук ее каблучков приобрел волнующий ритм, кружева, казалось, были не просто накрахмалены, они словно были сотканы из чего-то живого. А лицо ее сделалось действительно одухотворенным, глаза излучали свет, и человек, неосторожно заглянувший в них, некоторое время не мог прийти в себя, будто заглянул в собственную молодость, в ту самую, единственную лунную ночь, когда запах сирени и запах духов…
Ну и так далее.
Конечно, записи были наивны, первые страницы кто-то мог бы назвать глуповатыми, а то и пошловатыми. Кое-где встречались откровенные пересказы индийских фильмов, но, увлекшись и разохотившись, Мазулина обрела такой сильный и ясный стиль, такую убедительность, изощренность воображения, придумывала такое изобилие самых возвышенных и срамных подробностей, что ее страницы могли бы потягаться с лучшими образцами лирической прозы девятнадцатого, а то и восемнадцатого века. Человек, прочитавший мазулинские страницы, содрогнулся бы от бесцельности и пустоты собственного существования.
И такой человек нашелся.
Это был Федор Мазулин.
К тому времени, постепенно, сама того не заметив, Мазулина перешла от личных переживаний к описанию природы, изложила свои суждения о развитии искусства в разных странах, высказала сомнения в происходящих общественных переменах и наконец впала в полнейшую крамолу и вольнодумство, осмеяв наши идеологические ценности, а заодно и государственное устройство. Причем все это она изложила не отрываясь от образа Ивана Адуева, и мастерство ее к тому времени достигло того невероятного уровня, что к середине третьей тетради он приобрел внушительные черты воина, мыслителя, провидца. Хотя в жизни, как и прежде, он, бесконечно повторяясь, трепался в курилке о том, как он в горящем самолете совершал вынужденную посадку, решился на вынужденное всплытие, покинув поврежденную подлодку, на вынужденный прыжок с пылающим парашютом. Похоже, и женился он вынужденно, когда ничего другого ему просто не оставалось. Его пустоты и бахвальства Мазулина просто не замечала, и вполне возможно, что к живому Адуеву она вообще потеряла интерес.
Естественно, такие перемены, происшедшие с человеком, не могут остаться незамеченными. Пишущий, тем более пишущий не только на личные, но и на общественные темы, рано или поздно обязательно привлечет к себе внимание. И нет ничего удивительного в том, что изменившееся выражение и даже содержание лица Мазулиной, ее манеры, сделавшиеся еще более изысканными, свет негасимого вдохновения в глазах однажды увидел Федор. Увидел и забыл. Потом опять увидел. Присмотрелся – ошибки не было. Перед ним сидела совершенно другая, может быть, даже слегка чужая женщина, смотревшая не столько на него, сколько сквозь, в пространство, в собственную мысль. Когда же Федор словами и жестами привлек к себе ее внимание, на лице Изольды он увидел жалостливость и немного досады – ей, видимо, не хотелось возвращаться из того мира, в котором она пребывала.
И Федор начал искать причину столь разительных перемен. Как человек простой, поиски он начал не в оброненных словах, задержках на работе или слишком частых уходах жены из дому, нет. Причину он начал искать в ящиках. И, конечно, нашел. Если вначале Мазулина хранила бдительность, была осторожна и пуглива, то, увлекшись, все эти спасительные качества растеряла, и стопку общих тетрадей Федор обнаружил едва ли не в первом же ящике, под трусиками и лифчиками жены.
Он хмыкнул, взвесил на руке количество исписанной бумаги, покрутил озадаченно кудлатой своей оформительской головой, надел очки и сел к окну в кресло. Открыв первую тетрадь, со снисходительностью на лице он углубился в чтение, приготовившись получить удовольствие. Улыбка сползла с него на первой же странице. Через пять страниц он был бледен. На десятой вытер со лба пот. На двадцатой достал из холодильника початую бутылку водки, вылил все, что там было, в высокий фруктовый стакан, вмещавший около трехсот граммов, и выпил во единый дух.
Никаких музыкальных, живописных и общественных тонкостей Федор не понял, он их попросту пропускал, а если и вчитывался, то даже здесь находил интимные подробности, хотя этого добра хватало и на других страницах. Конечно же, он сразу понял, какого Ивана имеет в виду Изольда. Федор бывал у нее в конторе и хорошо знал лысоватого самовлюбленного отставника с прокуренными зубами. Но в записках жены он прочел о нем такое, что помимо своей воли зауважал его и возненавидел.
– Какой подонок, – пробормотал Федор. – До чего, оказывается, похотлив этот старый павиан…
Федор впал в оцепенение и более часа просидел в кресле, не двигаясь. За это время он всплакнул от обиды, потом слезы его высохли, и некоторое время грудь вздымалась от гнева и жажды мести. Но Федор чувствовал, что и это состояние не продлится слишком долго. Так и случилось. Все вытеснила самая обыкновенная досада. А досада его происходила от того, что он, вместо того чтобы ехать в командировку, рисовать свеклу, капусту и морковку на окнах магазинов, теперь должен был заняться этим дурацким делом. Открывшуюся тайну он воспринял и с некоторым облегчением, поскольку измена жены делала его свободным, ни в чем теперь Изольда упрекнуть его не посмеет, потому как ее грех многократно превышает и поздние его возвращения, и вино с друзьями, и многие другие житейские его недостатки, без которых он обходиться не умел и не желал, а она не умела и не желала сделать вид, что их не замечает.
Но и прикинуться, будто ничего не произошло, с кем, дескать, не бывает, Федор не мог. И не в самолюбии даже дело, не в гордыне мужской – пришло откуда-то убеждение, что он обязан идти и бить Адуеву морду. Хочет он того или нет, ненавидит ли Адуева, презирает, боится, а морду бить надо, если он хочет, чтобы и дальше жизнь приносила ему хоть какое-то удовлетворение, чтобы кружка пива с друзьями была в радость, чтобы он мог ходить по улице, улыбнуться знакомому, забрести в гости или пригласить кого… Чтобы все это снова стало ему доступным, надо идти и бить красную, самодовольную, поблескивающую солнечными бликами адуевскую морду.
Вначале он попытался убедить себя в том, что это глупые обычаи предков и от них надо отказываться, но какой-то голос изнутри внятно сказал ему, что так он думает, потому как трусит. «Ничего подобного, – ответил Федор. – Я разумный человек, с художественным образованием, неплохо рисую давно позабытые всеми овощи…» Но голос твердил свое. Когда же Федор решил привлечь к делу общественность, написать в чугунное министерство, в газету, он услышал мелкое и пакостное хихиканье, раздававшееся откуда-то из него самого.
«А если развестись? – спросил себя Федор. – Да нет, Адуеву это только в радость… Может, из-за угла его пришибить? Тоже не годится – он же и знать не будет, кто ему дух выпустил… Надо бить морду, – горестно подвел итог Федор. – Ах, как нехорошо, как некстати! И работа пошла, и поездка намечается интересная, когда еще подвернется заказ расписывать сельские универмаги, а я тут должен заниматься бабьей дурью! И дернул меня черт залезть в этот дурацкий ящик! Что я там хотел найти… И эта! Изольда Матвеевна! Мать ее в душу! Нашла себе утеху, и тешься на здоровье! Так нет же, на тыщу страниц расписала солдафона толстозадого! Ах, как некстати…»
Собрав тетради, он отнес их на место, сложил в ящик, снова накрыл трусиками и лифчиками. Мир, в котором он жил до сих пор, уютный, ласковый, мир среди красок и овощей, вдруг в одночасье разрушился, и теперь лишь пыльные обломки лежали у ног Федора.
Наверное, все-таки нельзя слишком плохо думать о Федоре и допускать, что все его переживания связаны исключительно со свалившимися хлопотами. Была у него и своя гордость, и достоинство, а в некоторых случаях и то и другое обострялось до болезненности, как и у многих людей, занимающих незначительное место в жизни. Федор был уязвлен до глубины души и плакал в кресле вовсе не из-за сорванной поездки в районный центр. Скорее всего плакал он от того, что осознал вдруг ясно и четко, что жизнь его пуста, что свою жену, когда-то до беспамятства любимую, позабыл, отодвинул в дальний чулан своей души, что не смог он ни ей, ни себе создать приличное существование на этой земле. И обида была в его душе, и униженность. Ведь, в конце концов, как бы ни был он плох, но самое безнравственное, что мог себе позволить, – это две кружки пива после работы. Иногда, правда, удавалось опрокинуть кружку и в рабочее время, но на результатах его деятельности это никак не отражалось, и поэтому никто его в этом не упрекал. А молчаливые упреки жены он чувствовал давно. Конечно, ей не нравились его задержки, не нравилось, что он так мало внимания уделяет своему туалету, совсем не посещает театров и концертных залов, а из фильмов смотрит только французские детективы, где мир залит солнцем, где люди добродушны и беззлобны и никакие печальные происшествия не лишают их способности радоваться друг другу. Будь Федор холодным и рассудочным или хотя бы терпеливым, и он без труда обнаружил бы в записях Изольды Матвеевны неточности, несовпадения, противоречия, которые, возможно, открыли бы ему истинный смысл дневника. Но бедный Федор, простая душа, читал отрывочно, выхватывая лишь строчки, которые вонзались в его сознание картинами распутными и бесстыдными.
Со стоном поднялся Федор из кресла, подошел к телефону, набрал номер методического отдела.
– Адуева, пожалуйста. Адуев? Мазулин говорит. Муж Изольды Матвеевны. Надо поговорить.
– Всегда рад тебя видеть! – беззаботно ответил Адуев, решив, что его приглашают на рюмку водки, а на такой зов он всегда откликался очень охотно.
– Через полчаса буду ждать тебя в кафе напротив вашей конторы, – сказал Федор и положил трубку.
Когда он пришел в кафе, Адуев сидел за облюбованным столиком и внимательно изучал меню. Адуев был явно покрупнее, массивнее, но никакой робости в этот момент Федор не испытывал, хотя и не знал, как ему себя вести и для какого, собственно, разговора он вызвал Адуева. Просто была какая-то истерзанность и в самом уголке сознания неотступно билась мысль: «Надо бить морду».
– Не то читаешь, – сказал Федор. Он резковато взял из толстых адуевских пальцев меню и положил перед ним толстую тетрадь. – Читай вот здесь… А теперь здесь… Вот тут еще можешь пробежать… Усвоил? А теперь скажи, как все это понимать?
Адуев с какой-то затравленностью посмотрел на Федора и ошарашенно пожал плечами.
– И как ты мне посоветуешь вести себя? – Федор побледнел в предчувствии близкой развязки.
– Понятия не имею…
– А я знаю, – сказал Федор, с трудом владея непослушными губами, и, не размахиваясь, изо всей силы двинул кулаком Адуева в глаз. Потом в губы, потом во второй глаз. Адуев очнулся, поднялся во весь свой рост, схватил Федора за шиворот, второй рукой ухватил сзади за штаны пониже спины и, протащив его в такой неуважительной позе через весь пустоватый зал, вышвырнул в стеклянные двери. Тот скатился по ступенькам на асфальт, с трудом удержался на ногах, подвигал плечами, возвращая суставы на место, и, не оглядываясь, зашагал вдоль трамвайных рельсов.







