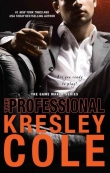Текст книги "Прощай, пасьянс"
Автор книги: Вера Копейко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
5
– Гостей намываешь? – спросила Мария кошку, которая сидела на подоконнике спиной к ней и мордочкой к заоконью. Та и ухом не повела, а продолжала вылизывать задранную вверх лапу длинным розовым языком. Гибкий, словно змейка, он скользил по короткой шерстке. А потом кошка переменила позу и принялась умывать мордочку. Она делала это настолько по-человечески, сложив подушечки лапок, будто ладони, что Мария остановилась на бегу. – Правильно делаешь, Гуань-цзы, – похвалила она. – Неужели чует? – обронила она вопрос ни к кому. И вздрогнула от неожиданности, когда услышала ответ. Она-то думала, что одна в большом зале.
– И впрямь чует! – Низкий голос заставил Марию вздрогнуть.
Мария резко обернулась.
– Севастьяна!
– Напугала? – Темные брови женщины взметнулись вверх, а в глазах засветилась улыбка – привычно насмешливая, но и чуть смущенная.
– Я не слышала, как ты вошла. Здравствуй.
– Здравствуй, милая, – сказала Севастьяна, взглянув на Марию, а потом снова повернувшись к кошке. – Да как бы ты меня услышала? Посмотри-ка, что мне мои воспитанницы связали. Я теперь хожу тише этой кошки.
Мария опустила глаза и взглянула на ноги нежданной гостьи. Разноцветные короткие чулки из толстой шерсти и впрямь позволили ступать неслышно. Они были толстые и теплые.
– Кто же научил твоих девочек?
– У них такой учитель! – Севастьяна засмеялась и махнула рукой.
– Ну говори же! – капризно-кокетливым голосом всеобщей любимицы потребовала Мария. – Я хочу знать имя мастера!
– Ма-а-стера! – передразнила Севастьяна. – Мастер таков, что сам ничего не умеет, зато учит.
– Как же это? – Изумленные глаза сверкнули зеленым светом.
– Да так. Я тот самый мастер. – Севастьяна с непроходящим изумлением снова разглядывала свои чулки. – Перед тобой, которая так искусно плетет кружева, мне стыдно, что я ничего не умею.
– Ты не умеешь? – в голосе Марии звучало искреннее изумление. – Да ты умеешь быть матерью стольким детям!
– Мать должна чему-то учить своих детей. Тому, что потом пригодится, – настаивала Севастьяна. – В будущей жизни.
– Ладно, не прибедняйся. – Мария махнула рукой и отвернулась от Севастьяны, направляясь к оттоманке, широкому низкому турецкому дивану с подушками вместо спинки, обтянутой узорчатой тканью. Рисунок был так похож на огуречные листья, что Марии, пока не привыкла, всегда хотелось предупредить: «Осторожно садитесь, а то огурцы раздавите!» Подушки стояли аккуратным рядом вдоль стены, указывая на то, что их давно никто не пытался примять. – Садись! – Мария села и похлопала рукой рядом с собой. – Садись и рассказывай, как ты научилась.
Севастьяна неслышно подошла к оттоманке и села рядом с Марией. Она была в черном платье из толстой, хорошо выделанной ткани. Расправила подол юбки и вытянула ноги, позволяя Марии разглядывать диковинные чулки.
– Мне привезли похожие в подарок из Ревеля, – сказала Севастьяна. – Но покороче. – Она приподняла юбку и чиркнула ребром ладони по середине голени. – Сперва я думала, что их связали из покромок. – Заметив на лице Марии замешательство, она пояснила: – Из чего у нас лапти плетут. Поняла, да?
– Нет, – призналась Мария. – Никогда не слышала.
– Ну да! – Севастьяна фыркнула. – Федор-то тебя не в лапти обувает.
Мария улыбнулась:
– Нет. И сам не носит.
Севастьяна рассмеялась:
– Он любит сапоги с острыми носами из тонкой кожи. Знаю, знаю.
Мария заметила, как блеснула между передними отменно белыми зубами щелочка. Завиральная, как говорила тетушка в детстве, когда обнаружила у них с Лизой похожую щелочку, и сокрушалась. А потом стала говорить, что эта щелочка придает особый шарм улыбке. Как и Севастьяниной, между прочим, подумала Мария. Но когда молочные зубы поменялись на «вечные», как опять-таки тетушка их называла, то и щелочка пропала.
– Покромка – это край ткани, ее кромка… – между тем объясняла Севастьяна.
– Поняла, – поспешила успокоить ее Мария, – все поняла.
Но Севастьяна, привыкнув иметь дело с детьми, не могла удержаться и не объяснить как можно подробнее. Чтобы не выветрилось за всю жизнь.
– Из покромок плетут и лапти, и половики… – продолжала она.
– Но что дальше? – подталкивала ее Мария. – Ты купила эти самые… покромки?
– Не-ет. Я распустила чулки.
– Вот и дари тебе подарки! – фыркнула Мария.
А Севастьяна продолжала:
– Я немного кумекала в вязании, когда была еще девушкой. Теперь вспомнила… правда, столько свечей извела, две ночи сидела, разбиралась. Но все поняла.
– Значит, ты их… обратно связала? Те самые, подаренные? – изумилась Мария.
– Да что ты! – Севастьяна махнула рукой, и так возмущенно, что молодая женщина расхохоталась. Чуть громче обычного, что не прошло незамеченным для Севастьяны. Волнуется, отметила она. – Не-ет, я засадила за работу своих девочек. Объяснила. Показала. – Она повертела ступнями, чтобы Мария лучше рассмотрела, как вывязана стопа и особенно пятка. – Знаешь, – она хитро посмотрела на Марию, – если сделаешь вид да еще сама поверишь, будто ты можешь что-то, чего на самом деле не умеешь, то и другие не усомнятся, поверят.
Что-то в словах Севастьяны задело Марию, она не додумала до конца, что именно. Но почувствовала, как настроение внезапно поднялось, волнение, которое не отпускало с самого утра, с того мига, как она открыла глаза, утихло, и она, кивая на чулки, похвалила:
– Веселые какие, как радуга.
– Хочешь, девочки тебе такие свяжут, – предложила Севастьяна.
– Тогда и Лизе. Но чтобы точь-в-точь как мне. Ладно? – Сама того не замечая, Мария свела брови, а Севастьяне показалось, что в ее словах есть какая-то особенная горячность, прибавляющая смысла простым словам. Она не знала, что это, но надеялась узнать. – Хитрая ты, Севастьяна! – Мария шутливо погрозила пальцем.
– Да что же во мне хитрого? – деланно изумилась женщина, подбирая под себя ноги.
– Ну да, святая простота! – фыркнула Мария и подпрыгнула на оттоманке. Пышная юбка фисташкового кисейного платья колыхнулась легким облачком. – Я поняла твой намек.
– Да нет никакого намека, – заспорила Севастьяна.
Но Мария не унималась. Она не могла сказать, что обрадовало ее в словах Севастьяны и вселило беспричинную уверенность в себе. Поэтому попыталась зайти с другого бока, чтобы выяснить для себя самой.
– Как же нет? Сказала бы мне прямо: «Не умеешь толком плести кружева, а учишь моих девочек, как стать самыми лучшими мастерицами». – Мария вздохнула и добавила: – Конечно, разве сравниться мне с Анной? – Она пожала плечами. – Невозможно. У нее рукодельный дар в крови. Ты ведь знаешь, что ее бабушка вывезена из Голландии?
Севастьяна помолчала, пытаясь понять ход мыслей Марии. Нет, что-то другое таится под ее желанием поспорить, решила она. На самом деле Мария плетет кружева ничуть не хуже своей Анны, к тому же она никогда не старалась приуменьшать свои, таланты. Напротив, всегда ими гордилась. И было чем – только здесь, в Лальске, она взяла в руки коклюшки. Понятное дело, интереснее плести кружева, чем сплетничать с местными купчихами.
– Я слышала ее историю. – Севастьяна вздохнула и провела рукой по темным, туго стянутым на затылке волосам. – Все мы тут со своими историями. Незачем и романы по-французски читать. – Она кивнула на столик возле оттоманки, на котором лежал до половины разрезанный роман. – Скучно стало, да?
– Напротив, – ответила Мария. – Мадам Коттен, «Амалия Мансфилд». Такие стра-асти… Вообще-то, я думаю, французские романы читают не ради самих историй, а…
– А для чего же тогда? – перебила Севастьяна.
– Ради красоты, которой в жизни не бывает. Они рисуют такое счастье, которое человеку не суждено испытать. – Внезапно губы ее слегка скривились, словно ей самой такое счастье кажется недосягаемым.
Севастьяна заметила. Она предполагала, в чем причина, но сделала вид, что не догадалась ни о чем.
– Мари-ия, да от тебя ли я слышу? Тебе ли печалиться? По правде сказать, я думала, что такого счастья, как у тебя с Федором, не бывает. Муж носит на руках. В самые дорогие меха укутывает. А дом! – Она обвела глазами зал. – Да разве было тут что-то похожее до тебя?
Мария скромно опустила глаза. Севастьяна говорила правду. Такого дома, каким стал дом Финогеновых, еще поискать. И не только в Лальске не найти. Конечно, не ее одной в том заслуга – Федор, насмотревшись, как живут в других странах, решил переделать свой дом. Он построил галерею, которая соединяла старую часть и новую. Старая часть дома была обыкновенной северной постройкой – жилье и двор под одной крышей. Так строили здесь от века, из-за холодных зим. Чтобы, открывая дверь не впускать холод, объяснил ей Федор. Новая половина похожая, но внутри это совершенно иное жилье. Дорогие обои на стенах, которые и в Москве и в Питере не в каждом богатом доме. Тяжелая мебель из карельской березы, от которой веет уютом и покоем. Мягкие ковры на полу, располагающие к жаркой неге, словно не северные виды за окном – серое небо, подпертое высоченными соснами и елями, – а восточные пейзажи с их райскими кущами. Занавеси, забранные золотыми нитями, спускаются с потолка до самого пола.
– Ах, Мария, когда Федор на тебя смотрит, у него глаза… поют!
Мария засмеялась и почувствовала, как щеки розовеют.
– Глаза не могут петь.
– А как ты на него посмотришь, – она зажмурилась. – Только бы тобой и любоваться.
– Спасибо, Севастьяна. Ты меня любишь. – Мария вздохнула. – Как хорошо, когда тебя любят. – Она улыбнулась, и в улыбке была заметна тревога. – Вот и Лиза приезжает… С часу на час. Она меня тоже любит. И я люблю ее.
От этого перечисления любовей Мария и впрямь почувствовала себя лучше. Какой прок печалиться? Никакого. Она и не станет.
– Вот потому-то я и пришла, – сказала наконец Севастьяна. – Хотела узнать, придешь ли сегодня учить моих девочек? А теперь сама вижу. – Она кивнула на кошку, которая до сих пор сидела на подоконнике. – Гуань-цзы гостей намыла и теперь ждет, глаз с дороги не сводит. Не приходи к нам сегодня. – Она положила свою руку на колено Марии. – Не приходи, – повторила она и поднялась.
Мария сидела и смотрела на Севастьяну снизу вверх. И снова восхитилась ее статностью и красотой. Сколько в ней достойной силы, подумала она. Силы, точно. Иначе не скажешь. Рядом с ней спокойно и уверенно.
– Значит, гости будут совсем скоро? – переспросила Мария задумчиво. – Ты правда веришь в приметы?
– Верю, – кивнула Севастьяна. – Кошка чует то, что собака не чует.
– А в другие приметы? – настаивала Мария.
– Смотря в какие.
– Если нитка на полу лежит, ты через нее перешагнешь или обойдешь? – Мария сощурилась, потому что солнечный луч проник сквозь щелку в занавесях и норовил попасть в глаз. Но Севастьяна могла расценить это как крайнюю степень сомнения Марии.
Она усмехнулась:
– Я хорошо подметаю полы. У меня нитки не валяются.
Мария рассмеялась:
– Ох, Севастьяна. Ты такая… такая… – Она не могла подобрать слово. – Как только с тобой мужчины могут иметь дело?
– Не могут! – отрезала Севастьяна.
– Неужели? – Мария снова сощурилась, теперь уже не от солнца, потому что передвинулась на оттоманке, уворачиваясь от назойливого луча. Она сама не понимала, с чего это она так разыгралась с женщиной, которая намного старше ее. Она как будто испытывала себя на смелость: может ли держать себя не так, как всегда, и как люди к этому отнесутся?
– Не могут, – повторила Севастьяна, а потом лицо ее стало другим, незнакомым Марии. – Это я с ними могу.
Мария порозовела. Она была довольна собой. Что ж, похвалила она себя, она тоже может вести себя не так, как обычно. Никто не удивится, если даже такая женщина, чуткая, как кошка, Севастьяна Буслаева, не удивляется.
Гостья откланялась со словами:
– Отдыхай от нас столько, сколько хочется. Мои девочки начинают учиться ткать лен на самопрялках. Я выписала им учителя из Вятки.
– На самопрялках? – повторила Мария. – Я хотела бы посмотреть, что это такое.
– Станочек это самодельный, один умелец построил. Милости просим. В любое время. – Севастьяна поклонилась, а Мария вскочила и прошла с гостьей до дверей.
Потом она встала возле окна и смотрела, как уходит Севастьяна, как прямо держит спину, как гордо – голову. Едва она скрылась из виду, завернув за угол, Мария поняла, что обрадовало ее в словах Севастьяны. «Если сделаешь вид да еще сама поверишь, будто ты можешь что-то, чего на самом деле не умеешь, то и другие не усомнятся, поверят».
Ну конечно! Они с Лизой сделают вид и поверят… Обязательно… Значит…
Не успела Мария додумать до конца мысль, теперь уж и без всяких слов ясную, как из-за угла, за которым скрылась Севастьяна, вывернул экипаж.
Мария почувствовала, как сердце забилось в такт бубенцам, а лицо залилось румянцем.
Гуань-цзы соскочила с подоконника и метнулась в щель неплотно закрытой двери.
– Едут, – прошептала Мария. – Едут.
А потом не менее резво, чем кошка, бросилась на улицу.
6
– Да что ты говоришь! – Анисим покачал головой, его узкие, отдаленно похожие на монгольские, глаза недоверчиво блеснули. – Так вот что приключилось! Так-так-та-ак, – произнес он, будто ему хотелось говорить, спрашивать, но он опасался спугнуть добычу, которая сама не подозревает, что на нее охотятся.
И, как бывает, завороженный звуком чужого голоса, рассказчик с жаром продолжал, ободренный тем, что его слова вызывают столь неподдельный интерес у собеседника.
– Да мне про это сама рассказывала.
– Сама-а? Недавно, стало быть, посетил ее, а? – Глаза стали еще уже, они затянулись веками так сильно, что невозможно разобрать цвет глаз. – Привечает она тебя больше, чем других. Чем это ты ее взял, а?
Собеседник, а это был Павел Финогенов, усмехнулся. На его нежном белом лице возник едва заметный румянец, который явился спутником внутреннего довольства.
– Да кто ж знает… – Он нарочито долго молчал, потом тоном опытного волокиты добавил: – Этих женщин.
Анисим расхохотался. Он подумал, но не произнес: «Ты их узнаешь, и как следует узнаешь. Уже скоро». А вслух сказал:
– Тайные создания они, это верно. Я сколько лет ими занимаюсь, да все никак не постигну. Вот скажи, может ли в голове уложиться то, что ты рассказал про Лизавету Добросельскую? – Он качал головой, а по лицу расползалась улыбка, которую вначале можно было назвать робкой, когда она только тронула полные сочные губы, а потом перешла в иную, и в ней стало заметно вожделение к чему-то невероятно желанному, но совершенно недоступному. Так улыбаются, слушая рассказы о похождениях героев «Тысячи и одной ночи», страстно мечтая оказаться на их месте. Но разве придет в голову на самом деле этого хотеть простому смертному?
– Желал бы я, чтобы из-за меня женщина стрелялась, – наконец произнес он.
Павел подался к Анисиму через столик.
– С ума сошел? – Лицо его вспыхнуло. – Тогда прежде ты должен был сгореть в огне! Чтобы она потом из-за тебя захотела стреляться!
Анисим крякнул и откинулся спиной к бревенчатой стене, из которой торчали сивые усы пакли.
– Верно говоришь, братец мой. Но только вдумайся! Женщина, твоя женщина готова мстить за тебя! За твою смерть. Жизнью рисковать! Ох, как высоко по нашим-то российским меркам. Она игрок, ни дать ни взять.
– Женщины не бывают игроками, – презрительно фыркнул Павел. – Они фишки для игры мужчин.
– Ну да. Фишки. Кости, еще скажи, – хохотнул Анисим. Потом вздохнул: – Ох, какую бурсу тебе еще предстоит пройти, мой друг. Тогда поймешь, кто кем на самом деле играет.
Павел повел плечами, словно отвергая каждое слово, произнесенное Анисимом.
А тот не унимался:
– Ты возьми в толк не саму смерть. Это дело десятое, сам знаешь – кому сгореть, тот не утонет. Ты подумай про то, какие небесные радости ждут тебя с такой женщиной на земле. Прежде чем…
– Прежде чем не сгорел, что ли? – нехотя переспросил Павел, которого никак не привлекали разговоры о смерти.
– Ну да. Не всякий раз тебя с женой зовут на бал, на котором случается пожар. Может, такого никогда не будет. А все радости с ней останутся при тебе. Понимаешь? Так ты говоришь, бал этот происходил в очень богатом доме?
– «Вестник Европы» написал, что тот злосчастный бал давал австрийский посланник. – Он на мгновение умолк, чтобы произнести главное. – По случаю второго брака Наполеона с дочерью австрийской императрицы, эрц-герцогиней Марией-Луизой. – Павел произнес эти имена так, словно перекатывал на языке нечто необыкновенно сладкое, может, кусочек какого-то деликатеса, доставшийся только ему одному.
– Ох, как интере-есно, – протянул Анисим.
– Ты про что?
– Да зовут эту самую эрц-герцогиню интересно.
– А чего уж очень-то интересного? – передернул плечами Павел. Ему не понравилось, что Анисим уцепился за имя женщины, а не сосредоточился на главном – на императоре.
– Да то интересно, – продолжал Анисим, – что ее одну зовут как двух сестер Добросельских.
– Но… она Мария-Луиза, не Мария-Лиза…
– Да это одно и то же, – отмахнулся Анисим. – Не в том суть.
Павел смотрел не мигая. Он попытался свести брови, но кожа на лице была натянута, как на барабане, словно ее кроили из остатков, но тем самым сделали подарок на всю жизнь – ни единая морщинка до сих пор не портила его лицо.
– Знаешь, когда я думаю, до чего они похожи, как две капли воды, мне не по себе делается.
– Почему?
– Что-то от нечистой силы мне в том видится. – Анисим покачал седеющей головой. – Нет, неспроста они попались на пути нашему Федору, эти сестры-близнецы. А стало быть, нам с тобой, Павел, тоже. Хоть он мне и двоюродный брат, но я скажу: сдается, он давно сношается с нечистой силой.
Павел побледнел, темные глаза остекленели, казалось, никогда больше он не сможет моргнуть.
– А иначе с какой бы радости ему так везло? – продолжал Анисим. – За что ни возьмется – вся прибыль ему в руки. Торговал коровьими шкурами – отбоя нет от покупателей. Взялся за козьи шкуры – все тотчас захотели обуться в козловые туфли и сафьяновые сапожки. А с этими английскими каперами? Они хоть раз пристали к нему в море? Нет! Хотя пираты всех наших лальских купцов шерстят и в хвост и в гриву. А он, будто заговоренный, мимо проскакивает.
– Да. Пираты тронули даже Анфилатова, я знаю новость. А ты слышал о капитане Никитине?
– Слыхал, – кивнул Анисим. – Но он-то не просто так, как Федор, мимо них маханул. Он вступил в схватку с каперами. Он их победил. А когда твой братец выходит в море, можно подумать, что все каперы или спать ложатся, или ром хлещут до икоты. Не-ет, тут дело не обходится без нечистого.
– На балу сгорело двадцать человек, – добавил Павел.
– Но никто, кроме Лизаветы, никого не вызвал стреляться, верно?
– Никто, – согласился Павел. – В журнале по крайней мере про то не написали. А мадам Шер-Шальме говорит, что Лизавета тоже не сама вызвала, она подкупила какого-то мужчину. Но на дуэль явилась сама, в мужском платье. Чтобы постоять за своего Жискара.
– Много, стало быть, отдала тому, кто вместо нее вызвал, – восхищенно покачал головой Анисим.
– Едва ли. – Павел пожал плечами. – В Европе с дуэлью просто – там не важно, какого ты сословия, если хочешь отстоять свою честь.
– Ну, у нас ничего такого не выйдет, – хмыкнул Анисим. – Мужик барина не вызовет. Куда там!
– А наш мужик и не почешется вызывать, – усмехнулся Павел, и Анисим увидел перед собой другое лицо – не наивного малого, а самодовольного барина, которому и в голову не придет, что кто-то может, допустим, вызвать его.
А его бы стоило, вдруг со злостью подумал Анисим и почувствовал, как из души что-то поднимается. Батюшка Степан Финогенов не только при своей жизни баловал младшего сына, но и на потом оставил. Похоже, баловства этого хватит Павлу до конца дней. Только неизвестно, долго ли ждать того конца, при его-то развлечениях. Стало быть, и ему, Анисиму, пора кончать рассусоливать, ему следует поспешить сделать то, что задумал. Скрутить в бараний рог свою судьбу и получить недоданное ею через Павла.
Анисим тоже был младшим сыном своего отца, который приходился родным братом Степану Финогенову. Только его отец в отличие от отца Павла строго придерживался дедова завета: все отошло старшему сыну по завещанию. Он не оговорил ни пяти лет брака, ни возраста старшего сына тридцатью годами. Но Анисиму не повезло бы и при такой оговорке, потому что у старшего брата дети посыпались, как пшено из худого мешка.
Анисим уехал в Москву, где попытался вложить свои, впрочем, немалые, средства в доходное, как ему казалось, дело. В извоз. Но что из того вышло – вспоминать не хочется. Не случилось ему удачи. Как и Павел, он был хорош собой сызмальства, женщины рано стали вешаться ему на шею. А он не расцеплял их руки. К тем рукам много денежек прилипло. Это верно. Лошадям на овес не хватало.
Потом они близко сошлись с Павлом, не важно, что тот намного моложе. Когда каждую ночь сидишь за столом, покрытым зеленым сукном, возраст не спрашивают. Его уравнивают бледность лиц при свечах, краснота глаз от вин, преимущественно французских, да худоба кошельков к утру.
А когда рука стала нащупывать дно кошелька совершенно беспрепятственно, они задумали с двоюродным братом свой план. Кстати, родился этот план не без косвенного участия дамского ума.
Мадам Шер-Шальме была хорошо известна в кругах, в которых вращались Павел и Анисим. Последний и ввел в этот круг Павла. Он пришелся по сердцу… впрочем, скорее, по телу и по карману зрелой мадам. Ее интерес удвоился, когда она обнаружила, что милый юноша происходит из тех мест, где живут под деревьями и на деревьях меха, из которых можно шить так называемые шляпки из Парижа, не тратясь на их ввоз из того самого Парижа…
«Меха из Парижа» – мастерская и магазин – располагались на улице Кузнецкий мост в Москве. Эту улицу давно облюбовали иностранцы. Там роились французские и немецкие лавки. Они торговали модными товарами, привезенными из чужих краев. Были в Москве в ту пору, конечно, свои мастерицы, но кто побогаче и пофасонистее покупали заграничный привозной товар.
Кстати, не на одном Кузнецком мосту можно было найти что-то иностранное.
На Ильинке, за Гостиным рядом и Гостиным двором, торговали нюрнбергские лавки, там был голландский магазин. Туда ходили покупать шерсть для работы, шелк, шерстяные чулки и голландское полотно. Дорогое оно, но качества отменного, ручной работы. Тончайший батист несли оттуда же дамы, носовые платки и превосходный, очень изысканный и вкусный голландский сыр. Все было надежно и без обмана.
Потому-то славные и доверчивые дамы, отнюдь не воспитанницы Смольного института, в котором обучали многим наукам, в том числе и географии, купились на искренние заверения мадам Шер-Шальме. Они не сомневались, что золотистые лисы, темные соболя, серо-голубые, словно зимнее небо, белки, царственные лилейно-белые горностаи серными хвостиками, достойные украшать королевские мантии, облегчавшие карманы глав семейств, явились не менее модными чем из Парижа, а потому надо платить за них, не моргнув втридорога.
Но не слишком долго длилось дешевое счастье мадам, поскольку брат Павла, за бесценок отдавшего ей меха, вернулся из поездки в Голландию. Вот тогда-то и произошла ссора между братьями, от которой остались шрамы на лице, на груди и на пояснице Федора.
Мог ли Федор постоять за себя по-настоящему? Да, конечно, мог, и это знал Павел. Как знал он и то, что не поднимется рука старшего брата на младшего. Тем он и воспользовался, иначе разве посмел бы пойти на Федора с рогатиной? А он пошел на него, как на медведя.
Федор не рассказал отцу о той схватке в лесу. Так и отошел в мир иной их батюшка, уверенный, что без него братьям делить нечего. Он сам все поделил.
А потом Павел стал больше времени жить в Москве, близ мадам Шер-Шальме. Аппетит ее совсем разыгрался. Но утолять его стало труднее. Таких доходов, как от продажи даровых, по сути, мехов, полученных от Павла, не было, а ей хотелось.
Однажды она призвала к себе на бокал бургундского Павла и Анисима, музицировала для них так, как только она умеет это делать, – с легкостью. Она смеялась, играя ямочками на щеках и поводя нагими плечиками так, будто играла на сцене театра варьете в Париже, а не сидела в своей гостиной. Она задирала ножки в фривольном танце, словно всю свою юность провела в порту Марселя, встречая иностранные корабли с изголодавшимися матросами. Но между всеми ужимками, сальными намеками и заливистым смехом она невзначай роняла вопросы, выясняя все, что ей надо.
А когда выяснила, то взялась за дело.
Когда в толстостенной бутыли не осталось и капли бургундского – последнюю вылил себе в рот, минуя бокал, Павел, которому был обещан ею самый настоящий французский поцелуй, – они готовы были согласиться на все.
Ночь прошла как на бурных волнах, таких бурных, какие способны раскачать даже груженое судно в открытом море. То был большой шторм, такой, от которого моряки пытаются отвязаться, осеняя себя крестным знамением еще перед отплытием. Опасно.
Опасно было то, что придумала мадам Шер-Шальме, но Павлу и Анисиму было море по колено.
Наутро после той ночи, когда гости уехали, горничная подала мадам кофе в постель. Кофе она потребовала без сахара, но, как пошутила сама с собой, кое с чем вприглядку. Как говорят русские, добавила она про себя.
Засунув руку под подушку, мадам Шальме достала бумагу и, отведя подальше от глаз лист, снова прочитала ее.
Потом отпила глоток, закрыла глаза. Тихая улыбка изменила лицо – оно стало настоящим, на котором ясно виден ее истинный возраст – возраст мудрости.
Что ж, в бумаге написано все так, как надо. Как она хотела. Теперь эти сафьяновые болваны никуда от нее не денутся. Ей нравилось, как ловко она придумала прозвище. Но на самом-то деле не могла же она называть их козловыми болванами? Хотя это одно и то же. Сафьяновые сапоги все равно ведь шьют из козловой кожи.
Бумагу до поры до времени мадам решила хранить при себе, чтобы в нужный момент выложить на стол, как козырную карту. Она знала, что Павел и Анисим намерены разжиться деньгами. Знала и чьими. Вино подогревает не только чувство, но и язык. Слова соскакивают с него так быстро, как будто обжигаются.
– …Так что же, Павел Степаныч, посидели-покалякали и довольно?
Оба мужчины встали из-за стола.
– Кажется, все обговорили, верно? – Павел поднял глаза на Анисима, который был выше его ростом на две головы.
– Да. Теперь уже остается недолго ждать. Твой брат вернется весной, роковой срок минет – и мы снова в дамках.
Павел повел бровью, ему как будто не слишком понравилась уверенность насчет «мы». Да, конечно, он обязан двоюродному брату, но во сколько он должен оценить это?
Анисим усмехнулся, угадывая по лицу Павла причину его заминки.
– Не хмурься. У меня есть одна мысль, за которую ты с радостью раскошелишься. Ты не из наследной доли мне отдашь.
– Вот как? – спросил Павел с заметным облегчением. – А…
– Не сейчас. – Анисим покачал головой. – Придет срок – скажу. Пошли.
Анисим первый вышел за дверь трактира.