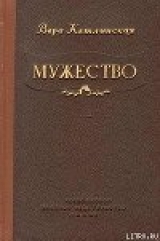
Текст книги "Мужество"
Автор книги: Вера Кетлинская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 47 страниц)
13
До спуска корабля оставались считанные дни. Напряжение коллектива строителей было так остро, что люди не могли уснуть ночью, не могли отдыхать в выходные дни. Иван Гаврилович и Круглов почти ежедневно проводили летучки: «Бдительность! Бдительности больше!» Нефедова уже не было на стапелях, не было и Клары Каплан, но вражеская работа продолжалась. И чем ближе ко дню спуска корабля, тем наглее действовали враги. В опорных подшипниках гребного вала нашли стекло. Кто-то разрезал шланг, подающий сжатый воздух для пневматической клепки. Неизвестно куда пропали дефицитные детали.
Касимов, уже год работавший в НКВД, дневал и ночевал на площадке. Гранатов не спал, не ел, ходил с покрасневшими от бессонницы глазами; нервный тик все чаще подергивал его щеку.
Рабочие заботились о каждой мелочи, даже не имевшей отношения к их работе, как настоящие хозяева. «25 сентября корабль будет спущен на воду» – этими мыслями жил весь коллектив.
До 25-го осталось полтора месяца.
В середине августа был арестован инженер Путин. Через день рабочие электростанции предотвратили крупнейшую аварию на станции, и в тот же день был арестован инженер Слепцов. К вечеру стало известно, что утром на трассе железной дороги бригадир Васюта предотвратил крушение, подготовленное Левицким. Левицкий был взят под стражу.
Комиссия горкома партии изучала дело Каплан. Председатель комиссии Драченов много раз беседовал с Кларой. Вопреки фактам, он верил ей. Но интуицию надо было подкрепить фактами. А дело запутывалось все больше и больше. Левицкий оказался хитрым и ловким врагом. Правда, Васюта как будто бы доказал свою непричастность к вредительству, но кто знает, нет ли здесь такого же очковтирательства, какое подозревает Гранатов в истории с бочкой горючего?
В партийном деле Каплан не было никаких документов, подтверждающих ее роль в разоблачении Левицкого и Лебедева. Запросили Ленинград, но ответа не было. Клара написала Вернеру, поручая ему съездить в Ленинград и разыскать подтверждающие материалы. Но и от Вернера ответа не было.
Она побежала к Андронникову добиваться очной ставки с Левицким.
– Когда вы понадобитесь, мы вас вызовем, – строго ответил Андронников и, провожая ее до двери, коротко бросил: – Терпение! Терпения побольше.
На следующем собрании Драченову и Готовцеву задавали вопросы: что выяснилось с Каплан?
Они давали неопределенные ответы. Еще ничего не было выяснено. Тогда начали звучать голоса коммунистов и комсомольцев, требовавших ускорить разбор дела Клары Каплан. Иван Гаврилович прямо заявил, что прошлое собрание сделало ошибку, что оно не имело никакого права до выяснения дела отбирать партбилет. На собрании работников газеты в горкоме выступила Тоня Васяева. Она резко осуждала руководство стапельной площадки. Она доказывала, что кадры набираются от ворот, без проверки, что администрация не обеспечила подлинной ответственности работников, что за обезличкой в руководстве легко скрываться врагам. Под конец речи она помолчала, затем махнула рукой, словно отгоняя робость, и заговорила стремительно и пылко:
– Права я или не права, а мое дело сказать, что думаю. У нас представили врагом Клару Каплан. Вот убейте – не поверю! Из комсомола исключайте – не поверю! Я и сначала не поверила, а теперь чем больше думаю, тем меньше верю. Вот проверяешь работу на стапелях – кроме хороших, других следов Клара не оставила… Искусственное это дело! А этим разоблачением в кавычках прикрываются как щитом: мы-де разоблачили, мы-де проявили бдительность. Вот я скажу о Гранатове. Гранатов был для меня вроде святыни, я ночами мечтала, чтобы стать такою, как он, чтобы вытерпеть столько ради нашего дела. А в этой истории мне Гранатов не нравится. Он за Кларой два года увивается; сама слыхала, как она гнала его от себя и стыдила. И вот кажется мне, что он личные счеты сводит. Убейте меня – как чувствую, так и говорю! Что хотите со мной делайте – не поверю, что Клара вредитель! Вся она – в этом городе, в этом корабле.
В «Ударнике» появилась статья Исакова о том, что горком и руководители стройки, незаконно лишив партбилета и отстранив от работы одного человека, очень мало делают для действительного очищения организации и производства от врагов. Имя Каплан не было названо, но все понимали, о ком идет речь. Готовцев поставил на пленуме вопрос о том, что редактор Исаков берет под защиту врагов. Но Исакова поддержал Андрей Круглов: не пора ли по-настоящему проверить наши ряды, нечего ссылаться на Каплан; ее виновность вызывает сомнения, а действительные враги продолжают работать.
Исаков поместил новую статью с резкой критикой Готовцева. Теперь Готовцев уже не радовался тому, что директива о самокритике выполняется. Он назначил новый пленум горкома, где собирался провести решение о снятии Исакова с работы.
Гриша Исаков бессонно томился до утра, но днем держался весело и писал все более острые и злые статьи.
А Клара сидела дома одна. Она не пускала к себе ни Круглова, ни Тоню, ни Исакова – не надо, не надо, пусть сперва все выяснится. Она отказалась от занятий с Васютой. В знойной духоте летних дней и в свежие тихие ночи она была все время одна, без облегчающего сна, без слез, без чего бы то ни было, что отвлекает мысли. Стараясь занять голову, она решила изучать английский язык и историю философии. Но заниматься было трудно. Абстрактные понятия не воспринимались, когда так реально, так ошеломляюще конкретно стояло перед нею ее собственное горе. Широкая жизнь вдруг стала до жути тесной. Не было света. Очнувшись от тяжелого сна, она каждое утро заново удивлялась, что солнце продолжает светить, как будто ничто не изменилось. Когда ветер влетал в комнату, шевеля ее волосы и старые письма на столе, она не верила, что это все тот же освежающий амурский ветер, – дышать было нечем. Цветов уже не было – она запретила Тарасу Ильичу присылать ей цветы. Писем тоже больше не было. Вот уже месяц, как от Вернера не было ни слова. Не верит ей? И он не верит? Или боится? Что же, тогда тем лучше… или тем хуже… Друг без доверия или без смелости – это уже не друг! И вот пришло письмо. Авиапочтой. Клара сама приняла конверт и заперлась в своей комнате, сдерживая бешеное биение сердца.
Уже смеркалось. Она разодрала конверт и высунулась в окно, пробуя разобрать знакомый колючий почерк. Ничего не было видно. Она не сразу догадалась зажечь электричество. Свет ослепил ее. Руки так тряслись, что невозможно было читать. Наконец она увидела первые строки, написанные с несвойственной Вернеру краткостью: «Клара! Потрясающая новость, я сам еще не опомнился. Я только что узнал, что…»
– Лелик! – воскликнула она и стиснула в пальцах письмо. Перед глазами вертелись круги, круги, круги… – Лелик! Как сдавлено сердце… Но что же я, ведь надо дочитать…
Она расправила бумагу и прочитала еще несколько строк. Сердце куда-то падало, падало… Ей почудилось, что она не успеет, что еще немного – и оно провалится совсем. Она всунула ноги в туфли и, задыхаясь, побежала через весь город в НКВД.
Дежурный остановил ее. Андронников был занят. Допрос. К ней вышел Касимов. У Касимова был вид человека, ошеломленного радостью. Он испугался желтого лица Клары и усадил ее на диван.
– Доложите… срочно… очень важно… – говорила Клара, согнувшись на диване от боли и от страшного ощущения, что сердце проваливается.
Касимов снова ушел в кабинет Андронникова.
Из кабинета провели под конвоем инженера Путина.
Снова вышел Касимов; его глаза горели охотничьим жадным блеском.
Клара вошла в кабинет. И у Андронникова был такой же воспаленный, неестественно возбужденный вид, и близорукие глаза под стеклами очков сверкали.
Он схватил Клару за руки, потряс их, усадил ее в кресло:
– Измучилась?
Она ничего не могла сказать. Она протянула письмо. Андронников читал без удивления, только кивал головой и посматривал на Клару все тем же неестественно горящим взглядом.
– Это новая деталь, – сдержанно сказал он, возвращая письмо… – Остальное я уже знаю.
Он подошел к Кларе и провел ладонью по ее склоненной голове.
– Я вас попрошу зайти ко мне завтра, – сказал он. – А сейчас… отправлю вас домой на машине.
Клара встала.
– Нет, нет. Я пройдусь. Мне надо прийти в себя. Я впервые дышу полной грудью.
Она вышла на крыльцо и остановилась. Как все переменилось! Как тепел и чист воздух! И даже темнота ночи мерцает нежным светом. Какой странный свет! Ей представилась луна, какою она бывает на восходе: багровая, растрепанная, большая.
Она сделала несколько шагов и вдруг пронзительно закричала. Ее крик прорезал тишину, и тишина разом откликнулась многоголосым гулом. Через этот гул посыпался дребезжащий звон – как будто в НКВД зазвонили разом все телефоны. Мерцающий свет был все ярче.
– Андронников! – закричала Клара, взбегая на крыльцо. – Что это?! Что это?! Андронников!
Она рухнула на лестницу, и гудящий мрак поглотил ее, в то время как ее тело, конвульсивно вздрагивая, еще сползало со ступени на ступень.
14
Андрей Круглов работал в ночной смене. Он любил эту смену за особую, деловую сосредоточенность. Стапели стояли во мгле островком света. Свет освещал только то, что нужно. Свет приковывал взгляд к работе. В ночи существовала только работа – все остальное лежало вне поля внимания, во мгле.
Сегодня Андрея отвлекла на несколько минут Мооми. Она попалась ему навстречу, девочка в синем комбинезоне, с мальчишеской прической коротко остриженных волос.
– Я сама работай сегодня! – крикнула она восторженно. Она верила, что Андрей обрадуется так же, как она. И Андрей обрадовался.
– Ну, пойдем, погляжу.
Он полез за Мооми внутрь корабля. Сварщики толпились в отсеке, принимая и сдавая смену. Нахмурив косые брови, Мооми приняла смену от бородатого рабочего. Ее маленькие огрубелые руки уверенно взяли держатель. Она закрыла глаза щитком и сквозь стекла поглядела на Андрея. Она была похожа на парашютистку, вышедшую на крыло самолета для первого прыжка.
– Не подкачай, Мооми, – сказал бородатый рабочий. Мооми включила аппарат, и синие искры посыпались вокруг нее, как падающие звезды, и аппарат гудел, как мотор самолета, и она улыбнулась, как не может не улыбаться парашютистка, почувствовав всем телом толчок благополучно раскрывшегося парашюта.
Андрей одобрительно кивнул Мооми и полез в крайний отсек, где уже начался монтаж электрооборудования.
– Погляди на Мооми, – сказал он товарищу, принимая смену.
– Только бы не подкачала, – улыбнулся товарищ. Он верил в победу Мооми так же, как верил весь коллектив.
Андрей занял свое место. Пока он налаживал инструменты и проверял материалы, образ Мооми еще витал в его мыслях. Девушка из тайги со сварочным аппаратом! Вот о чем надо писать поэму! И почему Исаков не пишет о ней? Надо будет сказать… Потом точная кропотливая работа поглотила целиком, она требовала внимания и искусства, и Андрей любил ее. Он привычно не слышал гудения сварочных аппаратов и грохота клепальных молотов. Эта музыка сопровождала его работу изо дня в день и стала составной частью рабочего места, так же как покатый потолок над головой.
Он работал точно и быстро. Руки были искусны. Материал хорош и лежал под рукой, инструмент проверен и удобен. И вдруг он выпрямился, роняя инструмент. Что-то случилось. Чего-то не хватало.
Потом он понял, что не хватало привычного гула и грохота.
На корабле стало тихо.
Но едва он осознал, что удивился именно тишине, как тишина заполнилась звуками, доносящимися извне. Кто-то кричал высоким голосом, где-то топотали шаги, что-то звенело и лязгало, а над всем этим царили настойчивые, пронзительные, непрерывные гудки. Гудел заводской гудок, гудели паровозы, экскаваторы, катеры, гудела землечерпалка, гудели автомобили.
Андрей дернулся к выходу, и первое, что он увидел, было искаженное ужасом землисто-серое лицо Мооми.
– Беги! – крикнула она. – Огонь!
Ее шаги загремели по железным листам и затерялись в плаче гудков.
Андрей выскочил наружу. Ему в лицо пахнуло дымом и сухим теплом. Он увидел совсем близко, в каких-нибудь десяти метрах от себя, непонятное, незнакомое здание, охваченное дымом и ползучими струями огня. Здание было приземисто, его крышей была огненная завеса, по которой быстро и весело скакали бойкие желтые струйки.
«Механический цех и контора», – сказал себе Андрей, потому что ничем другим оно не могло быть. Но в то же время оно ничем не было похоже на длинное побеленное здание, которое приходилось ежедневно огибать по пути к стапелям.
У горящего здания носились черные силуэты людей. Они были точеными на ярком фоне огня. Они влетали в огонь и вылетали оттуда, втянув голову в плечи, нагруженные бесформенными предметами. Они бросались под струи из брандспойтов, сваливали свой груз и бежали обратно. В ворота со звоном влетел пожарный автомобиль с торчащим кверху указательным пальцем пожарной лестницы.
– Очистить до-ро-гу! – кричал за воротами зычный голос.
Гремели подъезжающие машины. Пожарные соскакивали на ходу и стремительно тянули за собой по-змеиному изгибающиеся шланги.
Черные тени метались у дома, но уже никто не смел забегать внутрь. Целые потоки били в огонь и бесследно испарялись, не принося видимой пользы. И вот маленькая черная тень метнулась у сорванной двери и пропала внутри. Круглов не узнал, но почувствовал, кто это был. «Двадцать пятое… чертежи… первый корабль» – мелькнуло в памяти.
Черная тень выскочила, качаясь как спьяну, взмахнула руками и упала. К ней подбежали люди. Круглов рванулся вперед и остановился. «Двадцать пятое… первый корабль…»
– Все по местам! – крикнул он себе и другим, принимая на себя бремя ответственности и организаторства. – Все по местам, никто не смеет уходить!
А Мооми, сбежав со стапелей в припадке звериного ужаса, инстинктивно побежала дальше, дальше, дальше от огня. Ее суеверная душа панически боялась сокрушительной, всепожирающей стихии, перед которой так беспомощен маленький и слабый человек. От огня надо бежать! – Мооми узнала это еще в раннем детстве. Они бродили с Кильту по тайге и, заплутавшись, попали в полосу лесного пожара, раздуваемого сильным ветром. Тогда они побежали; Их перегоняли белки, сохатые, птицы, они бежали, слившись в одном порыве со всем перепуганным таежным зверьем; бежали так, что подкашивались ноги. И когда Мооми падала, Кильту лупил ее кулаками и кричал: «Беги!»
И теперь Мооми побежала, как подсказывал закон жизни, в темную прохладу ночи. Но вдруг остановилась. Она почувствовала в руке холодящую ручку щитка. Она вспомнила сварочный аппарат. Она его добивалась целый месяц. Сегодня ей доверили. Бригадир сказал Ивану Гавриловичу: «За Мооми будь спокоен, не подкачает!» Мооми хорошо знала слова: «не подкачай!» – их постоянно говорили ей и бригадир, и комсомольцы, и даже Кильту.
Мооми стояла, зажмурив глаза. Огонь плясал, как злой черт. И там был сварочный аппарат… «Двадцать пятое… первый корабль…» Мооми подсознательно открыла, что есть другой закон жизни. И побежала обратно.
– Все по местам! – крикнул Круглов сверху.
И Мооми взбежала наверх, по нагретым мосткам, глотая горячий и дымный воздух. И стала на свое место.
Маленького задохнувшегося Сему Альтшулера отнесли в сторону и положили на землю. Он полежал глядя перед собой невидящим взором, потом вдруг пришел в себя, вскочил и побежал прямо в огонь.
Его перехватил Андронников.
– Обалдел? – спросил он мягко. – Иди, иди, не будь дураком. Жизнь еще пригодится.
А пожар клокотал, и десятки мощных струй ударяли, мучили, но не сбивали огонь. Как солома, пылали деревянные перекрытия, шипело расплавленное стекло, корчились тяжелые балки. В тихом воздухе летней ночи огонь поднимался ровным столбом, и в темном небе, в облаке желтого дыма, взлетали и падали искры, высокие и яркие, как ракеты. Ночь отступила.
Далеко вокруг все озарил зловещий светильник.
– Сволочи! – шептал Сема Альтшулер, не чувствуя ожогов, машинально обрывая истлевшие лохмотья рубахи.
– Сволочи! – бормотал Круглов, быстро принимая и передавая по цепи ведра воды из озера. Ведра летели по цепи, не успевая расплескаться. Их опрокидывали над дымящимися лесами. Их отправляли назад. Ведра дробно звенели.
– Сволочи! – шептали сотни губ.
Гранатов подбежал к Андронникову. Лицо Гранатова было мертвенно-бледно, щека дергалась, глаза горели безумным возбуждением.
– Это поджог! – крикнул он. – Несомненный поджог! Надо закрыть все выходы! Чтобы ни один человек не вошел и не вышел!
Андронников взял его за плечи.
– Истерику отставить! – сказал он властно. – Без вас знаю, что делать. Никто не уйдет. А если вы хотите уйти – пожалуйста. Истерика сейчас вредна. Выпейте валерьянки и ложитесь спать.
И он посмотрел в лицо Гранатову своими пристальными близорукими глазами.
За забором, оцепленным красноармейцами, тесно стояли рабочие дневных смен. Многие прибежали сюда с первыми гудками тревоги и уже пережили приступ первого отчаяния и гнева. Другие еще тяжело дышали от бега и спрашивали, проталкиваясь вперед:
– Что? Что?
В толпе тихо говорили:
– Только бы стапеля…
Кто-то простонал:
– А чертежи… чертежи!
Цедили сквозь зубы:
– Сволочи…
В ровном столбе пламени, разрушавшем с лихорадочной быстротой то, что было еще час тому назад тихим убежищем важнейших чертежей и цехом с нужнейшими станками, – в этом желтом страшном пламени угадывалась рука врага. Одна спичка… одна спичка в руке врага…
И оттого, что эта спичка казалась ничтожной перед последствиями ее жидкого огонька и в то же время такой сокрушающе-могучей, именно потому, что ее так трудно вовремя заметить, все подтянулись, недоверчиво вглядываясь друг в друга, и когда кто-то взволнованно закурил, десятки голосов заорали:
– Не курить!
И многие взгляды обратились к земле, усыпанной порыжевшей стружкой, к штабелям бревен, к обрезкам досок…
Всем хотелось действия. Но никто не жаловался, что не пускают на завод. Глядя на сосредоточенно-молчаливых бойцов, оцепивших завод, каждый хотел сказать им: «Смотри зорче! Не пускай никого!»
Только красноармейцы – рота за ротой – подходили из ночной темноты. То и дело раздавалась команда:
– Красноармейцы, бегом, марш!
И мимо толпы, крупным шагом, не сбивая строя, пробегали в ворота красноармейцы: по их молодым лицам красным загаром полыхали отсветы пожара.
Там, вокруг горящего цеха, шла борьба.
Командиры прибывших рот на бегу получали приказания и, не останавливая бега, разводили людей на работы.
Спасти цех было невозможно. Надо было спасти все остальное и не допустить огонь к стапелям. А на маленьком пространстве в десять метров лежали сложенные в штабеля доски и бревна, громоздились тяжелые ящики с моторами и частями… и старый сарай лепился метрах в трех от пожара. Сарай уже трещал рассохшимися досками, когда десятки топоров со всех сторон обрушились на него, отрывая доски от разогретых балок, отбивая крышу, врезаясь в податливое мясо бревен. И сарай распался в несколько минут, обнажив сваленные в кучу инструменты и части машин. Доски, бревна, инструменты, части – все поплыло на сильных руках и спинах. Через десять минут там, где стоял сарай, протянули толстый шланг, и по шлангу ринулась к огню новая сильная струя воды.
Рота шла на переноску бревен и досок. Взволнованные пожаром, воодушевленные желанием победить огонь, красноармейцы схватились было за бревна кое-как, наспех, лишь бы оттащить подальше, но спокойная команда остановила их:
– Назад! Командиры отделений, построить людей! Работать спокойно, организованно, складывать по порядку. Начали!
И порядок наладился.
Тяжелые ящики с моторами были неподатливы. Бойцы облепили ящики со всех сторон, но эта возня казалась бесцельной. Ящики не двигались, будто вросли в землю многопудовыми махинами. «Раз-два – взяли! Раз-два – взяли! Еще раз – взяли!» Ритмичные движения людей, удвоивших свои силы страстным желанием, сделали свое дело: ящики качнулись, сдвинулись, поползли. Почти незаметно, но поползли. Красные искры падали на ящики, на спины бойцов, их вдавливали в землю ногами. Лица людей были совершенно мокры от пота.
На стапелях шла непрерывная упорная борьба. Каждый метр был занят человеком. Каждый человек отвечал за свой метр. Не сходя с мест, комсомольцы принимали из темноты бегущие по цепи ведра и методически выливали их на дымящиеся доски, на горячие бока корабля и на самих себя. Мокрые, дымящиеся, с почерневшими лицами и руками, они работали как механизмы, без слов, без лишних движений. И только воспаленные внимательные глаза выражали нечеловеческое напряжение борьбы.
Мооми работала так же, как все. Она снова подняла свой щиток – жара и дым разъедали глаза. Она покорно обливала водой тлеющий комбинезон и вскрикивала каждый раз, как вода пробиралась к потному, разгоряченному телу.
Мооми щупала доски рукой, и казалось – она их гладит и упрашивает не гореть. Она старалась закрыть своим телом корабль, чтобы не перегрелись, не покорежились от жара его бока. Она уже не боялась огня – она забыла, что ей страшно. И ее радовало, что вокруг – товарищи, друзья, что они все вместе спасут корабль, работу, сварочный аппарат.
А пожар умирал. Усилия тысячи людей сделали свое дело. Огню было некуда деться. У него не было выхода, – все, что может гореть, было убрано, унесено человеческими руками, а там, где огонь только что буйствовал на свободе, теперь скрещивались, как мечи, десятки сокрушительных струй воды, и огонь метался, падал, бросался из стороны в сторону и снова падал, шипя и плача…
Уже уходили красноармейцы.
Уже перестали дымиться остывающие доски стапеля.
Отъезжали автомобили с опустошенными цистернами.
Распалась цепочка комсомольцев, подававших воду. Звякнули в последний раз и застыли на своих местах ведра. Мооми вытирала лицо мокрым платком и блаженно улыбалась.
– Работа должна продолжаться, – сказал Круглов негромко. – Двадцать пятого корабль пойдет…
И комсомольцы, посмеиваясь над своим мокрым и растрепанным видом, вернулись на рабочие места.
В освобожденной комнате комендатуры инженеры и чекисты приводили в порядок помятые, обрызганные водой и грязью, но все-таки спасенные чертежи.
Сема Альтшулер сбросил отрепья сгоревшей рубахи и пошел домой, сверкая голыми плечами.
У ворот, где шла строжайшая проверка документов и пропусков, Гранатов подошел к Андронникову. Андронников обнял его за плечи:
– Успокоились?
И потом, потянувшись за папиросой, добавил:
– Да, большое несчастье!
Гранатов смотрел на догорающие угли бывшего цеха. Его лицо было расстроенно и бледно. Глаза блуждали; в них отражались красные вспышки огня.
Андронников сунул в рот папиросу, полез в карман за спичками, не нашел их, ощупал себя со всех сторон и обратился к Гранатову:
– Можно попросить у вас спичку?
Гранатов подал спички с предупредительной поспешностью. Андронников обрадованно чиркнул спичкой, со вкусом несколько раз затянулся и сказал шутливо:
– А вы запасливый… Не курите, а спички держите.
И посмотрел на Гранатова в упор пристальными близорукими глазами. У Гранатова судорогой передернулась щека. Он улыбнулся в ответ:
– А вы курите, но спичек не держите? Моя система лучше.
Андронников засмеялся, продолжая жадно затягиваться ароматным дымом. Гранатов отвернулся – он смотрел на угли, уже подернутые синим мертвенным покровом.
– Вот вы говорите о системах… – начал Андронников.
Гранатов вздрогнул и повернул к нему бледное лицо.
– Простите, вы что-то сказали?
– Да, я продолжил вашу мысль о системах, – сказал Андронников и взял его под руку. – У нас разные системы, вы говорите. Это верно. У каждого система, разработанная вплоть до деталей. Но какая из них лучше, покажет жизнь. Не так ли?
– О чем вы говорите? – закричал Гранатов, и щека его запрыгала. Он хотел выдернуть руку, но маленький аккуратный револьвер мягко тронул его грудь.
– Вы нервничаете, это нехорошо, – почти любовно сказал Андронников и сделал знак сотрудникам, ожидавшим у ворот. – Вы арестованы, Гранатов.
На потемневших от воды стапелях в черной пасти спасенного корабля загудели сварочные аппараты. Не были видны, но угадывались синие звезды, летящие вниз вокруг молчаливых, усталых, но счастливых людей.







