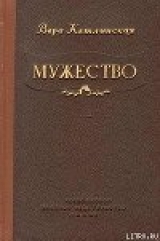
Текст книги "Мужество"
Автор книги: Вера Кетлинская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 47 страниц)
Катя Ставрова пришла к Андрею и сказала с видом обреченной на позор: «Вот моя романтика! Это я привела в лагерь врага!»
Семена Порфирьевича не было. Он очень редко появлялся в поселке и давно уже не подсаживался к кострам. Но выяснилось, что он встречался со многими комсомольцами. Некоторые из них дезертировали. Гриша Исаков рассказал о том, как старик запугивал его полной слепотой и уговаривал бежать как можно скорее. И тут же стало известно, что другим заболевшим куриной слепотой старик говорил то же.
Андрей стал противен самому себе. Шляпа, старая шляпа! Как мог он просмотреть и старика и Пака? Как случилось, что он не сумел, не додумался всерьез поговорить с комсомольцами, предупредить их, научить их видеть коварную и осторожную работу врагов?
Романтика! Романтика хороша для Кати. «Человек из тайги… тигры… собиратели женьшеня…» Но он руководитель, коммунист, какое он имел право не видеть истины?
Все его счастливые мысли о результатах своей работы сразу померкли. Нет, он не сделал почти ничего. Он прозевал основное. Он не справился…
Ему хотелось, чтобы его осудили. Он заговорил с Морозовым. Но Морозов встретил его словами: «Я безмозглый дурак! Я помогал ему солить рыбу и водил к нему комсомольцев, ни разу не проверив, правильно ли он руководит… Я виноват кругом!»
И Андрей не сказал уже приготовленной фразы: «Снимите меня, я недостоин». Уйти от руководства – это легко. Это самое легкое. Исправить, стать достойным – тяжелее, действеннее, правильнее. Воспитывать людей – искусство, которому надо учиться без конца. Он это знал, он же думал об этом еще там, в тайге (ночевки у костра казались ему сейчас бесконечно далекими), но он не знал тогда, что учит этому искусству сама жизнь, подгоняя, требуя, нанося удары, проверяя каждый шаг.
11
На рассвете хлынул ливень. Он хлестал землю до позднего утра, а потом выдохся и, уже не имея сил хлестать, поливал землю мелкими обессиленными струями.
Клара Каплан вышла из дому, защищая зонтиком лицо и осторожно ступая по скользкой, размытой глине.
– Алло, товарищ архитектор!
Покрасневшее от ветра, мокрое лицо Вернера было мальчишески весело.
– Мы, кажется, служим с вами в одном учреждении?
Она прикрыла его своим зонтиком. Дождь барабанил по набухшему шелку. Клара с любопытством разглядывала мокрое оживленное лицо, полускрытое кожаным шлемом. Он был похож на летчика.
– Вы рано идете, – сказала Клара. Было восемь часов.
– Я имею обыкновение гулять по утрам. А вы действительно рано вышли. По вашему виду нельзя сделать заключение, что вы любительница прогулок под дождем.
– Я люблю работать утром, до посетителей.
Он взялся рукой, обтянутой кожаной перчаткой, за ручку зонтика:
– Тогда пойдемте. У «Амурского крокодила» будет обморок, когда она увидит, что я пришел раньше ее.
Его мальчишеский тон был приятен. Неразгаданный Вернер вдруг повернулся неожиданной, симпатичной стороной. Они пошли, ступая в лужи, оба держась за ручку зонтика.
– Вы не изменяете своему обыкновению гулять даже в такую погоду? – Клара не могла не подметить педантичности его речи: «Я имею обыкновение», «Нельзя сделать заключение». Но сейчас это не раздражало, а только забавляло.
– Да, – охотно ответил Вернер, не замечая иронии. – Если уж заводить такой обычай, так надо принять за правило: никогда не отступать. Кроме того, это дает мне возможность с утра обойти стройку и поселок.
Он спросил, как она устроилась, получила ли кресло. Она уверяла, что устроилась великолепно, с полным уютом.
– Вам не мешает гранатовский патефон?
Она засмеялась.
– Он не мешает, но удивляет.
Гранатов, видимо, тосковал по вечерам. Он часами заводил патефон. Клара, жившая рядом с ним, и Вернер, живший над ним этажом выше, были невольными слушателями.
– Вечерами его душа жаждет, – сказал Вернер. – Вы не замечали?
Клара передернула плечами и не ответила. Она искоса поглядела на Вернера: что он знает? И знает ли что-нибудь? Гранатов оказывал ей самое нежное внимание. Ей это было не нужно. Она избегала его. Нет, он герой не ее романа! Она боялась нервных, неуравновешенных людей: в обществе таких людей ее собственная неврастения поднимала в организме лихорадочную возню. Нет, нет, никаких переживаний! Она хотела работы, одиночества и покоя. Довольно!
– Я когда-нибудь приду к вам в гости, – все тем же мальчишеским тоном сказал Вернер. – Мне очень интересно, как выглядят у себя дома такие женщины, как вы.
– Какие же такие женщины?
Он смотрел на нее улыбаясь.
– Ну, скажем, такие беспокойные, страшно принципиальные женщины, всегда готовые вывести вас на чистую воду.
Это было сказано шутливо. Но именно в этом вопросе Клара не умела шутить. Она помедлила с ответом. Она вспомнила сразу слишком много. «Твои принципы приведут тебя в сумасшедший дом…»
– Знаете, товарищ Вернер, что я вам скажу. Можно относиться к этому с улыбкой, но свою принципиальность я выстрадала и отношусь к ней серьезно.
Он молчал, обдумывая. Они уже подходили к управлению. Дождь перестал. Клара закрыла зонтик, взглянула на Вернера – и сразу исчезло очарование этой краткой прогулки под дождем.
– У вас много замечаний? – спросил он отчужденно.
Она поняла. Она противилась этой отчужденности. Но ее голос сказал резче, чем ей хотелось бы:
– Да. Это больше чем замечания.
– Может быть, вы поделитесь со мною? Я буду очень обязан вам.
«Я буду очень обязан». Раздражение всплывало снова. Она прошла за ним в его кабинет, бросила на стол мокрые перчатки, сказала с нарочитой фамильярностью:
– Ладно. Слушайте.
Он был готов слушать. Но Клара сидела задумавшись. Она с трудом подбирала слова помягче. Все то, что обдумывалось и говорилось наедине с собою, было трудно сказать здесь, под внимательным и умным взглядом Вернера.
– Мое мнение еще предварительное. Возможно, я буду говорить бессистемно и резко…
– Очень хорошо. Вам виднее, чем мне. По роду своих обязанностей я вижу людей с вышки, с капитанского мостика, а вы – рядом с собою.
Почему он настаивал? Чтобы исправить? Или потому, что хотел выяснить, какие обвинения против него может поднять «беспокойный элемент», «страшно принципиальная женщина»? Как бы то ни было, он получит сполна.
– В этой вышке, по-моему, ваша беда. В наше время капитан обязан жить одной жизнью с командой, а вы не слезаете с мостика.
– Но когда я позвал сюда команду, и позвал по вашему выбору, она поддержала не вас, – быстро отпарировал Вернер.
– Вы хотите вернуться к этому злосчастному совещанию? – не сдаваясь, подхватила Клара. – Хорошо! Это одно из главных замечаний, даже обвинений. Вы как будто бы поддержали меня и Морозова, но поступили затем как раз наоборот.
– На это у меня были свои соображения, – сказал Вернер, не снисходя до объяснений. – Ну, а еще что?
Она сбилась. Тон превосходства, звучавший в его ответе, лишил ее уверенности. Она заторопилась, говорила сбивчиво, забывая доказывать, обрывая мысль на полуслове.
– Вы слишком уверены в своей непогрешимости. Вы создали между собой и коллективом пафос дистанции…. У меня такое впечатление, что вы создали себе идеал руководителя, фикцию четкого управления. Вы играете эту роль, иногда худо, иногда хорошо. Вы сумели поднять энтузиазм масс, но закрепить его не умеете. Или не хотите? Провал!.. У вас мало настоящих людей. Ваши благие намерения тонут в болоте вашего аппарата. Чиновники и сухие спецы… Вы не видите истинного положения. Если отбросить вашу иллюзию, это не управление, а пустота. Король гол.
– Сколько обвинений сразу! – воскликнул Вернер, шутливо хватаясь за голову. Он слушал с насмешливым интересом. Он, видимо, не очень верил ей. Кларе хотелось, чтобы он защищался.
– Вот, например, ваши приемные часы, – сказала она вызывающе. – Как будто бы прекрасно. Утром, днем и еще до полуночи. Приходи, спрашивай, получай директивы. Но эта организованность – формальная. Комсомольскому бригадиру к вам не попасть. Их не пускают. Этот ваш «Амурский крокодил» и этот Кочанер – хронометр в очках, бритое ничтожество! – вот кто встречает комсомольцев, говорит с ними, создает впечатление о стиле руководства. В крайнем случае, они попадают к Гранатову.
– Разве это плохой случай?
– Да ваш Гранатов не справляется и со снабжением!
– А вы бы справились? В наших-то условиях?
– Бросьте говорить об условиях! Эта одна из ваших фикций. Трудности! Трудности! Надо лучше работать, лучше руководить – и половины трудностей не будет. Может быть, я и не справилась бы. Это не моя специальность. Но паники я бы не допустила. А у Гранатова – вечная неврастения. Комсомольцы уходят от него разочарованными, а производственные вопросы он не решает вовсе, он отправляет к Сергею Викентьевичу.
– Так они ведь в его ведении…
– Ведение! Ведение! Он добродушная шляпа. Он хочет всех удовлетворить, а поэтому не удовлетворяет никого. Посмотрите сами! У вас в приемной с утра до вечера инженеры, прорабы, десятники. Если бы он решал вопросы, они бы не бегали к вам.
Вернер морщился. Ему уже не было смешно. Этот бурный поток обвинений озадачил и раздражил его.
– Подождите немного. Вы что же, считаете, что мои приемные часы – формальная организованность и все?
– Да! – сказала Клара запальчиво, хотя вовсе этого не думала. Чувство справедливости вынудило ее добавить: – Не все, конечно. Я за четкость, за порядок. Многие умеют изложить все за семь минут. Но многие и не умеют. Вы смотрите на часы еще до того, как изложено самое наболевшее. А эти очереди! Этот ваш «Крокодил»! Я не говорю, что надо пускать без очереди, но от священного трепета вашей приемной меня воротит! – Она засмеялась. – Причащение святых тайн. Вы бы поглядели. Даже толстяк Солодков старается подтянуть свое пузо перед дверью вашего кабинета.
Вернер перебил ее быструю речь:
– Вы остроумны, товарищ Каплан. Мне жаль, что я не могу этого увидеть. Но мое оправдание в том, что настоящие люди, вроде вас, пафоса дистанции не чувствуют и не боятся даже кричать на меня, как вы сейчас. А потом, что плохого, если Солодков раз в день подтянет свое брюхо?
Клара не ответила. Она поняла, что уклонилась в сторону, что дала себя увлечь от основного, принципиального к второстепенному, на котором не стоило настаивать.
– Не в этом дело. У вас чудесная стройка, чудесные строители и плохой аппарат. Живое дело глохнет в канцелярии.
– Вы преувеличиваете.
– Вы сами не видите, что вас окружает. И если хотите, – она разгорячилась и уже не выбирала выражений, – если хотите, корень зла – в вас. Вы властны и самоуверенны. Вы полагаетесь только на себя. Вы в стороне от комсомольцев, вы поставили себя над партийной организацией, попытку критики вы встречаете в штыки… Если вы отчитываетесь перед парторганизацией, то лишь формально, для очистки совести… Вы забываете, что один – самый умный человек – двигать такое дело не может…
Она замолчала, задыхаясь. Сердце болело и неровно прыгало в груди. У нее темнело в глазах от боли и возбуждения. Откинувшись назад, она ожидала, что он возразит.
Он сидел, прикрыв глаза.
На минуту ей стало жалко его. Порыв нежности охватил ее. Она заметила на его лице следы большого утомления. Она вспомнила его мальчишескую веселость – неужели это было всего полчаса назад? Ей хотелось сказать: «Простите, я погорячилась. Я, должно быть, преувеличила».
И вдруг все рухнуло. Он осторожно (не открыто, а тайком скосив глаза) взглянул на часы и сказал с холодной и снисходительной вежливостью:
– Ну что ж, спасибо за откровенность. Я не буду возражать вам. Вы сами оговорились, что мнение – предварительное. У таких людей, как вы, часто бывает сильно развитое воображение.
Клара сидела как школьница, с яркой краской на щеках. «Сильно развитое воображение…», «Предварительное мнение…»
«Амурский крокодил» заглянула в дверь. Клара метнула на нее такой взгляд, что дверь тотчас же закрылась.
– Я рад вам, хотя вам и хочется «вскрыть» меня во что бы то ни стало, – сказал Вернер, приподнимаясь, и уже открыто взглянул на часы.
Клара с трудом преодолевала смущение и связанность. Как глупо, как обидно повернулся разговор!
– Я считала, что мое мнение поможет работе. Зачем бы иначе я стала говорить так откровенно?
Вернер проводил ее до двери и у двери пожал ее горячую руку.
– Я ничего не имею против вашей откровенности, – сказал он.
Нет, он ничего не понял. Ничего не принял. Он выставил ее из кабинета, как девчонку, не нашел нужным даже возразить, оправдаться… А она высказала кучу сбивчивых мыслей, оробела, подчинилась.
– Если я разговариваю с Вернером, значит мне нужно, и нечего совать свой нос в дверь! – резко крикнула она секретарше, чтобы сорвать на ком-нибудь злость.
Она выскочила на крыльцо. Она не могла сидеть в помещении. Ее душило возбуждение, ей казалось, что сердце подкатывается к горлу. Это было странное ощущение. Оно бывало и раньше. Но сейчас ей нечем было успокоить себя.
– Я устала, – сказала она вслух, подставляя лицо мелким каплям дождя. Ее усталость не имела значения. Жить – значит бороться.
12
В комнате стояли кровать, маленький шкаф, стол у окна и в углу, сбоку, – одно большое, глубокое кабинетное кресло. Клара Каплан легла на кровать не раздеваясь.
Груду дневных впечатлений надо было разобрать, «привести к одному знаменателю», – так она называла вечернюю подытоживающую работу мысли. Совещание партийного актива… Она ждала от него многого. А Морозов? Он ждал еще большего. И он сумел ярче, толковее, сдержаннее, а потому убедительнее изложить ее – нет, свои – мысли, в которых она нашла воплощение того, что горело в ней, но не было продумано до конца. Руководители строительства не сумели возглавить энтузиазм комсомольцев. Качество руководства отстает, а потому тормозит размах стройки. «Уверенность некоторых товарищей в том, что они все могут и со всем справятся, по меньшей мере неоправданна. А она создает благодатную почву не только для бюрократизма, но и для прямой вражеской работы». Если бы это сказала она, многие не заметили бы. Но это говорил Морозов. И он подкрепил свои слова несколькими предложениями, простыми и вескими, требующими коренного изменения методов руководства.
«Дорогой… Умница», – шептала Клара, слушая его неторопливую речь. В ее коллекции человеческих типов он попал в самую почетную рубрику «настоящих»… Во время борьбы в стройтресте был вот такой же, Петя Иванов. Никогда ничего лишнего. Никакой горячки. Спокойствие и требовательность. И какая железная непримиримость!
А Гранатов произнес блестящую речь. Она признала в нем ум и талант. Он говорил о зиме. Только дело. Смелые и серьезные проекты. Ни одна мелочь не была забыта. Проект… даты… исполнители… Было ясно, что он может руководить. В нем не было сегодня никакой неврастеничности. Может быть, это и расположило к нему Клару. Она аплодировала ему. Он ответил ей исподтишка благодарным и нежным взглядом. Они шли домой вместе. Он говорил с вдохновением о своей работе. О радости строить… Что ей не понравилось? Она не могла разобраться. Она вдруг не поверила ему. Вдруг закрылась для него, отчужденно и с грустью. Как тогда с Вернером, после прогулки под зонтиком.
Она даже присела на кровати. Она вспомнила. Он говорил о снабжении, о расхлябанности, о неумении доводить дело до конца. Говорил хорошо. Но Клара поймала очень внимательный и удивленный взгляд Вернера. Клара не задержала внимания на Вернере. Она была слишком поглощена существом спора, а сейчас вспомнила и этот спрашивающий взгляд и то, что он возник перед ней по дороге домой.
Чему удивился Вернер? Вернер многое прощал Гранатову. Он ценил его и, по-видимому, любил. Ах, вот чего он не мог простить!.. Гранатов ездил в Хабаровск дважды. В первый раз он был там около месяца. И все-таки ничего всерьез не обеспечил на зиму. Во вторую поездку он метал молнии, отдавал под суд, выгонял, сыпал выговорами, но время было упущено. Если бы летом…
Клара усмехнулась. Она перенеслась в недавнее прошлое. Стройтрест. Солодихин. Какое величие планов! Как он умел разработать и «закруглить» вопрос! Его мысль скакала неудержимо, увлекая слушателей. Клара увлекалась и голосовала «за». Разочарование пришло позже. Пункт 1-й. Не выполнили. Почему? «Видите ли, товарищи, была целая цепь причин… Товарищ В, должен был… Мы ставили вопрос…» Пункт 2-й. Не выполнен. «Правда, нам не удалось придать массовый характер, но мы провели более узкое совещание аналогичного характера…» Пункт 4-й. Сорвалось. «Как вам сказать… мы развернули подготовку… зато сейчас… о, сейчас предполагаем провести новое, значительно более широкое и эффективное мероприятие…» Неужели и Гранатов такой же?.. И Вернер это понял?..
Клара курит. Слушает перебои сердца. Прислушивается к течению мыслей. Нет, она недовольна совещанием. Оно растревожило ее. Она ничего не выяснила. Мысли, предоставленные своему течению, плывут по кругу лиц, слов, впечатлений и сходятся в центре круга – к Вернеру. Вернер! «Я вижу, что требовал недостаточно. Я предупреждаю, что теперь я буду требовательнее и строже, я буду бес-по-ща-ден». Он пришел с опозданием. Он выступил коротко, гневно, как безапелляционный начальник. По всем лицам прошел холодок. Вернер был прав, но прав односторонне. Он не видел, что он авторитетен и еще любим, что люди тянутся к нему с искренним желанием помочь, подать руку. Он не принял помощи. Он стал выше ее. Когда он кончил, он остался наверху, над всеми – но один.
«Амурский крокодил» вовремя заглянула в дверь. Шепотом вызвала. Он ушел задолго до конца совещания. Языки развязались. В страстных спорах коммунисты искали путей, самых коротких, самых удачных – к победе. Вернер не вернулся.
Клара бросает папиросу, тотчас закуривает вторую. Она видит его стройную, легкую, ловкую фигуру, одиноко проходящую по комнате… Что? Какое ей дело?.. Ее томит навязчивое ощущение невыясненности. Воспоминание… Движение, наклон тела, лоб… Что? Кто? Кого он напоминает?..
Она сжимает похолодевшие руки. Предчувствие опередило мысль. Она прячет лицо в подушку. Не хочу! Не хочу! А мысль вертится, вертится в мозгу… Вот склоняется над нею изящная подтянутая фигура. Звучит голос: «Вы производите на меня хорошее впечатление. Я рискую…» Знакомый наклон тела, знакомая властность голоса. Она уже встречала его?..
И вот мысль прорывается сквозь мгновенное видение: она видит себя в ложе театра, и склоненного над нею мужчину, и коробку конфет на бархате барьера, и мягкий, вкрадчивый голос говорит ей вполголоса: «Я рискую отдать вам свою свободу. Берите». Левицкий…
Она вскрикнула. Крик принял очертания имени. Закрыв глаза, сжав зубами папиросу, она старалась отогнать образ, о котором помнить не надо. Левицкий. Он вернулся в чертах другого. Но это невозможно. Это неправда. Они не похожи. Ничего общего. Ведь так же нельзя работать…
«…У вас сильно развито воображение… Такие принципиальные женщины, как вы…»
Когда она порвала с Левицким, он бросил ей в лицо, издеваясь: «Твои принципы приведут тебя в сумасшедший дом!» Он был ее мужем полгода. И полгода оказалось достаточно, чтобы узнать его и пойти в Контрольную комиссию…
Она его любила. Да. Еще сейчас, через три года, при мысли о нем ползут из глубины ее существа ощущения неясные, как отражения на льду. Она заледенила в себе эту любовь. И сколько острой боли принесла с собой победа сознания над чувством! Теперь, через три года, острой режущей боли уже нет, есть только легкое нытье, неопределенное покалывание…
Клара сжала руками бок, стараясь унять покалывание в сердце. Синий дым не растворялся в воздухе, а висел тяжелыми качающимися пластами. Если в этой комнате выкурить пять или шесть папирос, пласты заполнят всю комнату, станет еще труднее дышать. Стены давят, потолок кажется тяжелым, несмотря на свежую белизну. И с каждым глотком воздуха все затрудненнее дыхание и все ощутимее толчки сердца.
«Твои принципы приведут тебя в сумасшедший дом». Он должен был сказать: в могилу. Ведь именно тогда впервые сдало сердце, расплачиваясь за то напряжение и боль, которые Клара сама, силой сознания причинила себе…
Принципы. Все шесть месяцев Левицкий доказывал, что Клара играет в принципиальность, что ее нетерпимость смешна, нелепа, надуманна, является плодом нервного раздражения. Это началось в первые же дни. Это ворвалось в хмельное очарование первых ночей, как далекий голос сирены, предупреждающий об опасности. Клара не сразу поняла сигнал. Она мягкой рукой отстраняла неосознанную опасность: «Не надо Вадима Лебедева, пусть не приходит больше…» И он так же мягко отводил ее руку: «Дорогая, он мой друг, присмотрись к нему, не выпускай коготки преждевременно». Она присматривалась. В конце концов она готова была любить всех его друзей… Но Лебедева? Щупленький, худосочный Вадим Лебедев, с красивой головой древнего римлянина, с великолепным, всегда послушным ему даром речи! Стоило ему впервые войти в квартиру, как Клара настороженно сжалась: он вошел как хозяин, слишком громко смеясь, слишком уверенно двигаясь, слишком властно покровительствуя. «Он удивительно интересный человек! – говорил Левицкий. – Такой ясный, оригинальный ум. Он мог бы быть большим философом». – «Мог бы? А что же ему мешает?» Лебедев вошел в их жизнь. Левицкий и Лебедев – они беседовали часами. Через приоткрытую дверь Клара прислушивалась ревниво и недоверчиво. Ее поражала эрудиция Лебедева. Она не все понимала. Она прониклась уважением к Левицкому – он мог вести такие сложные философские разговоры! Клара чувствовала себя маленькой и некультурной – от этих разговоров ей хотелось спать. Потом уважение сменилось тревогой. Высокоинтеллектуальные темы начали раскрывать перед Кларой свою враждебную сущность. Маска учености валялась на полу, под ее ногами. Клара уже все понимала, сквозь шелуху слов добравшись до сути: до пессимистических, реакционных рассуждений, в которых причудливо смешивались обрывки разных философских систем, слабо прикрытые контрреволюционные теории и сентиментально-идеалистическое воспевание «свободной, ни от кого не зависящей личности».
Она уже не чувствовала себя маленькой и некультурной – она чувствовала себя иной. «Он отравляет твой мозг! – сказала она Левицкому. – Мне стыдно, что ты позволил себя ослепить». Левицкий упрекал ее в том, что она ограничивает себя и свой кругозор, что она позволяет себе думать только по учебнику, «от сих до сих».
Споры прекращались тогда, когда оба уставали спорить. Они забывались в любви. Но в минуту, когда Левицкий был размягчен и покорен, она вздыхала: «И откуда он только взялся?» – «Мы познакомились случайно». – «Печальный случай!» – «Но, Клара, дорогая, мы ведь и с тобою познакомились случайно». – «Мы познакомились как члены одной партии». – «Клара, смешная ты девочка, не смешивай партию с сектой. Нельзя отгораживаться от всех некоммунистов». – «Но он чужой, чужой! Иногда мне кажется, что он враг». Он смеялся, обнимая ее. «Чудачка! Ты просто плохо понимаешь его. У него большой, оригинальный ум. Его мысли тесно в рамках, к нему нельзя подходить с общей меркой». Однажды в пылу спора Левицкий крикнул ей: «Да знаешь ли ты, что он был коммунистом еще до того, как ты знала это слово»! Он сразу спохватился. Он ничего не сказал больше. Он отрицал. Он имел в виду систему взглядов – и только. «Ну что ты вообразила, дорогая?»
Принципы. Именно тогда научилась Клара настоящей идейной принципиальности. Она пыталась участвовать в их беседах. Она вступала в спор как равная. Лебедев снисходительно шутил. Он соглашался. Он не принимал ее как равную. И он исчез. «Он уехал в командировку», – говорил Левицкий. Его не было полтора месяца. Пожалуй, за все шесть месяцев любви это были единственные ничем не отравленные дни. Страсть поглощала их, они с трудом отрывались друг от друга. Иногда тень тревоги проходила по его спокойному лицу. Она знала, как много у него преподавательской и административной работы, она понимала, что тени дневных забот приходят и ночью. Она снимала их лаской. И однажды забежала к нему в институт, чтобы доставить ему радость. Нежное ожидание сменилось гневным удивлением: она увидела Лебедева. Она сделала вид, что не узнала его, и поторопилась уйти, унося с собой погасший порыв. Она ничего не сказала Левицкому. Она узнавала постепенно, осторожно, сдерживая гнев. Вадим Лебедев уже полтора месяца работает в институте помощником Левицкого. Левицкий сам рекомендовал его. Никакой командировки не было. Они встречались теперь в институте. Клара была лишней, ее отстранили.
Она попробовала объясниться и в ужасе отшатнулась. Она не узнавала человека, которого любила. Как мог, как мог Левицкий так подчиниться чужому влиянию! «Он исключенный троцкист, вот кто он!» – крикнула она по неожиданной догадке. И оказалась права. «Ну и что же? – холодно спросил Левицкий. – Он разоружился. Он честно работает. Чего ты от него хочешь? Чтобы он не работал, не жил, не думал?!» – «Я хочу знать, что думает твоя партийная организация о вашей дружбе!» – «А какое ей дело до моей дружбы? Я от этого работаю не хуже». Клара замолкла, потрясенная. Она заговорила об этом позднее, ночью. Он был нежен и вкрадчив. «Да пойми же ты, маленькая упрямица, я не могу обо всем говорить на бюро. Один поймет, а пятеро не поймут, как не поняла и ты… Они считают Лебедева замаранным его прошлым – для них этого достаточно. А я опираюсь на его ум, на его талант, на его знания».
Лебедев снова появился у них в доме. Он приходил реже, смеялся тише, мило беседовал с Кларой. Она сопротивлялась этому вторжению. Ей хотелось пойти в институт, в партком, и поговорить. Но ей помешал случай. Она была больна. Левицкий сидел с Лебедевым в своем кабинете. Они занимались делами и тихо разговаривали. Зазвонил телефон. Левицкий с кем-то разговаривал, потом взял трубку Лебедев. «Лелик, ты зайди сюда за мной», – сказал Лебедев. Клара спросила потом: «Кто это Лелик?» Левицкий улыбнулся: «Не бойся, мой дорогой следователь, это коммунист, и даже секретарь нашего парткома. Знакомство вполне в твоем вкусе…»
На другой день Клара пошла в Контрольную комиссию.
Вспоминая те дни, Клара чувствует, что самая острая, мучительная боль рождена вечером, наступившим после посещения Контрольной комиссии. «Я знала этого человека как честного коммуниста, спасите его, пока не поздно». Так она тогда сказала. Идти прямо домой было невозможно – она пошла круговым путем, по Невскому, по набережной. Набережная была пуста. В тишине раздавались только ритмичные всплески струящейся воды и деревянный скрип баржи, покачиваемой волнами. Этот скрип напоминал о качелях времен далекого детства. Клара долго простояла, припав грудью к холодящему граниту. Она чувствовала себя бесконечно одинокой и маленькой, как в детстве. Но величавое течение Невы навевало спокойствие. Клара собрала все силы и пошла домой.
Левицкий лежал на диване и читал. Увидев его, Клара вдруг испугалась. Такого неудержимого, панического страха ей не приходилось переживать ни до, ни после того дня. «Что я наделала?!»
Он обернулся на звук ее шагов. Клара запомнила на всю жизнь его улыбку и тот нежный жест, каким он отложил книгу, чтобы протянуть ей руку.
– А Лебедев где? – спросила она резко, пересиливая страх, любовь, отчаяние, да нет – все ее чувства переплавились в тот вечер в один невыносимо тяжелый ком, навалившийся на сердце.
– А разве ты его ждешь?
– Я жду, чтобы его вывели на чистую воду. Его и его оригинальный ум.
Левицкий засмеялся несколько принужденно, но все-таки подкупающе мягко и славно. Клара была влюблена в его смех.
– Клара, детка, не сердись! Если ты не хочешь, он больше не придет…
Тогда она выпалила единым духом:
– Я была сегодня в Контрольной комиссии, я просила их заинтересоваться оригинальным умом Лебедева и твоей дружбой с ним и его друзьями…
Он поднялся одним гибким движением:
– Ты… шутишь или ты сумасшедшая?
– Я говорю правду.
Она спокойно чиркнула спичкой, закуривая папиросу, но затягивалась так глубоко, что ее легкие хрипели, задыхаясь от дыма. Она следила, как он метался по комнате, принимала как удары жесткие и презрительные звуки его погрубевшего голоса, не будучи в силах вникать в их смысл.
Потом он сел на диван и сказал расслабленно:
– Ну что же, Клара. Таков веселый финал любви. Теперь кончай – уходи. Не марай свое ортодоксальное имя близостью со мной.
Она еще пыталась объяснить:
– Я пошла, чтобы спасти тебя как коммуниста, пока не поздно… Ты не хотел слушать меня, ты не верил… Я не сумела удержать тебя сама. Партия это сделает.
Он выкрикнул зло:
– Партия! Партия! Какой-нибудь середнячок со стажем послушал тебя и ахнул: раз уж любящая жена прибежала с доносом, значит дело дрянь! И – раз! К ногтю! Нет коммуниста Левицкого! Зато Каплан отгородилась, Каплан – как стеклышко!
Он перевел дыхание и сказал почти шепотом:
– И как я не разглядел тебя сразу, как я не прогнал тебя давно с твоим глупым ханжеством? Да, да! Из-за таких, как ты, я и задыхался в партии, из-за таких, как ты, меня и тянуло к Лебедеву!..
Она стояла не дыша. Ком навалился, давил, давил…
– Уходи отсюда – ну! Поскорее, чтобы я тебя не видел, святоша с партбилетом, узколобая сектантка!
Она не ушла. Она сидела без сна на кровати, стиснув колени руками, думая, думая, думая… Временами она на минуту забывалась. Это был скорее обморок, чем сон. Ее вызвали к жизни шаги Левицкого за стеной. Он ходил взад и вперед, взад и вперед, в дверную щель была видна мелькающая тень в косом луче настольной лампы.
Она ушла утром. Товарищи по работе испугались, увидав ее желтое лицо и пустой, отсутствующий взгляд. Она хотела что-то сказать, но только вскрикнула и медленно осела на пол.
Потом была больница. Клара сидела целые сутки, свесив ноги: она не могла лечь, потому что невыносимый ком давил на сердце, когда она ложилась.
Потом была Контрольная комиссия, вызовы в ГПУ, разговоры с партследователем, снова Контрольная комиссия. Они встретились там – два врага. Он усмехнулся, когда она сказала: «Я отдаю себе полный отчет в том, что произошло. Левицкий не враг, он запутался, его запутали. Операция тяжела, но она ему на пользу. Я говорю так не потому, что я его люблю, а потому, что я его знаю».
Она его не знала. Когда его исключили из партии, она готова была роптать. Но она не роптала. Она верила. Значит, она не до конца оторвалась от своей любви. Значит, так надо. Если он коммунист, он вернется в ряды партии. Ничто не может отбросить коммуниста от его партии, если он чувствует партию своей.
Он не вернулся.
Она жила как призрак. Убитая любовь мстила ей, разрушая самую основу ее жизни – сердце. Клара взяла себя в руки и уехала лечиться. Потом она с радостью законтрактовалась на Дальний Восток. Хотелось начать все с начала в этом краю, где все ново, все рождается, где так нужны умелые руки для формовки созидаемой жизни.







