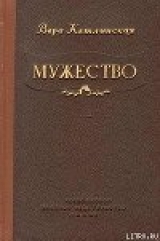
Текст книги "Мужество"
Автор книги: Вера Кетлинская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 47 страниц)
– Что, Тимка, плохо?
– Врешь, доеду! – выкрикнул Тимка и повалился на бок.
Машину вытащили, но управлять ею было некому. Тимку на руках снесли на другую машину. Он выбыл из строя.
– Придется оставить. Доедем – пошлем за нею на лыжах, – говорили ребята.
– Нельзя! – вспыхнув, сказал Епифанов. – Всю дорогу тянулись, и вдруг угробить одну машину?
Кто-то предложил буксир. Попробовали. Но буксировать машину, лишенную управления, на ледяной дороге, где требовалось непрерывно и умело направлять руль, оказалось невозможно.
Снова сгрудились для совещания шоферы.
– Делать нечего, придется оставить.
– Ну уж нет, – сказал Епифанов. – А вдруг машину угонят, тогда что?
– Да кто угонит-то? Здесь сам черт по своей воле не поедет!
– А вдруг бензин покрадут?
Шоферы молчали.
– Позор-то какой! – воскликнул Епифанов, распаляясь. – Доверили нам ценный груз, а мы его посреди Амура бросили.
– Так что же делать?
Епифанов думал, чесал затылок, шевелил бровями. Спросил:
– Колькины лыжи, кажется, остались?
Лыжи были.
– Езжайте до места, – сказал он. – Как доедете, высылайте сюда шофера.
– А ты?
– Я поведу две машины.
– Две?
– Очень просто, браточки, две. Епифанов еще нигде не пасовал и здесь не спасует. Езжайте.
Подавленный тревогой, он глядел, как вся колонна удаляется, объезжая его машину. Потом подогнал Тимкину машину на самое сухое место, подстелил брезент под колеса, чтобы они не врезались и не оседали в лед, пересел на свою и поехал. Он отъехал на километр. Колонны уже почти не было видно. И Тимкина машина казалась небольшой одинокой точкой. Он надел лыжи и побежал за оставленной машиной.
Когда он пригнал Тимкину машину к своей, колонны уже не было видно. Острая тоска охватила его – тоска и неуверенность. Он заехал на километр-полтора вперед и снова, надев лыжи, пошел обратно – за второй. Он попробовал смеяться над собой: вот так шофер, на пешем ходу! Но смеха не получалось.
Когда он снова поехал, машина завязла в талом снегу и забуксовала. Он чуть не взвыл от злости. Он громко ругался, чтобы подбодрить себя звуком голоса. Он бился с машиной минут сорок, весь измокший от пота, пока ему не удалось вывести ее из ледяного болота. Езда успокоила его, но когда пришлось снова надевать лыжи и бежать за второй машиной, силы ему изменили. Бежать он уже не мог. И лыжи помогали плохо – налипал снег, они не скользили, а затрудняли ход. Он швырнул их в машину и пошел пешком.
Тяжело волоча мокрые, в разбухших валенках ноги, он думал только об одном: выдержать! Не сдать, пока не придет подмога… Позорище – взялся и не сделал… Две машины горючего… Горючего и так в обрез… Надо дотянуть…
В середине пути он покачнулся и привалился спиной к торосу. Ноги подгибались, в глазах прыгали река и небо, черная точка машины казалась то близкой, то бесконечно далекой.
«Отдохнуть?.. Так погиб и Колька». Он вдруг очнулся с этой мыслью и понял, что заснул. Сколько времени он спал? Наверное, несколько минут.
Он пошел снова, быстрым шагом, пересиливая дрожь в ногах и во всем теле.
Начало слегка темнеть. Вспыхнул огонек на правом берегу – лесозаготовки. Значит, восемь километров, десять – не больше… Главное – не упасть, не заснуть, не сдаться… Он боролся с усталостью, уже ни о чем не думая, сосредоточив все физические и духовные силы на последовательно сменяющихся действиях: шел, вел машину, пересаживался, снова шел, снова вел машину, снова шел…
Он увидел бегущих к нему людей только тогда, когда они были совсем рядом. Он сел на крыло своей машины и тупо смотрел, как пошли за другой машиной. Потом до его сознания дошло, что рядом с ним стоит Гриша Исаков.
– А ты зачем пошел? – сказал Епифанов. – Ты же больной.
Гриша не ответил, спросил: – Замаялся?
– Ничего, – сказал Епифанов.
Они подождали вторую машину и поехали.
Встречать их сбежались товарищи, друзья, начальники. Все знали о десятидневном рейсе, о найденном трупе, о героическом поступке Епифанова.
Епифанов искал глазами Лидиньку – ее не было. Ну, конечно. Ей уже сказали. Она в слезах, она даже не захотела встретить его…
Он возился у машины, ожидая, пока ее разгрузят, чтобы отвести в гараж, но начальник гаража оказался здесь. Он пожал руку Епифанову и сказал:
– Спасибо, друг! А теперь марш домой. Я сам отведу.
Епифанов кивнул и поплелся было домой, но ему как-то трудно было идти. Что ждет его? Какова будет Лидинька? Не оттолкнет ли она его?
Его остановила Соня Исакова. Она просто обняла его, похвалила за героизм и шепнула:
– А насчет Коли ты Лиде ничего не говори. Ее теперь нельзя волновать. Я всех предупредила…
Епифанов так ничего и не понял. Почему нельзя волновать? Может быть, Лидинька больна? Ну, конечно, больна, иначе она прибежала бы встретить.
Он мчался домой, забыв усталость. А навстречу ему выскочила в одном платке на плечах Лидинька, и первое, что он увидел даже в сумерках, были ее сияющие каким-то особенным светом глаза.
Ее руки обвились вокруг его шеи, ее губы целовали его, она что-то быстро, между поцелуями, говорила, что ее почему-то не пустили, – или не сказали ей, он не расслышал, – и она прильнула к нему, к его мокрой грязной одежде. Он хотел отстранить ее, потому что почувствовал себя рядом с нею отвратительно мокрым и грязным, но у него не было сил прервать это счастье, и они вместе вошли в комнату. Он все вглядывался в нее и не мог понять: то ли она действительно по-новому светится особой, небывалой радостью, то ли ему просто кажется.
Он уже лежал в постели, обмытый, переодетый и насильно уложенный Лидинькой, когда она подсела к нему и нерешительно сказала:
– А у меня для тебя новость…
И по тому, как она вспыхнула и потупилась, а потом быстро вскинула на него вопросительные, ждущие, каким-то совсем особенным женским выражением освещенные глаза, он сразу понял и вскрикнул:
– Правда? – и уткнул в ее ладони смущенное, гордое, счастливое лицо, так что ничего уже не надо было объяснять.
30
Уже неделю на строительстве работала комиссия из пяти человек. Они прилетели на самолете и в тот же день начали изучать состояние строительства. Они облазили все объекты, вечерами обходили бараки и шалаши, беседовали с комсомольцами, вызывали к себе по очереди лучших ударников, инженеров, мастеров.
Назавтра было назначено в клубе открытое партийное собрание с участием комсомольского и инженерно-технического актива.
Вернер осунулся, посерел. Он еще не знал выводов комиссии, но обычная самоуверенность покинула его, и то, что назревало в нем с ночи, последовавшей за убийством Морозова, теперь оформилось, – он сам себя осудил и снял с должности. Он уже не чувствовал в себе силы, необходимой для руководства большим делом. Он внутренне, для себя, решил вопрос. И завтрашнее собрание пугало его только потому, что он не знал, что, как, с каким настроением будут говорить люди. Он проработал с ними свыше десяти месяцев, и вот теперь он не знал их. Среди них были хорошие и плохие исполнители, хорошие и плохие работники. Но что они думают? Как относятся к нему? Какие обвинения они выдвинут? Он не прислушивался к их голосам, а завтра они будут судить его…
Он не мог ни работать, ни отдыхать. Он рано лег спать, отменив вечерний прием, но спать тоже не мог. Утром он пошел по стройке. Он любил ее, как свое детище. Он любил маленькую смешную первую электростанцию и гордые контуры второй, еще недостроенной. Знакомые силуэты строящихся цехов. Ряды невзрачных бараков. Ряды кургузых, заметенных снегом шалашей. Трубу лесозавода, торчащую над деревьями. Далекий дымок кирпичного завода. Он живо вспомнил летнее утро, когда загудел первый гудок в тайге. Он вспомнил свои радужные мечты о том, что правительственный срок будет сокращен намного, что недалек триумф, чествование, орден… Честолюбие?
Вернер оказался около шалашей и вдруг остановился, потрясенный. В лучах раннего солнца по дорожке между шалашами тихо двигались несколько сгорбленных фигур с палочками. Они осторожно передвигали распухшие, согнутые в коленях ноги. И они смотрели на него без злости, без презрения, но и без дружелюбия. Они не здоровались и не отворачивались, а шли навстречу и мимо, постукивая палочками, шаркая валенками по талому снегу. Он узнал двоих из них: одного он видел на монтаже первой электростанции, другой был известным силачом в бригаде лесогонов. Что? Что он сможет сказать сегодня в свое оправдание?
И вот настал час собрания. Председатель комиссии сказал краткое и суровое вступительное слово.
Вернер не захотел сесть к столу президиума. Он сидел внизу, у самого помоста, подтянутый, замкнутый, с неприятно-сухим выражением лица. Он смотрел в зал на сотни лиц и не встречал ни одного дружелюбного взгляда. Напротив него, с другой стороны помоста, сидела в группе комсомольцев Клара Каплан. Она заметила его взгляд, кивнула ему головой и сочувственно улыбнулась, – улыбка оскорбила его, как признание его слабости. Потом он увидел испуганный и преданный взгляд Кочанера. Вспомнил определение Клары – «бритое ничтожество». Он сердито отвернулся от Кочанера. Как он не понимал его раньше? Он ценил в нем идеально исполнительного, безотказного работника и только сейчас понял, что Кочанер – мелкий подхалим, карьерист и стяжатель, который всегда умел выговорить себе и лишнюю зарплату, и квартиру, и премиальные, и лечебные, и подъемные.
Ему стало стыдно и страшно. Он жалел, что не сел в президиум, – может быть, там, на привычном месте, не было бы ощущения такого полного одиночества. Вон Гранатов, сидя рядом с одним из членов комиссии, переговаривается и шутит как ни в чем не бывало. «Конец этой красивой изоляции может быть печальным», – сказала тогда Клара. Это было уже очень давно. Тогда он был смел, упрям, независим, самоуверен. А сейчас он одинок, он почувствовал себя обнаженным на глазах у сотен людей. «Король гол». Пафос дистанции исчез, ореол всезнающего, всемогущего превосходства померк, и его будут судить сегодня – судить по делам, по результатам: омертвление капитала в незаконном строительстве ныне законсервированных объектов; срыв снабжения; массовые авралы на запущенных участках – лесозаготовки, транспорт; пшенная каша утром и вечером; цинготные заболевания…
Собрание было судом. И первое же выступление мастера-судостроителя из Ленинграда, уважаемого всеми Ивана Гавриловича Тимофеева – подсказало приговор. Тимофеев говорил очень спокойно и деловито только об одном – о том, как плохо и неумело готовилось руководство к скорейшему началу судостроения. И Вернеру самому стало ясно, что его честолюбивая спешка была во вред делу. Ему нечего было возразить. «Я не учел… У меня были хорошие побуждения… Я ошибался…» Об этом можно говорить жене. Какое до этого дело людям, испытывающим на своей спине последствия его ошибок? Вернер ждал, что каждое выступление будет углублять мысль Тимофеева и добивать его, Вернера. Он сидел, уперев подбородок в стиснутые руки, готовый принимать удары.
И вдруг он прислушался. То, что говорили выступающие, было для него неожиданно. Они говорили не о нем. Они говорили о себе и о стройке, о стройке и о себе.
Выступали коммунисты, комсомольцы, беспартийные. Многих он знал как рабочих-ударников, как техников и инженеров, некоторых видел впервые. Но именно они были хозяевами и говорили как хозяева. Сперва он поморщился: при чем здесь клопы и порубка деревьев на площадке, зачем уводить от основного вопроса к вопросам о бане, о плохой нормировочной работе на шестом участке, о пренебрежении инженера Слепцова к заметкам в стенгазете? Вот Гроза Морей, раскричавшись на весь зал, потребовала прекратить «салон флирта» в техническом отделе. Вернер вздрогнул и возмущенно обернулся к президиуму, где, весь бледный, сидел Круглов. Как неуместно говорить об этом сейчас, здесь, на большом собрании, при Круглове! Вернер думал, что эту неловкость замнут. Но вскоре другой оратор поддержал Грозу Морей: «Мы знаем, что это неприятно слушать Круглову, но, я думаю, лучше сказать прямо в лицо, чем шептаться за углом, – неподходящая жена у тебя, Андрюша, надо решать: или приструни ее, или делай другие выводы». И, видимо, так и надо было. Никто не вступился, все считали, что это правильно и уместно. Говорили о каком-то Сережке Смирнове, который развел вшей и не стирает своего белья. И тут же говорили о заложенных фундаментах, куда зря ухлопали средства, о плане строительства, о бюрократизме стройуправления… Большое и мелкое – все было нужно, значительно. Самокритика! Это и есть самокритика, беспощадная и одновременно дружеская, хозяйственная, заботливая. Он когда-то смеялся над остротой приятеля: «Самоеды себя не едят. Самокритики себя не критикуют». В глубине сознания он думал так же. Он никогда не придавал самокритике ее настоящего значения, пренебрежительно расценивал ее как демократическую формальность. Он всегда был уверен, что сам прекрасно все знает и понимает, что рядовые люди не могут сказать ему ничего нового, и самокритику понимал больше всего как воспитательное средство для масс, а не для руководителей. И вот теперь он впервые увидел, понял ее. Значит, он был до сих пор слеп и глух? Большинство людей, сидевших в зале, были молоды. Он привез их сюда, как папаша. Вот эта девочка, Катя Ставрова, плакала из-за подстреленного коршуна. Этот вихрастый и даже зимою веснушчатый Петя Голубенко был главарем «пиратов» на «Колумбе»; и даже теперь у него был вид не столько серьезного, сколько притворяющегося серьезным мальчика. Но как они выросли! Как они повзрослели за десять месяцев! Их руками было сделано все то, что Вернер считал своим детищем и даже (где-то в глубине своих мечтаний) своим памятником. Он не умел ни беречь их, ни использовать. Он не ценил их жизни. Но во всех трудных случаях рассчитывал на их героический энтузиазм и никогда не был обманут. А теперь они, чувствуя себя подлинными хозяевами и стройки и самого Вернера, жестоко критиковали самих себя, свою работу, свою стройку, свое управление. И он, Вернер, должен был выслушивать эту хозяйскую отповедь, и учиться у них, и понять, что именно такой самокритики, такого общения со строителями ему и не хватало, что именно такое общение могло бы уберечь от роковых ошибок.
Провал. Вот что с ним произошло. Поручили, а он провалил. Взялся – и не сумел…
Он собрал все свои силы для того, чтобы выступить спокойно и мужественно. Никто не должен был видеть, как он подавлен. Его слушали с большим вниманием и недоброжелательным интересом. Он увидел лицо шофера Епифанова и на минуту сбился с мысли – так угрюмо глядел Епифанов. Это был тот самый водолаз, который влюбленными глазами смотрел на него на первом митинге и потом гаркнул по-военному: «Есть построить палаточный лагерь!» А потом он украл кирпичи для больницы, для больных товарищей, о которых не позаботился Вернер. А потом у него дезертировал приятель, хороший механик, но слабовольный, эгоистичный человек, у которого не хватало сознательности для преодоления трудностей. А потом этот же Епифанов проделал героический рейс по талому льду и вытаскивал машины из воды, спасая горючее, думая о стройке, которую Вернер не сумел заблаговременно обеспечить горючим, мукой, мясом. А теперь он ждал рождения ребенка; и его жене, белокурому стрелковому инструктору, негде будет рожать, так как Вернер не позаботился о родильном отделении, и у ребенка не будет молока, так как Вернер не позаботился о молочном хозяйстве. А вон там сидит Тоня Васяева, одна из лучших комсомолок. Она сидит в пальто, чтобы скрыть свой беременный живот, и лицо ее истомлено беременностью и сверхурочной работой в больнице, которую Вернер не сумел обеспечить ни достаточным помещением, ни штатом, ни медикаментами…
Он сам громогласно подписался под приговором, прочитанным в их глазах, и даже не заметил, как все удивились, – только его слова открыли им, что начальника строительства надо сменить, что Вернер должен быть снят.
Он в последний раз почувствовал свою силу, когда сумел очень ясно и коротко рассказать, что надо делать для исправления ошибок, как надо направить теперь строительство.
– Это мог бы сделать и я, поскольку я хорошо понимаю, в чем ошибки и как их исправить, – сказал он жестким, ровным голосом. – Но для пользы дела лучше будет, чтобы пришел новый, свежий работник, не запятнанный ошибками, авторитетный для всех нас. Я многому научился сегодня, но научился поздно.
Он спустился с трибуны и снова сел. Его речь произвела неприятное впечатление. Искренность была скрыта жестким, властным голосом, а его манера держаться и говорить отталкивала.
Он хотел уйти, но ему было интересно, что будут еще говорить. Он поглядел на Клару – она поняла его, он видел. В ее глазах светилась сердечность и немного торжества.
Закрыв глаза, он слушал ее низкий, неровный от возбуждения, слегка задыхающийся голос:
– Мы знаем, что большевистский стиль работы – прежде всего в умении вести за собою массы, опираться на массы, заботиться о них. Если человек отрывается – ничего хорошего у него не выйдет. И чем сильнее и умнее человек, тем глубже и серьезней он должен работать с людьми, тем больше с него спрашивается. И второе – тем нужнее ему опора на массу, на коллектив. Потому что нет хуже положения, чем положение сильного человека, который остается один, когда вокруг него, за ним – пустота. Вернер этого не понял, и за ним образовалась пустота. Но пустота всегда чем-нибудь заполняется. И ее заполнили подхалимы типа Кочанера – да, да, Кочанер, можешь дергаться, я говорю то, что есть. И такие Кочанеры, глядя в глаза своему всесильному хозяину, по-хамски разговаривают с рабочими, оперативность подменяют суетой, требовательность – бюрократизмом, и массы людей, обращаясь в контору, судят о ней не по Вернеру, а по Кочанеру, так как попадают к Кочанеру чаще, чем к Вернеру.
В зале неожиданно вспыхнули аплодисменты. Клара свободно рассмеялась.
– Вот видишь, товарищ Вернер, что у тебя получилось. Кочанер заслонил Вернера. А получилось это потому, что Вернер понадеялся на себя и забыл, что наши партийные задачи в одиночку выполнять невозможно. Его собственное «я» вытеснило в его сознании «мы». А тот, кто зазнается, кто влюбляется в самого себя, кто забывает о других ради своего честолюбия, – тот неизбежно оказывается изолированным, одиноким и – хуже того – отсталым человеком. А этой отсталостью пользуются не только бюрократы, а будем говорить прямо: этой отсталостью пользуются наши враги.
Было уже поздно, когда Вернер вышел к Амуру. После душной и напряженной тесноты зала Амур освежил свободной массой холодного, свежего воздуха. Трещал лед. Привыкнув к темноте, Вернер стал различать медленное движение взломанного, вздыбленного льда. Льдины, как живые существа, лезли вперед и вставали дыбом, наполняя весь простор реки треском и скрежетом. Ледоход уже начался где-то дальше, выше по реке, и лед напирал, давил, подгонял еще не тронувшиеся поля. Непривычно сутулясь, засунув руки глубоко в карманы кожаного пальто, Вернер шагал по берегу, глядя кругом с грустным вниманием.
Сколько раз он проходил здесь упругой, четкой походкой, каждым движением тела ощущая силу, уверенность и прочность всей организации своей жизни! Именно – организации. Он привык (и любил в себе эту привычку) подчинять обдуманному плану и твердым принципам свою жизнь. Утренняя прогулка была зарядкой здоровья, подготовкой нервов и мозга к рабочему дню. Вечером он тоже всегда возвращался домой пешком, не спеша – освежение головы, подготовка здорового, крепкого сна. Он не позволял себе опаздывать на работу, ограничивал часы заседаний и разговоров, запрещал курить в кабинете, вводил во всем порядок и четкость – гигиена труда, охрана нервов и мозга. Никто из сотрудников не видел его раздраженным или взволнованным: раздражение и волнение – элементы эмоциональные, а эмоциям не место в работе. Они подавлялись им, загонялись внутрь. Он умел тренировать свои нервы и добился того, что во всех трудных случаях владел собою и демонстрировал выдержку и бесстрастность. Сознание своего превосходства и демонстрирование его казались ему неизбежными и нужными. Не полубог, нет! не сверхчеловек, нет! – но руководитель, на голову выше других, авторитет безусловный и непоколебимый.
Что же случилось? Он слишком поверил в себя? Он отдался честолюбию? Забыл о самокритике?
Вернер привычно чуть-чуть усмехнулся, но усмешка была неискренняя. Да, самокритика. Вот она какая – беспощадная и хозяйственная, жестокая и заботливая. Он считал себя хозяином, но хозяевами оказались они – эти Пети, Кати, Андрюши, Сережки.
«Отрыв от масс». Ему никогда не приходило в голову, что они, эти люди, так важны и необходимы лично для него. А сегодня они его учили. Учили так, как Каплан, объясняя ему его же ошибки, и так, как большинство, – забыв о нем ради вопросов сегодняшней борьбы, которую они поведут уже без него.
– Вернер, подождите!
Он с удивлением увидел Клару. Она взяла его под руку, и они пошли рядом, не разговаривая.
Он попробовал заговорить.
– Не надо, – сказала она, – отдохнем. Неужели нельзя просто помолчать, подышать ветром с Амура, подумать о будущем?
Они шли под руку молча, каждый со своими мыслями. Расставаясь у лестницы в темном коридоре, он снова хотел заговорить.
– Не надо, Вернер, – почти умоляющим голосом остановила его Клара. – Сейчас еще рано говорить, Подумайте еще. Я так хочу, чтобы вы поняли до конца.
– Я уже понял, – просто сказал он.
– Я так хочу вам добра и успеха, – быстро сказала она и ушла.
Ее суровая дружба не могла вытеснить горечи краха, пережитого им. Но она смягчила горечь, как глоток воды.







