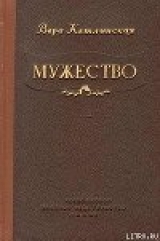
Текст книги "Мужество"
Автор книги: Вера Кетлинская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 47 страниц)
10
Начиная редактировать газету, Гриша Исаков еще не представлял себе, чем станет для него газета. Он только радовался – вот когда можно будет писать стихи!
Но писал он очень мало. Были недели и даже месяцы, когда он не писал ни строчки. Стихи бродили в нем, не выходя наружу. Мелькнет строфа, рифма, несколько стихотворных мыслей – он не давал им оформиться. Его поэтический опыт помогал ему писать прозу – его статьи были лаконичны, ясны. Он умел ценить слово и строчку. В прозе, как и в стихе, он не допускал пустых мест. Но статьи, которые он обдумывал ночами, повышали его требования к стихам. Редактор газеты направлял поэта. Кипучая, требовательная жизнь говорила с поэтом полным голосом. Этому упрямому голосу вторил другой, громовый голос поэтического руководителя – голос Маяковского. «В наше время тот – поэт, тот – писатель, кто полезен». Из прошлого звучал третий голос: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».
Гриша всегда жил жизнью своего народа, своего коллектива. Но, мечтатель, он нередко скользил над событиями, над людьми, воспринимая их сквозь мечтательную, лирическую задумчивость. Он часто видел жизнь не такой, как она есть, а такой, какой хотел ее видеть. Газета – литературная практика, черновая работа поэзии – заставила его спуститься к самой низкой реальности, войти в нее, разобраться в ней, понюхать и хорошие и дурные запахи, увидеть и солнце и мрак. Тогда он понял, что «жизнь как она есть» сложней и прекрасней его выдумок. Противоречивее и многограннее люди. Сложнее события. Глубже процессы изменения и развития. Что же он писал до сих пор? Все чепуха, вздор, пустяки, побрякушки!
Он вмешивался и созидал жизнь, и жизнь предъявляла требования – писать остро, глубоко, бить в цель, доходить до масс, действовать. Не только жизнь – он сам, один из ее творцов, диктовал эти требования самому себе.
А писать он не мог. Разучился. Не получалось того, что хотелось. Писать же такие стихи, как прежде, было уже стыдно…
Секретарь горкома партии Готовцев упрекнул его:
– Заленился ты, Исаков. Что бы дать на развороте стишки – всю газету украсило бы!
– Я не могу, – удрученно сказал Гриша. – Понимаешь, стихи должны жечь, переворачивать, бить, а у меня не выходит.
– А ты не жги, не переворачивай. Тебя ведь никто Пушкиным не считает. А что за газета без стихов?
Готовцев не понимал. Гриша не обижался, он знал, что он не Пушкин, но он вспоминал Морозова – Морозов понял бы. Писать стишки для украшения он не мог и не хотел.
– Я бездарен, – говорил он Соне. – Все, что я написал, никому не нужно!
– Спроси об этом Мотьку Знайде, – спокойно отвечала Соня. – Кто вернул его с пристани, если не твои стихи?
– Да, но это единственное поэтическое дело моей жизни, которое имело смысл.
Он преувеличивал, но мысли его были правильны. Сознание шло дальше его умения. Он хотел того, чего еще не мог осуществить. Но в этот период газетной работы и стихового затишья в нем зрели новые силы.
Ощущение сегодняшнего было в нем всегда. Газета доводила это ощущение до предельной остроты. Он был в центре всего и должен был не только откликаться на все, но чуять назревающие события, угадывать, вызывать к жизни новые процессы. Он думал: разве не это – задача поэта? Разве поэтическая мысль не должна устремляться вперед, так же как мысль политика, чтобы понять будущее и бороться за него?
Он узнал напряжение боевой готовности. Страна жила мирным трудом, спокойно спала, просыпалась веселой и деловой. А на границе вспыхивали выстрелы, под пулями падали люди, взлетали боевые самолеты. Это не было войной. Это называлось «пограничный конфликт». Но в тех пунктах, где бьется пульс страны, тень войны проходила по лицам, делая их строже и старше, придавала словам суровую четкость. Здесь не спали, ожидая приказа, известий. Здесь концентрировалась боевая готовность. Редакция газеты была одним из пунктов готовности.
А поэт? Разве поэт – не тот же часовой страны? Разве его слово не должно звучать в ту минуту, когда винтовки взяты на изготовку и не спят штабы?.. Если он не найдет нужного слова, он жалок, он пуст.
Андрей Круглов показал Грише начатую в отпуске хронику и поделился своим неосуществленным желанием показать становление новой психологии.
– Да, да, вот что нужно! – воскликнул Гриша. – Показать и подгонять это становление. Если не суметь этого, зачем писать?
– Мало наблюдать и описывать новые явления, – говорил он Соне, – надо вызывать их, подгонять, торопить. Кто этого не может, тот не поэт своей эпохи, как бы талантлив он ни был!
В другой раз он сказал ей:
– Чем быть плохим поэтом, буду лучше хорошим газетчиком.
Соня не возражала, она знала, что он лжет самому себе, что новые стихи, когда он начнет писать снова, будут лучше прежних.
Смерть Кирова оглушила его. Он долго не верил в нее. Даже тогда, когда траурные полосы газеты выходили из печатной машины, он все еще не верил, что Сергея Кирова нет в живых. Никто не хотел верить. Страна отвыкла от горя. Страна была счастлива и – в счастье – доверчива. Как хороший человек никогда до конца не понимает подлости, так и коллектив страны, увлеченный созиданием нового строя, хотя и знал, но не мог постигнуть то, что вот тут, рядом, под личиной друга копошится такой враг, что есть люди (не где-то, а вот здесь, близко), которым ненавистно то, что для коллектива свято и любимо.
Еще не были ясны размеры чудовищного зла. Но первый болезненный удар был нанесен. Удар поразил одного из самых светлых людей страны и рикошетом поразил каждого, кто вчера беспечно улыбался и спокойно работал.
Поздно ночью Гриша сел писать стихи. Он еще не знал, что напишет. Но взволнованное напряжение всех чувств должно было вылиться в стихи и закричать на весь город, на всю страну о бессмертной живучести большевика, о неумирающей силе большевистского дела, которая опрокинет любые замыслы врага, о силе, которая живет в рекорде Бессонова, в бетонных колоннах эллинга, в будущем корабле, в каждом из нас.
Творческая мысль уцепилась за подсказанный жизнью образ – сквозь одетую в траур страну идет живое письмо к живому, к вечно живому.
На рассвете он разбудил Соню:
– Родная, послушай. Или я ничего не понимаю, или это лучшее, что я написал в жизни.
После этого взлета он снова долго молчал. Но теперь он уже знал, что будет писать, и только ждал с медлительностью человека, накапливающего силы для решающей схватки. Схватка предстояла с самой жизнью, он должен был овладеть ею и повести ее за собой. Так учил Маяковский: «Вперед забегайте, не боясь суда. Зовите рукой с грядущих кряжей: пролетарий, сюда!» Он бросился в гущу жизни, стал в центре ее как строитель, как газетчик, как поэт. Он учился у нее, чтобы потом учить и менять ее самое.
Жизнь Нового города развивалась стремительно. Работал завод – еще недостроенный, еще в черновом виде, но уже завод. Судостроители начали сборку первого корабля. Город определился – улицы, дома, районы. Новые кварталы оттеснили бараки, смели шалаши. Люди выросли, много учились и работали с азартом. «Правительственный срок будет выдержан!» Это был лозунг, впитавшийся в быт всего коллектива строителей. Это было частью большого созидательного движения, охватившего всю страну. Из глубин этого движения родилась новая, высшая форма. Она носила имя донецкого забойщика Стаханова, в течение месяца ставшего самым популярным работником страны. Оказалось, что пример Стаханова разбудил, вызвал к жизни массовое явление, уже назревшее в передовых слоях рабочего класса. Желание, соединенное со знанием и умением, было основой этого явления.
В Новом городе прогремело имя стахановца Валентина Бессонова. То, что он осуществил с бригадой год назад, стало теперь не одиночным рекордом, а системой работы. «Организация, подготовка, умение – вот и весь секрет!» – заявил Валька.
Гриша хорошо понимал побуждения Вальки: для Вальки город и завод были родным, кровным делом, труд веселил его, а трудовая слава вдохновляла. Он был первым стахановцем, иначе и быть не могло. Но тут появилась новая стахановская бригада Тимченко, она перекрыла производительность Вальки Бессонова. Тимченко стал героем дня.
Гриша с интересом наблюдал, что переживает Бессонов, лишенный первенства. Валька удивился и через два дня перекрыл показатели Тимченко. На следующий день Тимченко снова вырвался вперед. Валька сказал: «Вот черти!» – и оставил его позади. Гриша освещал в газете ход соревнования и наблюдал. Жизнь преподнесла ему неожиданность: он вдруг заметил, что Бессонов и Тимченко подружились. «Моя хватка!» – говорил Валька, «Ничего работают!» – с огоньком в глазах признавал Тимченко. Они поддразнивали друг друга, ни за что не хотели уступать один другому, но их все чаще видели вместе. Гриша думал: вот таких отношений не выдумаешь, их надо открыть и понять. И как все просто. Слава одного не мешает славе другого – жизнь просторна, работы хватит на всех, только двигай, только поторапливай, только душу вложи, а результат нужен всем и для всех дорог.
Работали не только руки – работали головы. Пытливая мысль, рабочая смекалка, подкрепленные накопленными техническими знаниями, освещали трудовой опыт и создавали новый, еще небывалый.
Петя Голубенко, бригадир плотников на доках, придумал новый и на редкость простой способ поднимать опалубку колонн. Стахановская семья Чумакова – Савеловой изменила процесс бетонирования.
Сергей Голицын, работавший каменщиком на ударной стройке, ввел новую систему кладки стен. Он делал на общегородском собрании каменщиков доклад и написал статью «Моя система кладки».
Гриша с жадным любопытством приглядывался к стахановцам. Что двигало ими? Может быть, тщеславие, корысть, жажда выдвинуться? Нет. Это был социализм в действии, социализм, вошедший в быт и сознание. Огромная сила социалистического притяжения неудержимо влекла людей на трудовые подвиги, и если были у каждого человека свои побочные, личные побуждения, элементы тщеславия, корысти, карьеризма – эти чувства перерабатывались, оттирались, вытеснялись основным характером движения, поднявшего в людях умное и творческое отношение к труду, гордость своим ремеслом, чувство собственного достоинства, радость свободного развития и благодарность своей родине.
Но в жизнь вкралась тревога. Счастье живых дел, молодость обновленного мира – и наряду с этой радостью почти физическое ощущение близости затаившегося врага. Какие-то неуловимые руки вызывали непонятные аварии, резали пожарные шланги, портили оборудование, вредили исподтишка.
«Как все сложнее и глубже, чем мы себе представляли, – думал Гриша, вспоминая беспечную радость, с какою они все, комсомольцы, ехали сюда. – „Прекрасное содружество упорства и мечты“… Да, это так. Оно есть. Но враги впились шипами в наше содружество. Кто? Кто враг? Где?»
Грише очень не хватало Морозова. Готовцев не мог удовлетворить его. Это был спокойный, слишком спокойный человек. Он не вносил в работу жара душевного, был расплывчат, нерешителен, по каждому вопросу искал директивы сверху, а если директивы не было, приходил в смятение от всякого смелого начинания.
– Ты знаешь, – говорил Гриша Круглову, – даже когда я пощипываю его в газете, он не огорчается, потому что есть директива о самокритике.
С Кругловым Гриша дружил. Круглов понимал его творческие дерзания, наталкивал его на новые мысли. Он понемногу писал свою хронику и говорил Грише:
– Если суметь показать становление новой психологии, то можно было бы предсказать появление стахановцев. Они должны бы получиться в моей хронике как естественный вывод.
– И в моих стихах, – добавлял Гриша.
В его голове зрел замысел целого цикла стихов «Книга нового человека». Но теперь ему было действительно некогда. Приближался правительственный срок. Сборка первого корабля вступила в самый ответственный период. Вчера под кораблем нашли бочку с горючим. Сегодня покосилась набок ряжевая набережная, и оказалось, что заиленное дно под нею не было расчищено. Кто-то испортил пожарную сигнализацию. Напряжение коллектива строителей дошло до предела. Кто? Кто? Газета искала, влезала во все детали, звала к бдительности. Никогда еще не приходилось Грише так горячо работать и так много думать. Он привлек в газету новых людей, которым верил, которые были смелы и внимательны. У него стала сотрудничать Тоня Васяева. Тоня писала плохо, но вносила в работу бесстрашие и пылкость, у нее был пристальный взгляд. Она хорошо умела привлекать в газету новых рабкоров. Поговорив с нею, каждый понимал, что он отвечает за стройку, за корабль, за неразоблаченного врага. «Кто? Кто?» – спрашивал себя каждый.
Гриша не успевал писать стихи.
– Какие уж тут стихи! – сказал ему как-то Готовцев. – Такое время…
Гриша и сам на минуту согласился: «Да, не до стихов. Мало сейчас стихов». «Впрочем, может, это и не нужно», – вспомнил он строку Маяковского. Но, вспомнив всю поэзию Маяковского, возмутился и против этой строки и против своей мысли. Не нужно? Стихи ненужны? Он старался охватить всю жизнь и найти в ней место стиха. Каково оно? Стоит ли вкладывать в стихи свою душу и силы?
У него росла дочь. Он много размышлял и обсуждал с Соней, как воспитать ее умной, чудесной женщиной, как создать из нее настоящего человека с большими чувствами и мыслями, чтобы она вошла в «коммунистическое далеко» созидателем этого строя.
Он следил за тем, как Тоня и Сема воспитывали своего Володю. У них тоже были жгучие мечты о будущем мальчика. Они закаляли его тело и прививали ему бесстрашие, упорство, силу воли. Сема вдохновлял его рассказами о героических людях и подвигах; казалось, он больше всего хочет, чтобы мальчик выбрал какую-нибудь самую опасную профессию: стратонавта, исследователя действующих вулканов.
Гриша хотел, чтобы его дочь любила стихи. Может быть, она будет той первой женщиной, которая войдет в литературу как равная великим, и голос ее, чуждый ахматовской любовной истоме, зазвучит как голос большого поэта своей эпохи? Женщины еще не поднимались до самых высот литературы. Но с развитием социалистического общества женщина будет подниматься все выше во всех областях, ибо не только ее быт, но и ее психология очистится от плесени рабства, от рабского бессилия и робости. И тогда таланты не будут глохнуть в обреченности женской судьбы.
Дочь должна быть такой женщиной.
Но на чем воспитать ее? Где книги, открывающие глаза на жизнь во всей ее сложности, на жизнь, которая сегодня иная, чем вчера, а завтра будет еще иной, лучшей! Где эти стихи? Их мало. А они так нужны!
Разве слащавые романы Чарской не создали поколение дур? Разве Вертеры и Чайльд Гарольды не расплодились по свету? Какие-нибудь унылые строчки: «Вы, баловни судьбы, слепые дети счастья» – с детства западали в душу, воспитывая представления. Озорная песенка «Шел я верхом, шел я низом, у милашки дом с карнизом» отдавалась в уме подростка целой программой отношений к женщине, к жизни. Гриша помнил, как зажгли его воображение слова песни «Не ходил с кистенем…» И разве сейчас Корчагин-Островский не вошел в нашу среду как товарищ, при котором стыдно поступать мелочно и трусливо, стыдно не отдавать свои силы без остатка борьбе за коммунизм!
Да, вот что надо делать! Вот это и есть – инженер человеческих душ. Какое точное определение! Но для того, чтобы стать таким инженером-человекотворцем, как много надо!
«А я еще никакой писатель, – думал Гриша. – Я не создал ничего значительного. Ну что же! Будущее за мною. Надо сперва самому стать значительным, чтобы было что сказать. А для этого – глубже, глубже в жизнь. Строителем, газетчиком, оратором, чекистом – глубже в жизнь. Меня интересует все, я залезаю везде, я хочу видеть все – и действовать. Не только наблюдать, но действовать. В действии рождается новый человек, в борьбе, в дерзании».
Он потерял робость. Он много писал – и статей, и заметок, и стихов. Он не боялся черновой работы, лозунга, рифмованной шутки, подписи под рисунком. Однажды он напечатал рисунок с подписью:
Вглядись, товарищ, зорким взглядом:
Не действует ли враг с тобою рядом?
Он сочинил подпись в одну минуту и немного стыдился печатать ее. На следующий вечер к нему на дом пришел инженер Костько. Костько был бледен, возбужден, расстроен. Он ткнул пальцем в Гришину подпись:
– Я страшно колебался, а сегодня подумал, что нельзя… У меня страшное, ужасное сомнение… Если бы я имел факты… Но я все-таки поделюсь с вами… У меня кошмарное подозрение… Видите ли, инженер Путин…
Гриша не спал всю ночь от счастья. Что, стихи не нужны? В такое время не до стихов?.. Нет, в такой напряженный момент опускаются руки лишь у тех, кто жмется в сторонке, пропуская мимо бурлящую жизнь! А у того, кто смело бросается в гущу событий, у того все острее мысль, все полнее чувство, все настоятельнее потребность писать. В эти дни Гриша начал свою «Книгу нового человека».
11
Снова настала весна. Бодрящий ветер носился над котловиной, где вырос город – ее город. Клара Каплан ощущала весну всем сердцем, всем телом, всеми порами кожи. Как хорошо жить! Как неутомимы тело и мозг!
Она была очень занята. Работы архитектора было совсем недостаточно для ее энергии. Она работала еще и в горсовете. К ней пришел Тарас Ильич. Длинный, худой, веселый, он сказал ей:
– Барышня, дорогая… Я ведь когда-то хороший садовник был. Возьмите меня к цветам поближе.
Они вместе создавали оранжерею. Клара не побоялась послать Тараса Ильича с большой суммой денег в командировку за семенами и рассадой. В свободные минуты она помогала ему ходить за цветами. В парном тепле стеклянных галерей они беседовали неторопливо и рассудительно.
– Ведь это какой круг жизни, – говорил Тарас Ильич, – с этого начал, и вот вернулся к начальной точке.
– Да разве это то же самое? – отвечала Клара. – Теперь вы в своей стране: и город ваш и цветы ваши, свои.
Он срезал ей самые лучшие, самые душистые цветы.
Горком партии прикрепил ее к стапельной площадке. Здесь она проводила добрую половину суток. Вся партийная организация, все старые комсомольцы так или иначе участвовали в сборке первого корабля. Начальником площадки был Гранатов. На всех участках были расставлены самые надежные, самые проверенные люди. Сема Альтшулер ведал спецчастью и хранил чертежи. Андрей Круглов, выдержав крупные споры с Готовцевым, вернулся на производство и монтировал электрооборудование. В комсомольском комитете его заменяла Тоня, которая успевала работать в комсомоле, сотрудничать в газете и руководить больницей. Тоня тоже постоянно бывала на стапельной. Мастером сборки был Иван Гаврилович Тимофеев; его жена, все еще сохранявшая кличку Гроза Морей, ведала столовой для ударников. Ударниками были все.
Клара вела на стапельной партийно-воспитательную работу. Ощущение близости притаившегося врага не покидало ее ни на минуту; ее целью было привить это чувство каждому рабочему. Она проводила летучки, беседы, разговаривала с каждым человеком в отдельности. Она залезала во все уголки корабля, во все подсобные цехи. Заметив упущение, не отступала, пока упущение не исправляли.
«Первый корабль будет спущен в срок», – говорили строители.
А враг был вблизи.
Под стапелем лежала бочка с горючим. Кто закатил ее сюда? Как? Клара наткнулась на нее во время очередного обхода участков. Клара позвала рабочих, охрану. Но к ней уже бежали Гранатов и Сема Альтшулер. Оказалось, что беспартийный разнорабочий Сазонов заметил подозрительную бочку и побежал сообщить о ней. Клара была возмущена очевидностью враждебного замысла. Но в то же время глубоко обрадовалась. Сазонов был еще недавно аполитичным, малограмотным человеком. Она много беседовала с ним; его настороженность была результатом воздействия коллектива и лично ее, Клары.
Через несколько дней в одном из отсеков корабля вспыхнуло ведро с бензином. Работавший здесь Епифанов набросил на ведро брезент и сам придавил его всем телом. Пожар был прекращен в зародыше. Епифанов отделался легкими ожогами. Но кто оставил здесь бензин? Как попал огонь на бензин?
Подозрение пало на клепальщика Нефедова. У него нашли спички и паклю в кармане. Нефедов с возмущением и обидой отрицал свою вину. Многие рабочие возмущались тоже. Нефедов был тихий, замкнутый человек, работал ударно, не имея замечаний. Но через две недели выяснилось, что Нефедов совсем не таков, каким казался. Уволенный с Николаевского завода и исключенный из партии как троцкист, он сумел скрыть свое прошлое и пробрался на самый ответственный участок ответственной стройки. Следствие продолжалось.
Клара много беседовала с рабочими о Нефедове. Она сама многому научилась на этом примере. Как мало мы знаем, изучаем людей! Как мы доверчивы! Она сама не раз проходила мимо тихого, замкнутого клепальщика и ни разу не поинтересовалась, кто он и откуда, не присмотрелась к нему.
Разоблачение Нефедова всколыхнуло весь коллектив. Строители корабля работали в напряжении, спаянно, очень дружно, но дружба не исключала, а увеличивала настороженность – каждый человек был на глазах у всего коллектива.
Клара приходила домой только ночью. Она сбрасывала туфли с онемевших ног, расстегивала ворот спецовки, в одних чулках подходила к окну. В распахнутое окно врывался весенний ветер. Ветер шевелил цветы и письма на столе. Клара вдыхала влажный ветер и пряный запах цветов, усталой рукой вынимала из конверта очередное письмо Вернера.
«Вчера я собрал лучших рабочих завода и выслушал все их замечания и соображения о работе завода, Я вспомнил Вас, Клара. Как полезен и суров оказался Ваш урок! Я работаю теперь совсем иными методами, и я беру на себя смелость признать, несмотря на свой опыт и стаж, что только теперь становлюсь настоящим большевиком…»
Она усмехнулась: «беру на себя смелость признать…» Ее щеки и глаза горели.
«Дорогая, Вы из породы тех людей, которые требуют от каждого максимум возможного и сами дают сверх своих сил…»
Он переоценивал. Да нет, она и впрямь из этой породы, но в этом нет особой заслуги: она большевик, вот и все. Может ли большевик работать иначе?
Она откладывала письма и ложилась в постель; ветер путал ее волосы, освежал разгоряченное лицо.
Замуж? Она знала, что Вернер очень сильно хочет этого. На первый же намек она ответила решительно, беспрекословно. Она будет здесь до конца, она построит город, а там – посмотрим. Придет отпуск – проведем его вместе. А пока… какую отраду дают его письма! Как хорошо чувствовать через десять тысяч километров его восторженную преданность.
Простая любовная песенка сочилась сквозь стену. Песенка заполнила комнату, ее подхватил ветер и закружил над Амуром. И стало так грустно… Баба! Баба! Томишься?.. Захотелось любви и ласки?.. Нет, для любви нужно очень много. Нужно знать человека как самого себя, верить человеку как самому себе. Нет, Вернер, нет! Проверим себя временем, посмотрим, что каждый из нас сделает. А главное, сперва – город. Сперва – первый корабль… Она засыпала.
В выходной день, повалявшись с книгой в постели, она медленно одевалась и, сидя у окна, ждала Васюту. Васюту как ударника свободно выпускали из лагеря.
Гранатов ревниво спрашивал:
– Что за белокурый красавец допущен к вашей строгости?
– Красавец здесь ни при чем, Гранатов. Научитесь видеть во мне не только женщину.
Гранатов резко ответил:
– Я и так начинаю сомневаться, женщина ли вы.
Он злился. Но что же делать? С тех пор как они вместе работают на стапельной площадке, встречаться приходится очень часто, и Гранатов снова настойчиво добивается любви и дружбы. Но если не лежит к нему сердце?
Васюта приходил, строго отводя глаза, очень почтительный. В первый раз он стеснялся сесть, стеснялся подать руку. Клара быстро приучила его. Они устремлялись мыслями в его будущее: он должен был забыть, что он еще заключенный. Она учила его рисовать, показывала ему журналы, давала книги. Он занимался в лагере на общеобразовательных курсах, и Клара помогала ему разбираться в трудностях алгебры и геометрии. Васюта был умен и талантлив. Клара наслаждалась его быстрым духовным ростом, его неудержимой жадностью к познанию нового.
В последний выходной день мая Клара, как всегда, занималась с Васютой. Солнце пригревало уже по-летнему. Окно было раскрыто, широкий разлив Амура нежно голубел и золотился на солнце.
– Хорошо! – сказал Васюта, задерживаясь у окна.
– Что?
– Вот это все… и вот вы… ну, да все…
Она вышла проводить его на крыльцо. У Гранатова играл патефон. Клара была довольна, что музыка заглушает голоса и шаги. У Гранатова была несносная привычка выглядывать в дверь, это смущало Васюту.
Васюта уходил, оборачиваясь, чтобы еще раз улыбнуться Кларе. Белый чуб развевался по ветру, загорелое лицо было здорово и ясно. «Если он станет полезным, хорошим человеком, – думала Клара, провожая его взглядом, – в этом будет доля и моего влияния».
После солнечного блеска в коридоре показалось совсем темно. В этой темноте совсем рядом с нею кто-то вполголоса позвал:
– Клара!
Чьи-то руки схватили ее. Она все еще ничего не видела, но сразу узнала голос, прикосновение.
– Как вы смеете!
Она толкнула свою дверь, чтобы не оставаться с ним в темноте. Но Левицкий бросился в комнату, увлекая Клару за собой, притворил дверь, умоляющим движением протянул руки:
– Клара! Выслушай. Я должен поговорить с тобой. Только выслушай. Неужели это так много?!
Сердце сжалось, дернулось, замерло. От слабости задрожали ноги. Она прислонилась к стене, чтобы устоять на ногах. Ее голос сказал:
– Мне не о чем с вами говорить. Уходите!
– Клара, но это жестоко… Я столько пережил… Я хочу, чтобы ты знала…
– Не мучай меня! – крикнула она и распахнула дверь. – Я не желаю ничего знать, не желаю вспоминать, не желаю помнить, что вы существуете. И как посмели вы прийти? Уходите, или я позову на помощь!
Он подчинился. Гранатов стоял в дверях своей комнаты. Он мог видеть бледное лицо Клары и согнувшуюся фигуру Левицкого, пробежавшего к выходу.
Клара закрыла за Левицким засов, безмолвно прошла мимо Гранатова к себе, заперла дверь на ключ. Как он посмел прийти? Зачем он пришел? Кто сказал ему адрес? Какая наглость!.. Но из-за этого не стоит волноваться. Не надо думать… Да, так что я хотела делать? Какой летний искристый день! «Хорошо…» Так, кажется, сказал Васюта?
Она взяла книгу, чтобы отвлечься чтением, хотела придвинуть кресло к окну, но вместо этого только обхватила его руками и припала к холодной коже, сгибаясь от невыносимой боли в сердце.







