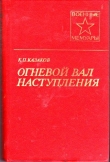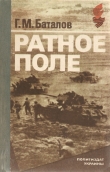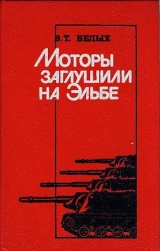
Текст книги "Моторы заглушили на Эльбе"
Автор книги: Василий Белых
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
– И правильно. Это я так, к примеру, – сказал комполка. – В бою случаются всякие сложные, непредвиденные ситуации. Пошли, скажем, стрелки в атаку, а мы, самоходчики, поддерживаем их огнем. Противник подбил самоходку, она остановилась. Тем временем пулемет противника прижал стрелков к земле. Тут бы ударить из пушки, да экипаж вышел из строя, один механик-водитель невредим. Не сидеть же ему в таком случае сложа руки и смотреть, как гибнут пехотинцы. Вот тут и пригодится его умение работать у исправного орудия.
Вопрос, затронутый на собрании, волновал коммунистов не только боевых подразделений, но и ремонтного, транспортного взводов, взводов боепитания, управления.
В конце концов единодушно решили разработать конкретный план занятий по обеспечению взаимозаменяемости. Коммунистов и комсомольцев собрание обязало овладеть двумя-тремя смежными специальностями.
Однажды утром, просмотрев газеты и журналы, я направился в штаб полка. Навстречу мне по тропинке, ведущей к штабу, шел какой-то офицер.
– Емельянов! Ты?!
– Так точно, товарищ майор. Прямиком из госпиталя.
– А повернись-ка, братец, кругом. Теперь оглянись на меня. Вылечили, значит. Можешь смотреть во все стороны!. «Поворотный механизм» в порядке!
Мы оба радостно рассмеялись.
– Вам, товарищ майор, большой привет от Людмилы.
– Спасибо, дорогой. Пойдем к нам в палатку. Расскажешь обо всем по порядку, потом в батерею – там тебя заждались.
Узнав о возвращении Емельянова из госпиталя, пришел наш добрый товарищ капитан Р. Р. Романов – уполномоченный особого отдела 25-го стрелкового корпуса. Поговорить нам было о чем, но Емельянов рвался к своим бойцам. Когда мы подошли к батарее, навстречу выбежал взволнованный и радостный заместитель командира батареи по техчасти лейтенант А. З. Лерман:
– Товарищ майор, разрешите доложить старшему лейтенанту!
– Здоровайтесь, потом доложите, – ответил я.
Боевые друзья расцеловались. Комбата тут же окружили бойцы. Каждый хотел пожать руку своему командиру.
Бойцы наперебой делились с командиром новостями. И по всему было, видно, что они рады ему, как бывают рады после долгой разлуки близкие люди.
Каждое утро и вечер мы с Пузановым включали походный радиоприемник, слушали сводки Совинформбюро, последние известия, записывали их, Даша перепечатывала наши записи на машинке. Выбирали, естественно, самое главное из событий в стране, на фронте, за рубежом. Записи мы использовали в своей повседневной работе в подразделениях.
21 июня 1944 года слушали сообщение Совинформбюро «Три года Отечественной войны Советского Союза». У приемника собрались политработники, офицеры штаба. Назавтра получили газеты, в которых было опубликовано это сообщение. Читали бойцам в перерывах между занятиями. Вечером в батареях провели собрания, на которых выступили заместители командира и парторг полка. К этому документу в полку проявляли огромный интерес и рядовые, и офицеры. Все чувствовали приближение важных событий и как бы проверяли себя – готовы ли к боям? Партия звала на новые подвиги на завершающем этапе войны во имя полного разгрома врага, освобождения советской земли и народов Европы от фашистского ига.
В один из дней, утром, командир полка сообщил, что его вызывают в штаб армии с картами территории, занятой противником. Все поняли: вот они, важные события. По возвращении вечером Колобов сообщил, что командиров собирал командарм генерал-лейтенант В. Я. Колпакчи. Совещание проходило с участием командующего фронтом генерала армии К. К. Рокоссовского. Речь шла о подготовке к наступлению. Нам предстояло поддержать огнем наступление 77-й гвардейской стрелковой дивизии. С этого дня мы проводили занятия в соответствии с полученной задачей.
Побывав на совещании у начальника политотдела корпуса и обсудив задачу с командиром полка, мы с Пузановым и Мурашовым составили подробный план партийно-политического обеспечения наступательного боя.
На партийном собрании командир полка рассказал о характере предстоящих боев, Пузанов выступил с этим же вопросом перед комсомольцами.
Большую часть суток политработники полка находились в подразделениях: помогали командирам вести политическую работу, учили партийный и комсомольский актив, проверяли выполнение принятых решений. Были проведены семинары парторгов и комсоргов подразделений и их резерва.
Мы позаботились о том, чтобы все командиры и бойцы знали не только «свой» стрелковый полк, но и батальон, который они будут поддерживать в бою. Командиры батарей побывали в стрелковых подразделениях, познакомились с офицерами, выступили с докладами о способах применения самоходной артиллерии в бою, о тактических приемах, маневре САУ огнем и скоростью в наступлении, о тактико-технических данных вооружений и бронетанковой техники противника. В свою очередь командиры стрелковых батальонов и рот побывали в батареях полка, поговорили с воинами-самоходчиками, ознакомились с тактико-техническими данными СУ-76.
К священному рубежу
Линия фронта в Белоруссии стремительно откатывалась на запад. Освобождены Бобруйск, Борисов, Минск. Восточнее Минска окружены и уничтожены основные силы группы армий «Центр». Салютами отмечала Москва победньш путь советского солдата.
В наступление на ковель-люблинском направлении перешли соединения левого крыла 1-го Белорусского фронта,[7]7
Созданный 17 февраля 1944 года 2-й Белорусский фронт был упразднен Ставкой 4 апреля 1944 года, а его войска переданы в состав 1-го Белорусского фронта. 21 апреля 1944 года 2-й Белорусский фронт был воссоздан на стыке 1-го и 3-го Белорусских фронтов.
[Закрыть] в том числе нашей 69-й армии. 6 июля войска 1-го Белорусского фронта овладели важным опорным пунктом обороны противника и крупным железнодорожным узлом городам Ковель.
В ночь на 6 июля 1944 года начали боевые действия разведывательные отряды 77-й гвардейской стрелковой дивизии. Вслед за ними перешли в наступление полки дивизии. Противник сопротивлялся, но под натиском наступавших оставил первую позицию. Были освобождены Кульчин, Мировичи, Гиляр…
Упорное сопротивление враг оказал на рубеже, где недавно проходили бои за плацдарм и где он имел хорошо подготовленную оборону.
Из самоходки командира батареи Куницкого нам хорошо была видна панорама жестокого боя. Артиллерийская канонада, разрывы мин и снарядов, свист пуль и вой осколков, пулеметные и автоматные очереди, винтовочные выстрелы – все слилось в единый гул. Поднятая взрывами земля падала комьями или медленно оседала пылью, перемешанной с пороховым дымом. Рушились вырванные с корнем деревья, клонились к земле кусты, скошенные автоматной очередью. Стонали раненые, падали сраженные насмерть бойцы. Этот кромешный ад, казалось, не кончится никогда. Однако уже чувствовалось: противник начал сдавать. Огонь с его стороны ослабевал. И вот поднялся во весь рост командир батальона гвардии майор В. Г. Ремизов, что-то крикнул, взмахнул пистолетом и побежал вперед. За ним поднялись лежавшие вблизи бойцы, потом еще, еще… И вскоре лавина атакующих устремилась к окопам противника. Следом шли самоходки, останавливаясь лишь на несколько секунд, чтобы произвести выстрел. Преодолев стремительной атакой сопротивление врага, наши воины погнали его дальше, заняли лес.
Гитлеровцы укрепились на промежуточном оборонительном рубеже по восточной окраине крупного населенного пункта Дольск и южнее. Снова разгорелись ожесточенные схватки. Враг по нескольку раз на день переходил в контратаки, поддерживаемые танками, авиацией и огнем всех видов артиллерии, стремился любой ценой остановить наше наступление.
Вначале стрелки-гвардейцы и самоходчики попытались с ходу опрокинуть фашистов, засевших на промежуточном рубеже. Батарея Куницкого поддерживала действия 218-го гвардейского стрелкового полка, но неожиданно атака захлебнулась: противник встретил наступавших сильным ружейно-пулеметным и автоматным огнем из двух дзотов. По команде Куницкого самоходки ударили по огневым точкам. Дзоты замолчали. Но экипажи САУ не заметили другой опасности – противотанковые орудия врага. Выручили орудия прямой наводки из боевых порядков гвардейской пехоты. Поддержанные их огнем, самоходчики ворвались на южную окраину Дольска, расстреляли склад боеприпасов. Однако пехотинцы отстали, и батарея Куницкого возвратилась на исходные позиции.
9 июля гитлеровцы, стремясь во что бы то ни стало вернуть потерянный рубеж обороны восточнее Дольска, шесть раз переходили в контратаку, но с большими потерями откатывались назад. Стрелки-гвардейцы и самоходчики не дрогнули, хоть и приняли бой в невыгодных для обороны условиях – окопы и ходы сообщения стрелки отрыть не успели, огневые позиции САУ не имели укрытий. Противник же контратаковал с хорошо оборудованного оборонительного рубежа.
Последнюю, шестую контратаку он предпринял в конце дня. После авиационного налета на боевые порядки гвардейцев, в котором участвовало до тридцати самолетов Ю-87, вражеский батальон, поддержанный массированным огнем артиллерии, пошел в атаку. И снова его встретил дружный огонь стрелков, артиллеристов и самоходчиков. Оставив на поле боя десятки убитых, фашисты повернули вспять. Не успели еще остыть стволы пушек, а бойцы отряхнуть пыль и осмотреться, а на огневые позиции уже подкатила кухня: дядя Костя и Сидоров привезли горячий ужин. С ними пожаловала и Тося с почтой. Хотя в последнее время солдаты видели своих поваров дважды в день – рано утром и вечером, тем не менее каждый раз встречали их так, словно не видели целую вечность. И не потому, что горячая пища необходима бойцу как воздух. Просто здесь, на передовой, где враг и смерть, один лишь вид повара, человека столь мирной профессии, снимал нервное напряжение. Недаром мы, политработники, считали поваров своими надежными агитаторами, сеятелями здорового, бодрого духа.
– Опоздал, Сидоров! Жарко здесь было! Гитлеряка так и прет, так и прет! Не хватало твоего черпака, чтобы им фашиста по голове грохнуть!
Такими словами встретил поваров сержант Тавенко.
– Зато ты никогда не опаздываешь к котлу, – отпарировал Сидоров. – Не успею встать на подножку, как ты уже котелок протягиваешь.
Вслед за кухней шоферы Д. В. Волков, Е. Е. Тарахтеев, А. С. Ведута привезли боеприпасы и горючее.
Комсорг батареи Александр Инкин собрал экипаж. Развернув несколько листовок, получейных из политотдела гвардейской стрелковой дивизии, он сказал:
– О солдатах своего полка мы много говорили. Интересно, что пишут в листовках о стрелках-гвардейцах, которых мы поддерживаем в бою.
«Коммунисты впереди», – начал читать Инкин. – «Гвардейцам было приказано взять селение Гиляр. Но чтобы к нему подойти, надо было преодолеть топкое болото и поле. Вперед вызвались пойти коммунисты Мельников и Морозов. Утопая по пояс в трясине, смельчаки перешли болото, а за ними – и вся рота. Затем ползком они преодолели более двухсот метров поля и смелым броском ворвались в селение. Гитлеровцы не ожидали нападения с этой стороны и в панике бежали. Командирпредставил Мельникова и Морозова к награждению орденами».[8]8
Центральный архив Министерства обороны СССР. Ф. 77 гв. сд. Оп. 1. Д. 137. Л. 203 (далее: ЦАМО).
[Закрыть]
К беседе подключился заместитель командира батареи по техчасти парторг батареи техник-лейтенант В. А. Машнов. Он рассказал о том, как экипаж коммуниста младшего лейтенанта Давыдова, благодаря умелым действиям механика-водителя коммуниста М. Шевкунова, первым ворвался в Дольск, уничтожил орудие врага и расстрелял склад боеприпасов.
В бою отличилось много бойцов нашего полка. Командование части направило их родным поздравительные письма. Наиболее отличившиеся представлены к наградам.
На этом рубеже яркие страницы в боевую летопись гвардейской дивизии вписали парторги рот, коммунисты. Помню, в это время я впервые услышал о «роте героев», ее командире гвардии лейтенанте М., М. Магерамове и парторге рядовом Б. В. Самсонове. Памятной осенью 1943 года 5-я стрелковая рота 218-го гвардейского стрелкового полка первой форсировала Днепр западнее села Неданчичи Черниговской области и обеспечила успех дивизии. Шестнадцать воинов роты, в том числе ее командир и парторг были удостоены звания Героя Советского Союза, остальные награждены орденами.
В ходе последовавших событий Магерамов был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, а Самсонов повел роту в атаку и погиб в бою за освобождение белорусской деревни Севки.
Эстафету парторга Самсонова принял коммунист рядовой И. А. Устинов.
В Центральном архиве Министерства обороны СССР хранится письмо рядового 5-й стрелковой роты М: Ф. Ильина. Приведу его полностью.
«В парторганизацию 2-го батальона 218-го гвардейского стрелкового полка.
В наступлении 8 июля 1944 года погиб смертью храбрых мой командир 3-го взвода лейтенант Кириллов, тяжело ранило командира 2-го взвода лейтенанта Бровина. Бойцы нашего взвода влились во второй взвод под команду парторга роты Устинова. Еще в начале боя, когда мы заняли первую траншею и противник остервенело бросился в контратаку, я обратил внимание на нашего парторга. Он поднялся во весь рост и с криком „За Родину!“ бросил несколько гранат, уничтожив 6 гитлеровцев. Парторг, продолжая стоять во весь рост под огнем, бросал гранаты в наседавших фашистских собак.
Когда атака была отбита, Устинов собрал под свою команду всех оставшихся в живых бойцов роты и сказал: „Что бы ни было, ни шагу назад!“ Каждому из нас дал задание.
Фашисты снова пошли в атаку большими силами. Мы вступили в неравный бой. По команде парторга вели залповый огонь. Нас поддерживал уцелевший еще пулемет. Но вот и он смолк. Не было патронов. Устинов пробежал по окопу, собрал диски, зарядил и передал наводчику Смирнову, который косил огнем наступающих гитлеровцев.
Когда мы отбили и эту атаку фашистов, бойцы Руженцев, Кретов, я и другие обнимали парторга и благодарили его. Тут же дали клятву идти вместе с парторгом всегда впереди, уничтожая подлых захватчиков.
К сему гвардии рядовой Ильин Михаил Фролович, боец 5-й стрелковой роты».[9]9
ЦАМО. Ф. 77 гв. сд. Оп. 1. Д. 128. Л. 361.
[Закрыть]
На второй день Ильин передал свое письмо парторгу 2-го стрелкового батальона гвардии капитану Н. Ф. Жукову.
Накануне наступления в 5-й стрелковой роте состоялось собрание. Командир роты гвардии старший лейтенант Г. С. Гордиенко сказал: «Под ударами войск нашего 1-го Белорусского и других фронтов гитлеровские вояки бегут на запад. „Пятая героическая“ и на сей раз не посрамит Знамени полка. Будем драться, как герои Днепра Магерамов, Самсонов, Заседателев и их товарищи…»
Рядовой Е. С. Руженцев, недавно прибывший с пополнением, на эти слова командира ответил: «Мой сын тоже Герой Советского Союза, и мне в бою сплоховать никак нельзя. Постараюсь бить фашистов так, чтобы сыну моему не было за меня стыдно».
Устинов собрал коммунистов, дал каждому из них партийное поручение. По его заданию агитаторы и он сам в своем взводе, где был помощником командира, провели беседы на тему: «Приказ командира выполним!» Прочитали и обсудили листовки, изданные политуправлением фронта: «Памятка бойцу-пехотинцу в наступлении», «Боевое использование станкового пулемета», «Памятка бойцу о переправах через болота».
Взвод лейтенанта Н. Г. Кириллова первым форсировал реку Турия, ворвался в траншею противника и завязал рукопашную схватку с гитлеровцами. Умело орудовал прикладом гвардии рядовой В. И. Козлов. Он был ранен, но продолжал сражаться. Отделение во главе с гвардии старшим сержантом И. К. Симоненко огнем прикрывало переправу других подразделений, которые и довершили разгром врага. Полк занял первую линию обороны фашистов.
При атаке второй линии под сильным ружейным и пулеметным огнем противника рядовые С. П. Кожевников и А. А. Смирнов набросили на проволочное заграждение свои шинели, по которым прошли их товарищи. Бойцы роты ворвались в траншею, огнем и штыками уничтожая вражеских солдат. Парторг Устинов незаметно подполз к огневой точке противника, забросал ее гранатами. Заменив убитого командира взвода, он поднял в атаку своих бойцов. Фашисты были выбиты и из второй линии обороны.
В этом бою санитар роты рядовой Н. И. Гаврилович вынес из-под огня 15 раненых солдат и офицеров с их личным оружием.
Когда рота подошла к третьей траншее, командир отделения агитатор коммунист У. И. Сираж первым поднялся в атаку с возгласом: «Товарищи! Это третья траншея врага! Мы ближе к Западному Бугу, а там граница Родины! Вперед!»
В одном пулеметном расчете воевали братья Николай и Андрей Сафроновичи Седро. Действовали они смело и находчиво. Николая тяжело ранило, но он оставался у пулемета до наступления темноты. Перед тем как брата отправили в госпиталь, Андрей сказал ему и подошедшим проститься товарищам: «Из нашего пулемета, Николай, я буду разить фашистов беспощадно, отомщу за твою кровь и страдания. Помни, что твой брат Андрей не выпустит из рук пулемет до полной победы».
Преодолев вторую линию обороны противника и заняв лес, подразделения 218-го полка, поддержанные самоходчиками, продолжали наступление и ворвались на южную окраину Дольска.
Храбро сражался в этом бою рядовой 5-й роты коммунист А. М. Залужный. Взрывом снаряда его тяжело ранило, оторвало обе ноги. Товарищи сочли его мертвым. Рота отошла на исходный рубеж, оставив тело Залужного на поле боя. Вскоре противник перешел в контратаку, и бойцы роты увидели: когда гитлеровцы приблизились к тому месту, где лежал Залужный, произошел взрыв. Видимо, прийдя в сознание и решив не даться живым врагу, он подорвал гранатами себя и похоронил окружавших его гитлеровцев.
Подвиг парторга Устинова, героическая смерть коммуниста Залужного послужили примером бесстрашия для их товарищей.
В последующие дни части гвардейской стрелковой дивизии и самоходный артиллерийский полк перешли к обороне на западной окраине леса, что восточнее Дольска. Вскоре командир корпуса вывел полк во второй эшелон.
17 июля личный состав полка был построен для вручения правительственных наград. За отличные действия в последних боях командир корпуса приказом от 16 июля наградил орденами командиров САУ А. С. Инкина и О. С. Кричевнова, наводчиков М. П. Долгушева и Л. Д. Романова, механиков-водителей М. Н. Шевкунова, В. М. Шарпетко и Б. А. Кутлугалиева, заряжающих А. Г. Паненкова и В. В. Праслова.
Командир полка зачитал очередные строки приказа: «Ефрейтора Моденову Таисию Ивановну, экспедитора полка, – медалью „За боевые заслуги“». Несколько секунд стояла тишина, а затем грянул гром рукоплесканий, В них выразилось глубокое уважение солдат к девушке-фронтовичке, добровольно ставшей в боевой строй и разделившей с ними их нелегкую судьбу.
Затем майор Ревва зачитал приказ командира полка о награждении медалями отличившихся воинов-тыловиков: шоферов Е. Е. Тарахтеева и Д. В. Волкова, ремонтников С. К. Шорохова и И. Р. Бабкина. И снова бойцы горячо приветствовали повара дядю Костю – рядового Константина Афанасьевича Волкова, награжденного медалью «За боевые заслуги». «За хорошее приготовление пищи и своевременную доставку личному составу в боевые порядки на огневые позиции под огнем противника»[10]10
ЦАМО. Ф. 1205 сап. Оп. 133 015. Д. 11. Л. 7, 8 58
[Закрыть] – говорилось в приказе.
Командир полка поздравил награжденных, призвал всех воинов брать с них пример, готовиться к новым наступательным боям.
Утром 18 июля 19,44 года фронт пришел в движение.
Перед атакой майор Колобов собрал полк и зачитал обращение Военного совета армии. Затем он напомнил бойцам слова первомайского приказа Верховного Главнокомандующего.
– Отсюда недалеко до границы нашей Родины, – говорил комполка. – Великое счастье выпало нам: очистить советскую землю от фашистской нечисти и водрузить Красное знамя на священных рубежах социалистического Отечества. Но война на этом не кончится. Впереди – освобождение народов Европы, а в полосе нашего наступления – Польша. Стонущие под игом фашизма люди с надеждой смотрят на нас, своих освободителей.
Гвардейская стрелковая дивизия, поддержанная другими частями, в том числе самоходным артполком, прорвала оборону гитлеровцев севернее Дольска и к концу дня заняла Станислав. Разбитые части противника, прикрываясь заслонами, минируя дороги и мосты, устраивая лесные завалы, откатывались на запад.
Мы шли вперед днем и ночью, не давая противнику возможности занять выгодные рубежи, сбивая вражеские заслоны, очищая от фашистской нечисти последние километры родной земли.
Население городов и сел радостно встречало своих освободителей. Измученные фашистской неволей люди выходили из домов и укрытий на улицы. Они от души делились с бойцами всем, что осталось у них от черных дней оккупации, что припрятали ради этого большого праздника: кто нес кувшин молока, кто вареную картошку в мундире, иные вручали цветы. Те же, у кого ничего не было, дарили чистосердечные приветливые улыбки.
Советские бойцы благодарили жителей за внимание, принимали цветы, на улыбку отвечали улыбкой, но продукты не брали.
– Питание у нас хорошее, жить и воевать можно, а вы дарите последнее из того, что у вас есть, – говорили солдаты.
В селе Олеск, где остановились 2-я и 4-я батареи полка, находившиеся в резерве командира корпуса, воинов окружили старики и дети. Так было везде: больше детей и старых людей, лишь изредка встречались девушки и парни.
Вновь, как и в других местах Волыни, произошла волнующая встреча братьев после вынужденной долгой разлуки. В общее оживление, царившее вокруг, внес свою лепту старый дед. Он настойчиво проталкивался через толпу, неся в высоко поднятых руках красавца-петуха.
Остановившись перед группой бойцов, дед потоптался на месте, внимательно рассматривая посланцев Красной Армии, затем обратился к офицеру, видимо, чем-то особенно понравившемуся ему. То был командир 2-й батареи Иван Емельянов. Старик доверчиво улыбнулся лейтенанту и, протянув свой живой подарок, сказал:
– Возьми, сынок, петушка на память о великом празднике.
Емельянов взял петуха, потрепал его по гребню, потом подошел к старику, обнял его одной рукой и, крепко прижав к своей груди, трижды поцеловал.
Толпа, молча наблюдавшая эту сцену, вдруг взорвалась рукоплесканиями, восторженными возгласами.
– Большое, дедушка, сердечное спасибо вам от всех наших солдат! А петуха все же оставьте себе, – Емельянов протянул деду его необычный подарок. – Жаль губить такого красавца. А принять в солдаты его не можем – нет свободной штатной единицы, не возьмут его на котловое довольствие.
Дед замахал руками.
– Не годится брать подарок обратно, – обиженно говорил он. – Да и зачем он теперь нам с бабкой? Разве что в плуг запрягать вместо лошадки, которую увели фашисты…
– Кабы только и горя, что курочек фашист поел и скотинку увел, – людей-то сколько позабирал, – горестно вздохнула бабуся, только что угощавшая солдат холодной водой. Она стояла рядом с Емельяновым и его бойцами, держа кружку в сухоньких натруженных руках.
Слова старой женщины как бы вернули мысли людей к тому, что было пережито в черные дни фашистской оккупации.
– Настоящий людоед – вроде чумы прошелся по земле…
– Уничтожил либо угнал на каторгу всех молодых, одни дети и старики остались…
– Детей и стариков тоже не миновал…
– А когда слышно стало, что наши идут, поджал хвост и побежал спасать свою шкуру…
Бойцы внимательно слушали. Горе исстрадавшихся под вражеской пятой людей наполняло сердца воинов лютой ненавистью к захватчикам.
К концу разговора Емельянов снова попытался вернуть петуха. Но старик и слышать об этом не хотел. Лейтенант, поняв душевное состояние деда, решил принять подарок, однако с условием, что тот за петуха возьмет деньги. Спор между ними продолжался еще несколько минут. В конце концов старик сдался – взял деньги и низко поклонился солдатам, донельзя гордый и довольный тем, что его подарком не пренебрегли и что он, таким образом, как бы стал ближе и роднее советским солдатам. Денег он не считал, а, подняв и показав их селянам, радостно, как ребенок, воскликнул: «Совецьки!» Наверно, хотел подчеркнуть этим, что именно ему посчастливилось первому в селе держать в руках советские деньги, которые подарил взаимно (боже сохрани подумать, что уплатил за петуха!), да, именно, подарил ему советский офицер.
Емельянов поблагодарил жителей освобожденного села за теплую встречу.
– А петух пойдет с нами в разведку! – сказал он под веселый гомон толпы.
Время не ждало: пора было трогаться в путь. Предстояло разведать берега Западного Буга.
Солдаты торопливо прощались с гостеприимными жителями села, жали им руки. Старики, как родных сыновей своих, обнимали и целовали воинов. Девушки, парни, дети приветливо махали руками. И все они, старые и малые, горячо желали советским бойцам успеха в боях с врагом, счастливого возвращения на Родину с победой.
Бойцы-самоходчики занимали свои места в боевых отделениях машин, стрелки-гвардейцы – на броне. Емельянов тоже сел в самоходку, поправил шлем, улыбнулся, затем красным флажком подал команду: «Вперед!». И батарея с десантом пехоты двинулась в направлении села Бендюги – на разведку родного пограничья.
Утром 19 июля мы сформировали передовой отряд в составе 2-го стрелкового батальона 215-го гвардейского полка и наших двух батарей САУ – Дмитрия Филюшова и Николая Ховина (последний заменил раненного в бою за Дольск Хануковича). Командовать отрядом поручалось заместителю командира 215-го гвардейского стрелкового полка гвардии майору Кистареву. Старшим от нашего самоходного артполка был назначен майор Андреев.
Перед выходом отряда на задание мы с заместителем командира 215-го гвардейского стрелкового полка по политчасти гвардии подполковником И. П. Ахматовым и инструктором политотдела дивизии майором А. А. Макаровским провели короткий митинг, на котором говорили о высокой чести, выпавшей бойцам и командирам отряда: первыми выйти на Государственную границу Союза Советских Социалистических Республик.
Для обеспечения политического влияния на каждый из экипажей самоходок были выделены партийные активисты: заместитель командира стрелкового батальона по политчасти капитан Выдубков, комсомольские работники офицеры Мурашов и Кузовлев, парторги стрелковых рот сержанты Кондуков, Дьяков, Рябов, парторги батарей САУ офицеры Новожилов и Сулаквелидзе.
Десять самоходок с гвардейцами-стрелками на броне двинулись на выполнение ответственного боевого задания. Не отрываясь от противника, а порой даже опережая его, отряд стремительно шел вперед. Встречая на своем пути населенные пункты, занятые гитлеровцами, десант спешивался: стрелки-гвардейцы, поддерживаемые огнем самоходок, бросались в атаку. Очистив село от противника, продолжали движение. К исходу дня отряд вышел на опушку большого леса. Впереди простирались луг и гладь реки.
Западный Буг, граница! Еще нет здесь пограничных столбов – их снесли гитлеровцы, но мы уже твердо стоим на берегу реки – пограничном рубеже социалистической Родины. Мы пришли сюда, чтобы, перешагнув его, устремиться на запад, на помощь польским братьям, и дальше – в логово фашистского зверя, чтобы покончить с ним навсегда! Такие мысли и чувства владели участниками десанта в тот исторический чае. Часть самоходок отделилась и направилась к селению Высоцк. На том месте, где когда-то стоял пограничный столб, водрузили Красное знамя. Тут же родилась идея составить акт о выходе отряда на государственную границу. Вот этот документ.
«Мы, нижеподписавшиеся, составили сей акт о том, что сегодня, 19 июля 1944 года, передовой отряд 77-й гвардейской стрелковой дивизии в составе части сил 2-го стрелкового батальона 215-го гвардейского стрелкового полка под командованием заместителя командира полка по строевой части гвардии майора Кистарева, действуя в качестве десанта на 10 машинах 1205-го полка самоходной артиллерии под командованием заместителя командира полка майора Андреева, в 21.00 вышел на Государственную границу СССР в районе Высоцка.
Участники отряда: Кистарев, Макаровский, Орлов, Андреев, Выдубков».[11]11
ЦАМО. Ф. 77 гв. сд. Оп. 1. Д. 137. Л. 224.
[Закрыть]
Вслед за передовым отрядом и разведкой войска вышли к границе на широком фронте, заняв деревни Бендюги, Высоцк, Заставы, Терехи. Началась подготовка к форсированию Западного Буга.
Воспользовавшись кратким перерывом в боях, мы провели полковой митинг, посвященный выходу на государственную границу. М. И. Колобов зачитал приказ командира 77-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майора В. С. Аскалепова, поздравившего воинов с выходом на государственную границу. «Мы выполнили первую задачу, – говорилось в приказе, – поставленную Верховным Главнокомандующим: очистить советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Теперь перед нами стоит вторая задача – добить раненого фашистского зверя в его логове. Ближайшим шагом на этом пути является форсирование реки Западный Бут».
Читатель может подумать: не слишком ли много митинговали на фронте? Отвечу: мы стремились в полную меру использовать митинги как эффективное средство воздействия на мысли и сердца солдат и проводили их при малейшей возможности.
Кстати сказать, такие возможности были. Полк нередко оперативно переподчинялся то одной, то другой дивизии в зависимости от выполнения ими задач на главном направлении боевых действий корпуса. Соответственно менялась обстановка, перед нами ставились новые задачи. И такая форма политической работы, как митинги, позволяла в кратчайший срок и «из первых уст» (как правило, выступал командир полка) довести боевую задачу до солдат и офицеров. Кроме того, переподчиняя полк, командир корпуса нередко на какое-то время выводил нас во второй эшелон – заправить самоходки горючим, пополнить боеприпасами. В таких случаях мы не ограничивались проведением митинга: инструктировали партийный и комсомольский активы, проводили собрания в батарейных партийных группах и комсомольских организациях, заседания партийных и комсомольских бюро по приему в партию и комсомол.