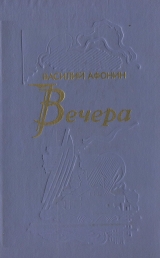
Текст книги "Вечера"
Автор книги: Василий Афонин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
Он же меня заинтересовал, и вовсе не как читатель, а как руководитель. В лице нового директора Вторсырья Балдохина увидел я природного хозяйственника, каких, признаюсь, не приходилось встречать до этого. Хозяйственников, надо сказать, по сей день я не касался, не трогая производственной темы. Писал в основном о деревне, руководители редко попадали в герои. Да и кому, скажите на милость, придет в голову сделать героем своего произведения, хоть и положительным, работника базы Вторсырье, занятого какой-то там макулатурой. Отношение наше, за редким исключением, к этому самому вторичному сырью почти с детских лет легкомысленное, определяется оно бытовым выражением «утиль», отождествляясь с чем-то крайне не нужным нам, бросовым. Да и кто, думалось, из серьезных людей станет ведать подобным – утилем, хотя бы и в масштабах области. Неудачник если, случайный человек…
Так примерно думалось мне до некоторого времени в отношении макулатуры. Оказалось – нет, очень важное дело. Необходимое. Государственное. Только надобно по-иному взглянуть на это дело. Взглянуть с позиции хозяина, и хозяина цепкого.
По-иному взглянуть помог Балдохин, возглавивший Вторсырье. Она и до него, конечно, существовала, база. О работе базы узнал я от бухгалтерши, проживавшей ранее в той самой квартире, где ныне поселился новый директор. Помню, все жаловалась она, собираясь уходить, подыскивала лучшее место. Дела на базе идут через пень колоду, рассказывала бухгалтер. Руководит действительно случайный человек, случайные люди работают под его руководством, из тех, кого уже никто нигде на работу не принимает. Из года в год план не выполняется, постоянные убытки, долги кругом. Подходит день зарплаты – платить нечем, банк денег не дает. За последние двадцать лет поменялось одиннадцать директоров, более двух лет никто не держится. Сама контора и территория базы в таком состоянии, что и на работу ходить неприятно. Никто нам не помогает, никто нами не интересуется, один стыд и срам. Вот доработаю год, да и перейду от греха куда-нибудь…
Плачет, а все служит. Любопытно мне стало. Дай, думаю, посмотрю. Пошел. Контора и база располагались тогда чуть ли не в центре города, на одном из проспектов. Деревянный старый покосившийся дом-контора, в которой, по рассказам, зимой держится такая температура, что застывают чернила. Часто сотрудники не раздевались, не снимали рукавиц. Нет заборов, нет ворот. На территории под открытым небом свалены как попало тряпье, кости, бумага, битое стекло, изношенные автомобильные покрышки. Нет складов, чтоб все это сложить.
Лето – над костью рой мух, бродячие собаки грызут, таскают кости. Тут же валяются бочки, различные железяки, чурбаки, куски досок, просто мусор. Стояли прессы, на которых велась прессовка макулатуры. Зимой, прежде чем начать работать, рабочий разгребал снег, освобождая прессы, затем – сырье. Работа начиналась в одиннадцатом часу, вагон грузили два-три дня. Рабочие сидели на бревнах, курили, отмахиваясь от мух. Бичи, которым некуда было деваться. Они шли в «утильку», где их брали порой и без документов, по одной какой-нибудь справке.
Понимаешь состояние человека, принявшего разбитое корыто. Спрашиваю Балдохина, что думал он тогда, в первые дни, с чего начинал. Не всякий согласится руководить подобной базой.
– Ни о чем не думал, – сердито отвечал он. – За свою трудовую деятельность несколько раз впрягался в такие же вот предприятия. С нуля начинал, с пустого места. Разгребал мусор, на расчищенном начинали строить. Дворцы возводил на пустырях…
Здесь прежде всего следовало рассчитаться с долгами. Обратился к властям – помогите с рабочей силой. Своей-то не было. Дали рабочих, школьников. Поехали на старую базу, там – здоровая площадь – вот уже пять лет лежал метровый слой макулатуры. Около двух тысяч тонн. Представляешь?! Все лето работали. Драли пласт, прессовали, отправляли в города. Из-под прессов коричневая вода бежала. Тюки тяжеленные. Думали – откажут города, не примут, потому давали большой процент скидки на влажность. Приняли. А мы спешим-торопимся, прессуем, отправляем. Собрали за лето на старой базе тысячу тонн макулатуры – она списанию подлежала. И распрекрасному Вторсырью нашему, ожидавшему очередных убытков, сберегли почти шестьдесят тысяч рублей. Вот как, шестьдесят тысяч! А ты говоришь – с чего?
Школы крепко помогли. Это я уже по опыту знал – выручат школы, лишь наладь прием от них. Так и случилось. А до этого в школах с макулатурой курьезы происходили. «Вторсырье» к ним не обращалось, школьники соберут бумагу по собственному почину, а что делать с нею – не знают. Куда нести, кому сдавать? В одной школе трижды за год собирали, потом вынесли в ограду и сожгли – девать некуда. Пришел пожарный, оштрафовал директора за костры, а тот сразу же запретил сбор.
Я в гороно, к заведующему. Как же так? Решили вопрос, наладили график вывоза. Если руководству школы говорили, что машина будет в три часа дня, то в три часа дня машина стояла в условленном месте. Дисциплина. Ну и сказалось, понятно. До меня за год по городу школы сдавали всего тридцать тонн макулатуры, а в первый год, как принял базу, сдали триста тонн. На второй – около девятисот, на третий – более тысячи. Тысяча тонн! Школы! Представляешь себе, как развернулись?!
Я все присматривался к новому соседу своему. Жили через стенку, а виделись редко, еще реже разговаривали. Да и когда? Вставал он рано. В семь слышалось щелканье замка, тяжелые по коридору шаги, стук закрываемой коридорной двери, шум мотора под окном – Балдохин уезжал на работу. Возвращался поздно, не раньше восьми, летом – в девять, в десятом часу. Вечер. Смотришь, прихрамывая, как бы неуверенно ступая, идет он от машины к подъезду, держа в опущенной руке что-то завернутое в бумагу, чаще всего курицу. Либо колбасу несет под мышкой.
Мы были с ним совсем разными людьми, никаких отношений между нами не сложилось. «Доброе утро», «Добрый вечер», – говорили мы друг другу при встрече. Каждый был занят своим делом, не докучая один другому. Часто я просто забывал о нем, как, видимо, и он обо мне. Но иной раз, видя Балдохина, устало хромающего к дому, испытывал и жалость, и удивление, и даже восхищение перед этим человеком, чего толком не мог бы объяснить. Испытывал и стыд перед ним, Балдохиным.
Старался представить его жизнь. Вот поднимется он сейчас на третий этаж в свою, потерявшую после выезда семьи уют, однокомнатную квартиру, где давно следует делать ремонт, пройдет на кухню, разделает, поставит варить курицу, сядет подле плиты и станет хмуро смотреть в окно, куда смотрел и вчера, и позавчера, и еще раньше. И не закурит, потому что не курит. И не выпьет от усталости и одиночества, потому как не пьет. А уже одиннадцать, начало двенадцатого. Надобно ложиться, чтобы в половине седьмого вставать. Завтракает ли он по утрам? Да и какой завтрак в такую рань, темень еще…
Редко, но заходил. Постучит, откроешь, он стоит перед дверью. Порога не переступит. Луковицу попросит, соли, хлеба или пару яиц. А то картошки нет, купить не успел, дайте картошки.
– Тяжело одному, Михаил Михайлович, – затеял я однажды разговор. – Жениться надо. Старая семья – что, не едет к вам?
– Это ты к чему завел? – Балдохин поднял широкое лицо.
– Да ни к чему… Просто так… Гляжу вот, как вы один…
– Просто так никто ничего не делает, все с умыслом. Жениться? Был женат, двадцать лет прожили, а теперь врозь. Ясно? Ей, видите, проценты-алименты могут мужа заменить. Заменят – пожалуйста, получай, я не против. Только и ко мне не суйся. А второй раз – не потяну. Сорок шесть лет трахнуло. Не мальчик на юбки поглядывать. Ну, что поделаешь? Так сложилось…
Позвонил мне один раз вечером, к телефону подошла жена.
– Твой дома? – спросил Балдохин, будто разговаривал на базе.
– Дома, – ответила жена.
– Пускай заглянет.
Зашел. Балдохин в пижаме лежит на диване, смотрит телевизор. На полу, рядом с диваном, газеты. Прочитал – бросил на пол.
– Садись, посиди, – кивнул Балдохин на стул. Скучно, вероятно, стало ему, захотелось поговорить, вот и позвонил взял.
Я сел напротив хозяина, вполоборота к телевизору. Молодежный оркестр, не то «Янтарь», не то «Изумруд», что-то там наигрывал, напевал, приплясывал. Балдохин презрительно косился на экран, молчал, сопел, шевеля пальцами ног. Молчал и я.
– Эк лоботрясов развелось, а?! – кивнул Балдохин. – Оркестрики! Сколько их по стране, оркестров таких, – не счесть. В названиях одних запутаешься, а все одинаковы, не различишь. Играют! Дали бы мне их на базу, три-четыре оркестра, я бы за месяц годовой план выполнил. Развелось, как футбольных команд! Э-эх!..
Заметил мою улыбку, приподнялся живо, опустив ноги на газеты. Пижама расстегнута, волосатая грудь широка.
– Усмехаешься?! Знаю, все вы смеетесь над Балдохиным. Дескать, в мусоре копается. Чистюли. Это для вас таких – мусор, а для хозяйственного человека – деньги, доход, выгода. Вот как! А вы – мусор. Ты хоть задумывался раз, что такое экономика, куда это идет? Ну, вот. А пишешь. О чем ты пишешь? Как птички поют, как цветочки цветут. А что-нибудь дельное – тут у вас сразу заедает. Вторичное сырье – вот о чем писать следует в первую очередь. Двадцать лет занимаюсь этим. Двадцать лет – жизнь целая. Такое дело… наипервейшее. Начнешь объяснять какому-нибудь чинуше, а он улыбается, безграмотность экономическую показывает. За границей на вторичном сырье давным-давно комбинаты громадные работают, а у нас только разворачиваться начали, да и то с оглядкой друг на друга. Богаты, видите ли, слишком. По деньгам ходим, миллионы рублей на мусорные свалки вывозим. Сжигаем. Миллионы рублей в небо с дымом летят, вот как. А нам задуматься об этом некогда – дела разные…
Балдохин волнуется и скребет пальцами грудь. Я слушаю. – В трех областях налаживал дело. Наладил. В трех областях. Эта четвертая. Приехал, а здесь тишь да благодать. «Что такое вторичное сырье?» – «Вторичное сырье? – смотрят на меня. – Отбросы, видимо». Ах, какие мы все воспитанные, – Балдохин качает головой. – Какие мы все тонкие натуры, – он морщится, страдая. – Какими важными делами мы все заняты. Где уж там макулатура. Нет, чистые деньги мы не выбросим никогда. Рубль, скажем, или хотя бы двадцать копеек. На них можно что-то купить. Соли, спичек, булку хлеба. А вот пачки прочитанных газет мы выбрасываем ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Эти пачки газет в конечном счете могут обернуться пачкой денег. Да, да. А вот выбрасываем. Одному, видите ли, стыдно… как это он пойдет куда-то с тряпьем, сдавать. Второй ленив, третий пренебрегает такой мелочью. Четвертый настолько обеспечен, что плевать хотел на тряпье и кости. Пятый – я уверен, таких большинство – не знает, куда идти, где искать приемный пункт, кому сдавать. Проще выбросить в специальный ящик для мусора. Балдохин увлекается. Широкое лицо его потеет, потеет набухшая шея. Он подается вперед, левой рукой отбрасывает со лба волосы, правая, с растопыренными пальцами движется перед моими глазами, подтверждая сказанное. Я слушаю.
– Как бы все это нам преодолеть и побыстрее, а? – проглатывая слова, спрашивает Балдохин. – Ложный стыд, лень, пренебрежение, брезгливость, высокомерие. И взглянуть на дело по-хозяйски. Принесем пользу и себе, и государству. Вот, – Балдохин поворачивается к столу, вытаскивает из пачки схваченные скрепкой листки бумаги, – слушай внимательно, что написано. Внимательно! «Использование в народном хозяйстве вторичного сырья, – напрягаясь, громко, как глухому, читает он, – значительно сокращает расходы ценных сырьевых материалов, позволяет более экономно расходовать электроэнергию и топливо, высвобождая рабочую силу, транспорт для других нужд. Экономические выгоды этого дела очевидны, об этом сами за себя говорят цифры.
Использование вторичного текстиля (тряпья) экономит в производстве около тридцати процентов шерсти, хлопка. Из одной тонны обработанного шерстяного тряпья можно получить восемьсот килограммов восстановленной шерсти. Одна тонна восстановленной шерсти, заменяя натуральную, дает в производстве тканей экономию от одной до шести тысяч рублей. Большое количество тряпья идет на изготовление толя, рубероида, картона. Из одной тонны макулатуры получается семьсот пятьдесят килограммов бумаги, при этом экономится четыре кубометра древесины и одна тысяча киловатт-часов электроэнергии. Необходимо знать, что стоимость бумаги и картона, изготовленного из макулатуры, в два раза дешевле продукции, выработанной из древесины. Сохраняются гектары девственного леса…
– Кости животных, – передохнул Балдохин, взглядывая на меня, – служат основным сырьем для изготовления высококачественного клея. Из одной тонны костей можно получить сто шестьдесят килограммов столярного клея, сорок килограммов технического жира и около пятисот килограммов костной муки. В нашей стране, – прокашлялся Михаил Михайлович, – ежегодно изнашивается более миллиона тонн автомобильных, тракторных и других покрышек, из которых можно извлечь для повторного использования примерно семьсот пятьдесят тысяч тонн резины, сто пятьдесят тысяч тонн химического волокна, сорок тысяч тонн стали». Какие цифры, а? – Балдохин потряс листками. – Слышишь, тысячи тонн! Тысячи! Из чего?! А из ерунды – хлама, мусора! Вот как! А вы! Эх, ничего вы не соображаете в этом деле, скажу. Ты когда-нибудь в жизни своей хоть раз задумывался над этим? – Балдохин пристально смотрит на меня. – Видишь, не задумывался. И другой, и третий. Эту памятку, – Балдохин бросил листки на стол, – надобно перепечатать во всех газетах, центральных и местных. Расклеить на остановках, у входов в дома, школы, другие учебные заведения. Чтоб все прочли, все знали…
– Слушай, – сказал он несколько дней спустя, – да хватит тебе сочинять небылицы. Поедем, посмотришь хотя бы, чего мы достигли за три-то года. Лучше разок взглянуть своими глазами, чем без конца слушать. Поехали, не пожалеешь. Одевайся…
И мы поехали на его служебном темно-красном фургоне «Москвич», на котором Балдохин мотается изо дня в день. Машину Балдохин вел стремительно, посылая ее от перекрестка к перекрестку, беря обгон, лавируя, тормозя. Я сидел рядом, глядя вперед, думая об одном, как бы… Вот самосвал. Куда же мы?!
– Не переживай, – заметил Балдохин, – живы останемся. Машину чувствую, правила соблюдаю. Я несколько лет гонщиком был, профессионалом. Там и ногу повредил. Гонщиком, представляешь себе?! Прибыли. Вот это и есть наша база Вторсырье. Пошли.
Он водит меня по территории, объясняет. Его обычно суровое, озабоченное и даже чем-то недовольное лицо меняется. Чувствуется, что ему приятно показать постороннему человеку результаты труда и своего, и коллектива. Я иду сбоку, оглядываю.
– Три года назад здесь ничего не было, – говорит Балдохин. – Пустырь, грязь, бурьян рос. Болото, словом. А сейчас. Глянь-ка…
Если бы я не увидел своими глазами всего, я бы никогда не поверил. Ну, во-первых, сама контора, в которую хоть сию же минуту, не страшась, можно переводить Дворец бракосочетаний. Двухэтажная фасонистая контора с ее парадным крыльцом, парадной дверью. А газоны напротив. А цветники. А голубые (и где только находят такие) елочки в несколько рядов. Ну и ну!
На первом этаже мужские и женские душевые, раздевалка, отдельные кабины для рабочей одежды, прочие подсобные помещения. На первом этаже столовая: уют, чистота. На столах букеты цветов, салфетки. Готовят хорошо. От городских посетителей отбоя нет, со всех сторон бегут сюда обедать, пришлось установить пропускную систему. На втором этаже размещены администрация, гостиница, великолепно отделанный зал заседаний: впору проводить в нем высокие научные конференции.
– Это гараж, – указывает Балдохин на просторную добротную постройку. Ходим по территории, он рассказывает, я слушаю. – Когда три с небольшим года назад принял базу, – говорит Балдохин, – из шестнадцати имевшихся машин на ходу была одна. Да и ту не всегда могли завести, особенно – зимой. Теперь наш автопарк состоит из двадцати четырех единиц. Раньше все машины круглый год стояли на улице, теперь же вот в этом гараже. Тепло, освещение. К гаражу пристроен ремонтный бокс. Все это, между прочим, сделано своими руками и за очень малый срок.
Идем дальше. Вот ангар. Еще ангар. Склад. Весовая. Подъездные пути. Территория заасфальтирована, обнесена отличной металлической, на кирпичном фундаменте оградой: триста восемьдесят метров ограды. Всюду светильники. Чуть поодаль от базы автобусная остановка, построенная ими же. Никто не заставлял, взяли сами, построили. «Из уважения к городу», – смеется Балдохин. И не какая-нибудь там бетонная коробка, а симпатичное, художественно оформленное сооружение. И тут же, со стороны улицы, где автобусное движение, опять газоны, цветники, ровные рядки голубоватых елочек. Красиво, черт подери!
Будь моя власть, думаю себе, водил бы сюда руководителей городских предприятий, показывал бы и говорил: смотрите, любуйтесь и учитесь хозяйствовать, уважаемые товарищи.
– А вот здесь, – продолжал Балдохин, – три раза подряд у нас устанавливалась на Новый год двадцатипятиметровая елка. Украшаем ее, освещаем цветными лампочками. Устраиваем детские утренники. Приглашаем из драмтеатра Деда Мороза, Снегурочку, баяниста. И ребятишки довольны, и родителям радость.
– Вот вам и «утилька»! – говорю я. Балдохин улыбается.
– Михаил Михайлович, – спрашиваю, – как же… все-таки? Три года назад был пустырь, болото, а нынче… любо посмотреть. Каким образом, способом каким достигается подобное, хотелось бы…
– Дис-цип-лина! – раздельно выговаривает Балдохин, не дослушав меня, и подымает указательный палец правой руки. – Дисциплина буквально во всем. В мелочах. Но прежде ты ее сам должен соблюдать, руководитель. Неукоснительно. А уж потом требовать от сотрудников, от коллектива. Будет слаженность, будут результаты труда. А безрезультатный труд – труд пустой, дураку ясно.
Как было раньше, ты знаешь. Принял базу – смешки за спиной: ну, директор новый, что-то будет. Ладно, думаю, смейтесь. Стал день ото дня легонечко к порядку приучать. Вижу, не шибко и нравится. Один подал заявление, второй, третий. Разбрелись бичи кто куда, конторские работники поувольнялись. Распался старый коллектив само собой. Из прежнего два-три человека всего осталось. Что ж, надобно новый создавать. Стал принимать. Принимаю по такому принципу, чтобы каждый рабочий, кроме основной специальности, шофера скажем, мог и еще что-то делать. Плотничать, штукатурить. И такой коллектив постепенно образовался. Дело совсем не простое. Попробуй отбери настоящих…
Порядок у нас теперь таков: я на работе в семь, в начале восьмого. Рабочие собираются минут за двадцать – двадцать пять раньше положенного времени. И вот эти-то двадцать минут каждое утро уходят на обсуждение прошедшего дня. Нарушитель трудовой дисциплины – такое иногда случается – объясняет бригаде, что стряслось. Ежели причина неуважительная, тут же происходит совет администрации с бригадой, как наказать виновного. И только после этого издается приказ. Иной раз бригада берет провинившегося под защиту – это допускается. Если же он провинился вторично, подвел товарищей, то наказывается и за старые и за новые грехи. Наказания какие? Лишаем премии. Месяца на три переводим на другую работу, рублей этак на семьдесят-восемьдесят. С двухсотпятидесяти рублей обычного месячного заработка. Ощутимо?! Так вот и поступаем.
Интересно вот что: наказанный не увольняется. Заработок твердый, условия работы хорошие. Наоборот, на стороне, он даже с некоторой гордостью рассказывает знакомым, что вот такая у нас сегодня строгая дисциплина. Желающих устроиться к нам много, но берем не каждого, по выбору. Про-сят-ся, запомните это. И – боже упаси, чтоб кто-то выпил на работе или заявился во хмелю, завтра же его на базе не будет, возьмем стоящего. Как-то раз, – Балдохин умолк, припоминая, – заехал на одно из предприятий по делам. Смотрю, пьют. В проходной, в столярке, в слесарном цехе, в аккумуляторной. Как воду. Во время рабочего дня. И – ничего, будто бы так и надо, Не-ет, у нас не выпьешь…
Ну, что еще рассказать. Участка по области три. Собрания регулярные, подведение итогов недели, месяца, квартала. Созданы советы бригад, они и решают вопросы премий. Результаты налицо. Суди сам. Если раньше один вагон грузили два-три дня, то теперь стало обычным делом погрузить за день несколько вагонов и платформ. Если раньше база Вторсырье, кроме пятидесяти, семидесяти тысяч ежегодных убытков, ничего не приносила государству, то сегодня база дает столько же прибыли…
Балдохин поясняет, а я слушаю его и не слушаю. Чего-то недопонимаю, смущает что-то. Хочу поймать нужную мысль, не могу.
– Михаил Михайлович, послушайте. Что-то я… не доходит до меня суть дела. Видимо, причина не в одной лишь дисциплине? Три года – срок малый, согласитесь. А что же получается, вечером так, утром уже иначе. И машины на ходу, чуть ли не все новехонькие. И бульдозер у вас свой. И экскаватор у вас свой. Газоны, ограда, светильники. Возьмите контору, гараж – кирпича одного… десятки тысяч штук. Откуда кирпич приплыл к вам, а? Откуда все взялось за три года – вот что хотелось бы знать?
– Э-э, – улыбается Балдохин, – а это уже секрет. Собственно, секрет для тебя, для таких, как ты, но не для нас, хозяйственников. Ты не хозяйственник, не понять тебе всех тонкостей нашей работы. А тонкостей здесь… ого! Слушай. В любом городе сотни различных предприятий. Они не существуют обособленно, они связаны между собой. Да, незримо. Всякими отношениями. Вот в этом и вся суть – в отношениях. Слушай.
У тебя, к примеру, ничего нет: пустырь, бурьян, дощатая будка – контора. И один допотопный бульдозер. Но он на ходу. А ты – начальник базы, директор – принял ее. Сидишь, думаешь, с чего начинать. А начинать надо, раз принял. Бульдозер, значит. Вот с этого бульдозера и следует начинать. Оглядываешься, в соседях у тебя какие-то предприятия. У соседа ближнего, узнаешь ты, нет бульдезера, который ему позарез нужен. Но у него есть грузовики, а у тебя их нет, они тебе необходимы, чтоб собрать по школам макулатуру. Входишь, ежели голова соображает, с соседями в договор, в отношения. Ты ему бульдозер на неделю, он тебе три грузовика. У него работа идет и у тебя движется.
Дальше. Пока на чужих машинах работаешь, свои срочно ремонтируй, чтобы завтра дать кому-то пяток грузовых, а он тебе за это труб триста метров, скажем. Так и пошло. Трубы тебе не нужны, но ты бери, отдашь туда, где нужда в них, а за трубы выменяешь необходимое. Он тебе стекло, ты ему известь. Он тебе – тесу, ты ему гвоздей десять ящиков. Давай, но чтоб с выгодой взять. Сегодня ты беден, завтра встал на свои ноги, а послезавтра уже смотришь – дать или придержать покамест, минуты нужной дожидаясь. Дождался. Он тебе мыло, ты ему шило. Он тебе семена, ты ему стремена. Он стонет, но деваться некуда, давай.
Так и кирпич появился. В августе завезли, а к октябрю мне гараж необходим – осень, дожди, куда машины ставить. Я нанял шабашников, все одно они по городу слоняются, работы денежные вынюхивают. Нанял, установил сроки: к концу сентября гараж чтоб был готов. Переплатил им, конечно, зато выгадал по времени. А деньги эти, переплаченные, на другом отыграл. Контору построили таким же образом. Ограду провели. Светильники…
– Позвольте, Михаил Михайлович, – перебиваю, – но ведь это… ненормально получается, а? То есть я хотел сказать, что ежели так работать, то… Неужто и другие организации…
– Хе, ненормально! – Балдохин сдвигает на затылок шляпу. Для тебя – ненормально, а для нас, хозяйственников, давным-давно стало нормой. Годами так работаем, десятилетиями. Он мне, а я ему. А иначе – как? Об этом всюду знают – в трестах, главках, министерствах. Если бы я варился сам по себе, то за мно-огие годы не расхлебался бы, сидел бы на пустыре в дощатой будке. Ждал, когда это мне трактор по разнарядке дадут. Нет уж…
Зимой я еще раз побывал на базе Вторсырье. Балдохин сидел в кабинете, за столом, спиной к окну. Зашел он взять нужную бумагу, сел, задумался. В бессменном поношенном полушубке своем, полушубок расстегнут, воротник поднят. Без шапки, спутанные волосы на лоб. Смотрит перед собой в стол, молчит. По обе стороны от него на стенах различные знаки высокого труда – дипломы, свидетельства, вымпелы, почетные грамоты, поздравительные телеграммы всевозможных инстанций.
Наблюдая за Балдохиным, думаю, что, вероятно, этому человеку тесно в рамках вторичного сырья, хотя для меня уже давно было ясно, что как хозяйственник он ходит по краю.
– Устали, Михаил Михайлович? – спрашиваю. Мы почти ровесники с ним, но, разговаривая с Балдохиным, я всегда ощущаю разницу в возрасте этак лет в пятнадцать. Обращаюсь к нему на «вы», обращаюсь с почтительностью. Почему – объяснить не могу. По моему убеждению, в подобных людях таится страшная взрывная сила. Не она ли настраивает нас на подобное обращение…
Да, думаю, тесновато такому здесь. Необходимо что-то другое, крупное. Трест. Синдикат с множеством ответвлений.
– Нет, – отрицательно качает головой Балдохин, – никаких трестов. Устал. Сверх всякой меры. Восьмой год без отпуска. И не первое предприятие на веку своем рабочем вытягиваю из грязи в князи. А работаю с тринадцати лет. Без отца жили. Брата поддерживал, помог образование получить. Мать до последнего дня была на моих руках. Сам-то заочно техникум народного хозяйства одолел, вот и все ученье. Устал. Предлагали недавно перейти в одну контору, замом. На «Волге» кататься. Отклонил.
А вот отдохнуть бы пора. Давали в прошлом году путевку бесплатную в путешествие на пароходе, с заходом в разные страны, отказался. А надо бы согласиться. Поехать, посмотреть. А то так и жизнь вся пройдет в хлопотах…
Тогда же возил он меня смотреть магазин «Силуэт», открытый на одной из улиц города. Построенный со вкусом, как и контора, напоминая видом терем, отделенный от проезжей части елочками, «Силуэт» украшал улицу. Магазин работал, принимал макулатуру, выдавая взамен товары: книжки, что не купишь в книжных магазинах, шампунь импортный, другую парфюмерию…
– Первый в городе, – кивнул Балдохин. – Намечено построить ряд подобных магазинов. Скоро пустим по улицам специальные вагоны, они будут служить передвижными приемными пунктами. Развернем пропаганду плакатами, рекламой, объявлениями. И народ пойдет к нам. Дело сделано – заложена основа, создан коллектив. Будем продолжать работу…
Месяца через два Балдохина сняли. Дней около двадцати ходил он понурый, редко с кем разговаривая, спрашивая одно и одно: «За что? Почему? Не понимаю. Разве для себя старался? Для государства. На пустыре… На бурьяне воздвиг… За что?»
Потом – смотрю, подъезжает к дому на машине опять, но не на «Москвиче», на другой совсем. Закрыл дверцу, руку протягивает. Повеселевший, прежний Михаил Михайлович Балдохин, как в лучшие часы жизни. Костюм на нем клетчатый, галстук. Причесан.
– Как поживаете? – спросил я, видя явную перемену.
– Живу. Работу вот подыскали. Первый день сегодня…
– И где же вы теперь?
– На тарной базе. Директором. Бывшего отстранили.
– Ну как там, на тарной, дела?
– На тарной? Развал. Полнейший развал. Подымать буду.
И пошел, прихрамывая, к подъезду.
Подъезжая под Раздоры
1
Неделя прошла в заботах, дни стояли облачные, душные, как перед грозой, Григорьев уставал от встреч-разговоров по учреждениям, куда приходил, будучи командированным, больше уставал от сутолоки огромного города, машин, запаха перегоревшего бензина, и в пятницу, возвращаясь под вечер в гостиницу, чувствуя на спине и под мышками мокрую рубашку, он думал только об одном: скорее добраться, скинуть одежду, помыться и лечь.
Окно номера выходило в гостиничный двор, где росли высокие старые деревья, уличный шум почти не беспокоил – это было отрадой, окно было открыто постоянно, но свежести, даже среди ночи, ничуть не ощущалось, все ждали грозу с ливнем, после которой меняется погода, но гроза и ливень никак не могли собраться.
Повернув в дверях ключ, Григорьев поставил к стене портфель, стянул рубашку, разделся, шагнул в ванную комнату и долго и с удовольствием мылся: сначала просто лежал в теплой воде, откинувшись затылком на край ванны; спустив воду, на коленях, согнувшись, намылив дважды, промыл под краном голову, намылился весь, растерся длинной удобной мочалкой и встал под горячий сильный душ, подставляя под струи спину, грудь, ухая и улыбаясь.
Босой, в одних трусах, с полотенцем на плечах, не расчесав волос, Григорьев прошел к столу, сел в мягкое кресло, налил из сифона полный стакан газированной воды и, глядя в окно, стал пить маленькими глотками, щурясь и морща нос от газа, поднимавшегося пузырьками со дна и стенок стакана.
Закончилась неделя, пятница была, вечер, второй жилец по номеру уехал утром, днем никого не подселили и, судя по всему, не должны были подселить до понедельника. Лежа поверх одеяла на кровати, просматривая, уже при свете настольной лампы, купленные утром газеты, отвлекаясь от газет, Григорьев думал, что все это хорошо – побыть вот так одному, но впереди подходило два выходных дня, надо было как-то занять их, чтобы не томиться и не скучать, и Григорьев стал размышлять – как занять.
Можно было пойти в театр или на концерт, так поступало большинство приезжих, но театралом особым он не был, хотя, случалось, ходил в театры, да и билетом заранее не запасся, а стоять за версту от театра, спрашивая, нет ли лишнего билета, показалось неудобным. Столичные музеи знакомы были Григорьеву по прошлым наездам, приятелей здесь он не завел. Оставались еще магазины и просьбы жены купить то и это для семьи – список необходимых покупок, составленный женой, лежал в портфеле, – но хождение по магазинам для Григорьева было куда тяжелее, чем духота и толчея на улицах и в троллейбусах, он всегда оставлял магазины на предпоследний день, покупал, что попадалось на глаза, обычно же говорил, что обошел множество магазинов, но нужного не видел.
Были у Григорьева в Москве старые добрые знакомые, приезжая, он обязательно звонил им, но ненадоедливо, привозил гостинцы со своей стороны, приглашался в гости. Иногда, по погоде, будь то лето, как теперь, или осень, они выезжали за город на день – субботу, воскресенье, и не на дачу – дачи не было, а просто за город: в лес, на речку. Григорьев подумал, что, конечно, самое лучшее сейчас – связаться с ними, уговорить, а может, они и сами собираются, поехать куда-нибудь, в сторону Загорска скажем, сойти, где не так людно, побродить по перелескам, полежать в траве, подышать.








