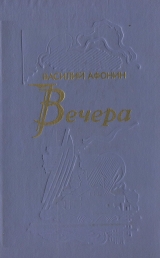
Текст книги "Вечера"
Автор книги: Василий Афонин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Сказал я жене про участок, а она и слушать не хочет. Не люблю, говорит, я эти сады-огороды, как и сибирскую природу твою, как и всю деревенскую жизнь. Хочешь – заводи, только сам станешь участком тем заниматься. Просто поехать за город – другое дело. Снять где-нибудь избу недельки на две. А участок – зачем. На том разговор наш о сельском хозяйстве благополучно закончился…
Так вот, после очередной ссоры, переживал, размышлял я, планируя, как бы это улучшить нашу, жизнь, а время между тем шло. Взяла жена декретный отпуск, и поехали мы проведать ее родных. Представьте себе степь, где ни речек, ни озер, не лесов, в степи этой городок, а в нем рудники и всякие там предприятия с коптящими в черное небо трубами, деревья с пожухлой листвой. На одной из окраинных улиц старый дом. В нем жила мать моей жены с младшей дочерью своей, мужем ее и сыном – четырехлетним парнишкой. Когда я увидел тещу, больную, изработанную вконец, давно уставшую от жизни, встававшую чуть свет и ложившуюся в постель к полуночи, я вспомнил мать свою и товарок ее – деревенских баб наших, которые тянули вместе с быками колхозное хозяйство в войну и еще долго после, пока не состарились совсем и не ушли на пенсию.
Я сразу стал называть тещу матерью, помогал, как мог, пока гостил, и, судя по всему, понравился ей тоже. На руках ее находились дочь и зять, да еще мальчишка, которого собирались отдать в детсад и все почему-то не могли отдать. Помня, что я гость, я старался относится к молодым по-родственному: вежливо и ровно. С тещей мы помногу разговаривали, и когда она спросила, как мы живем, не стал ее огорчать и сказал, что живем мы хорошо.
Родители мои, через полгода после того, как мы навещали их, поженившись, приехали навестить нас. Они привезли нам деревенских гостинцев, но жена встретила их нехорошо. Она почти не разговаривала с ними и всячески старалась показать, что приезд их ей неприятен. Это были мои родители, я их любил, как любила она свою мать, а я был уверен, что она любит свою мать, ничего плохого они ей не сделали, наоборот, на первых порах нашей жизни старались, как могли, помочь, несмотря на старость свою и немощь. Но жена моя, считая меня виновным во всех неудачах семейной жизни, считала виновными и родителей. Родители, видя и понимая все, скоро уехали. Провожая и прощаясь, я не мог смотреть в лица им, так было стыдно. По правилам игры, мне следовало бы тогда устроить дома скандал вплоть до рукоприкладства, как это приходилось часто наблюдать и в сельской, и в городской жизни, но давно и твердо понимая, что никогда никакими скандалами дела не поправишь, не стал затевать я даже разговора. Кроме того, я надеялся очень, что со временем она все поймет и изменит свое отношение и ко мне, и к моим близким. А тут еще беременность ее и привязанность моя: привязался я к жене очень, несмотря ни на что. Вот ведь как случается…
Значит, гостил я у тещи. Жена, к удивлению моему, вела себя здесь иначе, чем дома. Плитку, утюг, свет выключала всегда. Не глядя на свое положение, старалась помочь матери, хотя бы помыть посуду, и все это без материных просьб и моих напоминаний. Была ласкова и делала все, чтобы мне в гостях понравилось. Побыли мы, сколько позволяло время, простились и уехали к себе.
А потом родилась у нас дочь. Начались пеленки, стирка, варка, сон, прогулки, опять сон, вызов врача, охи, ахи, опасения, всякая канитель. Декретный отпуск жены закончился, она продлила его на год, закончился и этот, мы стали думать, что делать. О том, чтобы в таком возрасте отдавать девочку в ясли, не могло быть и речи. Я звал тещу, она отказалась приехать, говоря, что без нее молодые пропадут. И верно, без нее они не могли прожить и дня. Жена тогда уволилась и сделалась домашней хозяйкой. Она заметно изменилась внешне: стала дородной женщиной, изменилась походка, манера говорить, изменился даже голос. Она стала еще медлительнее в движениях и все хотела спать, все зевала.
– Ты что, не выспалась опять? – спрашивал я ее. Она сердилась, считая это издевкой. Увлечения мои были забыты, я помогал жене по дому, не успевая просматривать даже газеты. Книг не читал…
Видно было, как день ото дня становилась жена все белее равнодушной ко всему, что называлось нашей семейной жизнью, забывая делать даже самое необходимое. Раньше, в первые месяцы, по пятницам всегда затевала она после обеда стирку, в субботу, позавтракав, начинали мы уборку квартиры: снимали всюду пыль, вытряхивали на улице ковер, половики; по полу у нас расстелены были пестрые деревенские половики – подарок моей матери. Меняли постельное белье, купались, и вечером, закончив все, садились к телевизору или читали книжки, помня, что завтра долгий свободный день – воскресенье. Теперь я неделями спал на одной и той же простыне, белье в ванной комнате лежало горой, пол был не мыт, паутину заметил я вдруг в углу большой комнаты…
– Ты постирала хотя бы, – говорил я неуверенно. – Белья скопилось.
– Все? – спрашивала она, глядя прямо в лицо мне. – Дал наряд?
Она и на себя подолгу не стирала. Поносит какое-то время платье или кофту с юбкой, снимет, наденет чистое. Когда чистая одежда заканчивается, она берет из кучи платье, что посвежее, погладит и носит опять. Утюг у нас почему-то стоял в кухне на подоконнике, а чаще всего – под столом. Садясь есть, я обязательно задевал утюг, и он падал мне на ноги. Возвратясь с улицы, жена опускала сумочку на пол прямо в прихожей, перчатки и шапку – она носила вязаные шапки – в одну сторону, плащ или пальто – в другую. Сапоги валялись в прихожей, носки она постоянно оставляла в сапогах, влажные носки, вместо того чтобы прополоскать и просушить их. Вначале в такие минуты я пристально смотрел на жену, в следующий раз говорил какие-то необходимые слова, а потом уже просто ходил следом, клал сумочку на свое место, шапку и перчатки на свое, плащ вешал в платяной шкаф, ставил в прихожей к стенке сапоги, вынув и постирав носки. Иногда я садился рядом и спокойно, не сердясь совсем, пытался разговорить ее, мне необходимо было знать, почему же мы так живем. Очень хотел я знать это.
– Послушай, что с тобой происходит? – спрашивал я жену. – Отчего ты так странно ведешь себя? Ответь, пожалуйста. Что тебе мешает?
– Я света белого не вижу, – сразу брала жена тон. – Должна же у меня быть хоть какая-то радость в жизни?
Или:
– У меня ребенок на руках, разве ты не видишь? Я измучилась вконец.
– Хорошо, – продолжал я, – тогда скажи на милость, как ты себе представляешь семейную жизнь?
– Ну, уж совсем не так, как у нас! – вскидывалась жена.
– Тогда как же?
– Не знаю, но только не так. Ну, что это за жизнь – сам посуди! Что это за жизнь!..
Тут я начинал стыдливо и тихо говорить о том, что все семьи, в общем-то, живут одинаково: в нашем доме, на нашей улице, в нашем городе, в других города и селах. С незначительной разницей. У всех дети, работа, заботы, будни, праздники и все остальное, что бывает в человеческой жизни. Ты это видишь и прекрасно понимаешь сама. Понимаешь ведь?!
– Вот уж не понимаю, почему я должна жить так, как живут все, – насмешливо спрашивала жена, и я терялся, не в силах ответить на этот глупый во многом и злой вопрос.
– А если бы у нас было несколько детей, – сказал я как-то на очередное ее возражение. – Четверо детей, допустим. Тогда как?!
– Ну вот еще чего не хватало, – фыркнула жена. – Тут с одним голова кругом идет, а то… Нет, хватит. С меня и этого вполне достаточно. Это ты по своей семье судишь, знаю…
Ребенок отнимал много времени, это я видел. Но он был спокойным, ночами не кричал, и редко когда приходилось вставать ночью, менять пеленки. Но ведь жена не работала, по магазинам ходил я, квартиру по субботам убирал я, стиркой теперь занимался я, гулял с ребенком, делал десятки других мелких дел.
Толкая перед собой коляску где-нибудь в тихом переулке, перебирая день за днем теперешнюю свою жизнь, теряясь в догадках, всегда вспоминал свою мать и как жили мы на Шегарке. Нас было шестеро детей, отец пришел с войны искалеченным, и каково доставалось матери. Она подымалась с зарей и шла на ферму доить коров, затем баб посылали звеном до вечера косить или жать, после вечерней дойки скирдовать солому, а то на ток, подрабатывать зерно. А ведь, кроме всего этого, было какое-то свое хозяйство, требовавшее времени, огород. Были мы, дети. Нас надо было одевать, обувать, кормить, учить. Воспитывать, как говорят сейчас. И несмотря на занятость такую матери и нищету, в какой мы пребывали, мы всегда были пострижены, помыты, прибраны. Холщовые в войну и после, потом из самой простой и дешевой материи наши штаны и рубахи были постираны, зашиты-заштопаны, прокатаны рубелем и каталкой. В четырехклассной деревенской школе и в соседней семилетке, куда мы ходили за шесть верст, живя по неделям в интернате, нас ставили в пример, хваля за аккуратность и чистоту в одежде. И когда матери говорили об этом на родительских собраниях, она краснела, опускала голову и начинала плакать. Такое у меня было детство.
Всякий раз после таких воспоминаний собирался всерьез поговорить с женой и всякий раз откладывал: сказанная женой фраза о радости в жизни измучила меня совершенно.
Но однажды я не выдержал, затеял разговор и тут же пожалел об этом. Вернувшись из командировки, увидел я, что в квартире, по обыкновению, не прибрано: трехнедельная пыль лежала на мебели, кровать жены – спали мы давно уже порознь – не застелена (кровать за ней каждое утро застилал я), пол не мыт, и белья грязного накопилось – не постираешь и в полдня. Сама жена сидела на кухне, читала газету. Отложила газету, перешла в комнату.
– Слушай, – сказал я в сердцах, – ну что же ты на самом деле, а?! Такая молодая, здоровая. Да у тебя бы горело все в руках. Посмотри на себя, на тебе… пахать можно, а ты спишь на ходу. Ты что, в квартире прибрать не могла?! Меня дожидаешься! Как не стыдно только, ей-богу! В конюшне чище, чем у нас!..
Если раньше во время ссор она плакала, звала мать, уезжать собиралась: схватит, что попадет под руку, и – за дверь. Дверью непременно ударит, спустится в подъезд или отойдет куда-нибудь от дома в темноту. Я в это время дверь закрою, поднимаю разбросанное. Через полчаса примерно слышно – идет обратно, стучится. Теперь она уже не плакала и к матери не собиралась. Она обычно оказывалась на кухне, руки ее двигались, ища чего-то: она могла просто смахнуть со стола посуду – таким образом бессчетно разбито было тарелок и чайных чашек. Она могла бросить на пол кастрюлю или чайник, погнуть, а то и сломать – я выправлял потом погнутое, выбрасывал сломанное, – ударить сковородкой о стену, на стене оставались вмятины. Признаться, я пугался этих минут.
– Подонок! – кричала она. – Мразь! Ты мне всю жизнь изуродовал! Лучше бы я в Москве по углам скиталась, чем так! Убирайся вон, никто не держит! (Один раз я сказал, что, пожалуй, лучше уйти мне от такой жизни.) Ненавиж-жу-у! И зачем я только согласилась?! Дура! Дура! Мамочка моя! О-о!
Дочь, глядя на нас, начинала реветь. Она уже чувствовала, что что-то не так. Плача, она бегала от меня к матери и обратно.
А я смотрел на обезображенное криком и злостью лицо жены и думал: «Гос-споди, в своем ли она уме?! И зачем я только затеял разговор этот». Раньше еще, до того как родилась дочь, да и после, до поры, пока не стала ходить и разговаривать, несколько раз говорил я себе: «Разведусь. Э-э, что за жизнь. Жил один до тридцати шести лет, даст бог, до семидесяти доживу. Перенесу все: позор, разговоры, сплетни. Оставлю все ей и уеду на Шегарку. Буду платить алименты, буду приезжать проведать дочь, летом к себе забирать, а жена – как хочет. Работу свою знаю, главбухом в леспромхоз пойду, в любое другое хозяйство – не пропаду небось. Хоть отдохну от визга, сосредоточусь, подумаю».
Чем больше не ладилось у нас с женой, тем сильнее тосковал я о прежней жизни, деревенской. По сути своей, я так мужиком и остался и понимал всегда, что вот от деревни оторвался, горожанином не сделался, хотя и прожил в городе порядочно. Изменился внешне за последние годы. Работа сидячая, движения мало: контора – дом. Огруз, живот наметился, дряблость в теле. Раньше я в четырнадцать лет один вон какие воза дров возил из леса, а сейчас взбегу на третий этаж – задыхаюсь. Сорок лет мужику – дожил. Нет, надо разворачиваться в обратную сторону.
Студентом, да и потом, пока холостяком жил, каждое лето ездил я на родину к старикам. Косил, дрова заготавливал на зиму. Бывало, то колодец выроешь, то погреб, изгородь подправишь, с огородом помогал. Много ходил, спал в сарае на сеновале. Посмотришь на себя: поджарый, загорелый, сила в руках и плечах чувствовалась. А сейчас… Уеду, избу куплю – на берегу чтобы, с баней, с огородом. В лес буду ходить, на омута с удочкой. Места родные, мужики там, из родственников кое-кто остался. Уеду. Столько лет уже не видел, как черемуха цветет.
Так примерно думал я, пока дочь лежала в пеленках, и я за скандалами, суматохой и заботами не очень-то обращал на нее внимания. А как подросла, да ходить стала, да разговаривать. Девчушка – загляденье. Главное – лицом в породу нашу. От меня мало чего, вся в мать мою пошла. Ухожена всегда. Жена ей волосы соберет на затылке в «хвост» да еще бант из алой ленты завяжет. Я любуюсь. Бегает по комнате, топает ножонками и все лопочет, все щебечет. «Папочка, почитай книжки, папочка, расскажи сказку. Папа, пой, а я буду танцевать». Сяду я возле стены в большой комнате и начинаю вполголоса: «Ка-лин-ка, ка-лин-ка, ка-лин-ка моя», а она танцует. А потом возьмется обеими ручонками за подол платья и кланяется: это она по телевизору видела, как дети танцуют. А я должен хлопать ей. Если забудусь, она напомнит: папа, хлопай. Вечером, перед сном, прибежит ко мне в постель, сказку послушать. Ляжет рядышком, притихнет, только глазенки мигают. Я начну рассказывать, а сам едва сдерживаюсь: слезы. Детство вспомнишь, как росли, как разбрелись потом один по одному из дому. Нет, думаю, никуда я от тебя не уйду, милая ты моя кровинушка. Пока есть силы, все их буду тебе отдавать. Ты первая, ты, видно, и последняя. А уйдешь – душой изболеешься: как ты там? да что ты там? Да еще дойдет до того, что чужого дядю станет заставлять называть папой. А что ж – заставит называть: такой характер…
Жена, как только в ссоре мы, все чаще и чаще начинала заводить разговор с дочерью, и громко, чтобы я услышал. «Пусть уходит, а мы с тобой другого папу найдем, правда, доченька. Никто не будет нам указывать. Над душой никто стоять не будет. Отдохнем хотя. Порядки свои устанавливать надумал. Видали его!..»
Дочь тотчас же бежит ко мне и… «Папа, уходи от нас, мы другого папу найдем, хорошего. Слышишь! Уходи, мама сказала так!» Для меня больнее этих слов нет ничего. Ну что тут скажешь. «Чему ты ребенка учишь? – спрашиваю я жену. – Зачем внушаешь такое, а? Неужто тебе не стыдно? Настраиваешь против отца!..» А она: «А что, не нравится разве? Так и сделаем. Так и будет. Паршивка! Дрянь! – кричит она тут же на дочь, когда та делает что-то не так. – Что за дите! Как тресну головой о стену, сразу поймешь! Вся в папочку уродилась, настырная! Пошла вон!..»
Я много раз видел, как дерутся супруги: муж бьет жену, наоборот. Гадко, что и говорить. Но я понимал тех, кого оскорбляют. Бывают моменты, когда трудно совладать с собой. Нет, я ни разу не ударил свою жену. Я лишь смотрел в лицо ее и мысленно говорил себе: «Дай мне, боже, терпение вынести все ради дочери. Дай мне, господи, терпение вынести все. Дай мне, господи, дай мне…»
Я притих, смирился со своей судьбой. Внутренне я, конечно, протестовал, но внешне старался быть спокойным, чтобы не вызвать очередную ссору. Я уже понял отчетливо, с кем живу, с кем имею дело. Жена моя, как выяснилось за прожитые годы, была безалаберна, ленива, медлительна, даже тогда, когда было желание что-то сделать. Она была скандальна в силу своего характера и, кроме всего, к стыду великому, скоро научилась врать. Встанет напротив, большая такая, жует обязательно что-нибудь и отвечает без промедления, о чем бы ни спросил. Я запрещал давать кому бы то ни было книги, она давала, не слушаясь. Книги возвращали затасканные, потрепанные, испачканные, с загнутыми, а то и вырванными страницами. Я садился, начинал приводить их в порядок.
– Зачем ты даешь? Ведь я предупреждал, – спрашивал я жену, показывая книги. – Смотри, что сделали. Сковородки ставили на них.
– А так было, – отвечала она, не смущаясь. – Ты разве не помнишь, что так было. Ну, вот. А делаешь мне замечания. Не стыдно?!
Еще она была из категории тех людей, которые стараются не в дом принести, а унести из дома. Мы никак не могли уложиться в мой заработок, денег постоянно не хватало, хотя для себя лично я ничего уже не покупал. В долги влезать не хотелось. Я стал подрабатывать, читал по вечерам лекции, не пошел в очередной отпуск, взяв отпускные, начал даже брать лотереи, в надежде выиграть. Деньги жене никак нельзя было давать: она шалела от них. Шла по магазинам и покупала все, что попадало ей на глаза, не считаясь с тем, нужно это или нет. Она не понимала, что значит думать о завтрашнем дне: есть деньги, значит, нужно их истратить. Я проделывал следующее: уезжая в командировку, оставлял ей продукты, оставлял денег в четыре-пять раз больше того, что могло ей понадобиться на самое необходимое. Приезжал через три недели: у нее оставались считанные рубли или совсем ничего не оставалось. И осмелься только спроси, куда она их потратила…
Пробовал я выпивать, но это, знаете, не выход. Выпьешь, вроде отпустит боль, забудешься на какое-то время. А наутро встал, голова болит, и все на своих местах, ничего не изменилось. Все больше тянуло меня оставаться одному, хотя бы на несколько часов, вечерами. Не получалось. По выходным я уговаривал жену пойти в гости, она соглашалась, но без дочери. Я просил взять дочь, обещая сделать уборку. Она уходила, случалось, на целый день: для меня это было лучше всего. Я начинал с посуды, потом тряпкой собирал пыль всюду, где она скапливалась, мыл полы и, передохнув, принимался стирать. Сначала дочкины вещи: колготки, рубашки, носочки, маечки-трусики, затем женино белье и заодно постельное, если накопилось. Себя обстирывал давно уже, как и в холостые годы, зашивал, когда порвется что, и штопал носки. Жена штопать носки не любила, хотя и маленькая дырка, выбросит их тут же и покупает новые. А старые еще носить бы да носить. Но я помнил, как мать следила за нашей одеждой, и старался следовать ей. А уж как износятся совсем, тогда и выбросить можно…
Стираю, и так чего-то вдруг лихо станет мне, тогда запою я, как могу, для себя. И вспомню тут же, как пел в парнях в деревне своей. Бывало, расходиться начнем от конторы – вечерами летом возле конторы собирались, под тополями, – перед тем как разойтись парами по переулкам, сговоримся еще пройти через всю деревню из конца в конец. А ночь на исходе, свежо, вот-вот заря. Впереди гармонист, девки сбоку его, мы, парни, сзади. Как запоем «Вот кто-то с горочки спустился…», да с подголосками. Кто из ребят и не поет, все равно идет рядом, волнуется. Друзья-подруги, разбрелись потом кто куда, не дозовешься, не докричишься…
Закончив стирку, осматривал я обувь жены, в каком она состоянии, может, почистить надо или помыть. На улице осень, грязь, но она шла напрямую домой, мимо травы, о которую могла бы обтереть сапоги, мимо луж, где могла бы смыть грязь. Снимала сапоги в прихожей, оставляя следы, а я подтирал их, мыл и сушил сапоги, ботинки, надеясь, что она догадается и сама станет делать это. Но она привыкла к моей помощи и стала считать, что так оно и должно быть. Да что там обувь. Идет, к примеру, она из одной комнаты в другую, поставь в стороне шагах в трех табуретку, все одно ногой зацепит, сшибет. Такой уж человек.
Приведя в порядок обувь, осматривал одежду. Бывает, пуговица оторвется совсем или висит, едва держась на нитке. Жена так и выходит на улицу. Мне же стыдно от людей, они, глядя, думают, конечно: что же ты такая молодая, а безалаберная, не следишь за собой. И подсказать тебе, видимо, некому…

Управясь, я ложился почитать газеты, скопившиеся за неделю, или просто лежал себе, думая о разном. Жена вернется из гостей, глянет на сделанное, скажет нехотя: «Ты что, пододеяльники опять руками стирал?» – «Руками, – объясняю, – машиной не умею». – «Мылом небось?» – «Нет, в порошке замачивал. Прополаскивал два раза: в теплой, потом – в холодной. Не беспокойся, все хорошо получилось…» Так вот и жили.
Месяц назад отправил их к матери ее, сам не поехал. Какая к тому же охота – год ждать отпуска, а потом ехать черт-те куда, в другой, еще более промышленный город, дышать угольной гарью. Да и стариков надо было попроведать. Они плохие совсем, мать еще шевелится кое-как, отец же больше лежит, на улицу выходит редко. Я им помогал все дни; вечерами гулял: уйду за село, простору много, а все не то, не родина, душой на Шегарку тянешься. Старики теперь в селе живут, ближе к районному центру. Перед сном раздумаешься, опять же о жизни своей, о семье, как там жена с дочерью без меня. Письмо им написал. Жене я простил все, да и как не простишь, поразмыслив – ведь моей вины больше. Поставил я себя на ее место, представил ее в тот момент, как собиралась она ко мне, после моего предложения, как ехала к незнакомому почти человеку, убегая от московской среды, от скучной жизни той, которой жила в деревне, учительствуя. Надеялась, что окажусь я человеком интересным, а значит, и жизнь будет интересной, непохожей на прежнюю, новая, волнующая жизнь. А что я ей предложил? Да ничего. Оказалось, что надо готовить обеды, стирать, убирать квартиру, рожать детей, выхаживать их, ходить на работу, ходить по магазинам, опять стоять на кухне. И так – вкруговую. Что ж тут интересного? Обычная жизнь, как и у других. Она поняла сразу, что ничего хорошего из ее переезда не получилось, заскучала, настроилась против, и – началось. Видно, одному мне надо было жить, не могу я другим людям приносить счастье. Но и одному век свой жить – не лучшая доля…
Побыл я у стариков, домой вернулся: письма от жены нет. Надумал тогда съездить в низовье Шегарки к двоюродному брату: давно не виделись. Лесником он там, в деревне. Поживу у него, отдохну душой, по полям поброжу, листопад скоро, в лесу поброжу, порыбачу на Шегарке. Отдохну, потом обратно, встречать своих. Девочку в сентябре в сад отдаем, жена на работу пойдет. Она мне заранее заявила: работу сама найду, не вмешивайся. Хорошо, говорю, делай, как тебе лучше. Пусть ищет, устраивается, может, легче станет с деньгами. Кажется, подплываем. Брат встречать должен, телеграмму отбивал ему. Отсюда до их деревни верст пятнадцать, на телеге поедем, ночью по лесу, хорошо…
Глава 2
Рассказ замужней женщины
В то лето, как выйти мне замуж, сразу же после окончания учебного года и роспуска учеников на каникулы, заехав на два дня к матери, я отправилась в Москву, где остановилась у своей знакомой, с сестрой которой мы пять лет учились в педагогическом институте и были хорошими приятельницами.
Признаться, она вовсе не нравилась мне как человек, эта моя московская знакомая, но что было делать, когда никого другого в Москве у меня не было. В отличие от своей сестры, женственной, спокойной и домовитой, она была, я бы сказала, даже, очень непривлекательна, худа, кроме всего – манерна, капризна и, как это говорят, чрезмерно экспансивна. Но все это было, как я думаю, от желания обратить на себя внимание, а внимание обращать было не на что.
Я заранее сообщила о своем приезде, и знакомая встретила меня. До этого я уже была несколько раз в Москве и всегда находила знакомую на новом месте: она снимала комнаты. Сейчас в ее распоряжении была целая квартира, состоящая из большой комнаты и комнатушки, заставленной старой мебелью, рухлядью, ящиками с книгами, кухни и прихожей. Хозяева квартиры уехали куда-то надолго, и знакомая моя блаженствовала. Мы ходили на спектакли (ради театра я и приехала в Москву), если удавалось достать билеты, редко – в магазины, потому как покупать особого ничего я не собиралась, денег у меня было достаточно только на то, чтобы прожить месяц в этом городе, вернуться с гостинцами к матери и дотянуть, не занимая, до первой зарплаты.
Когда еще мы шли с вокзала, знакомая, улыбаясь, сказала мне, что живет она не одна: вчера ее московская подруга привела к ней интересного мужчину, своего бывшего сокурсника, и попросила принять его на некоторое время – он здесь в командировке. Когда мы пришли, командированного дома не было. Хозяйка засобиралась по делам, я проводила ее, вернулась и от нечего делать, сев на подоконник раскрытого окна, смотрела на улицу. В это время появился он – мой будущий муж. Не могу сейчас сказать, понравился он мне или нет, когда я впервые его увидела, но когда он вошел и поздоровался, я сразу же подумала: «Все, этот человек будет моим мужем. Никто, только он».
Он медленно двигался и медленно разговаривал, а голос у него был спокойный и глухой. Он был высок ростом, слегка сутулился, что ничуть не портило его фигуры, – таких людей называют сутуло-стройными, – и носил бороду. Надо сказать, борода шла к его продолговатому лицу. У него было лицо умного мужика, хмурое лицо с внимательными глазами, которое оставалось печальным даже тогда, когда он смеялся. А смеялся он редко. Русые волосы он зачесывал назад и чуть набок и всем своим видом, манерой говорить, покашливая, напоминал знакомых по книгам дочеховской поры писателей из народа. Он сразу же вошел в комнатушку, которую уже освободили: ящики поставили штабелем к противоположной от кровати стене, остальное вынесли в прихожую.
Пришла хозяйка, потом подруга ее, гостя звали пить чай, но он отказался, сказав, что поел в городе, устал и хочет отдохнуть. Мы засиделись за разговорами допоздна, а он так и не вышел к нам: рано уснул.
Итак, стало нас в тереме трое. По утрам хозяйка и гость уходили. Хозяйка вставала раньше всех, ей далеко было добираться до работы. Я подымалась поздно, пила чай, потом шла в музей, на очередную выставку или просто бродила по городу. В мои обязанности еще входило покупать театральные билеты, что я и делала, когда спектакль был интересный. Иногда это удавалось, иногда нет. Устав, я возвращалась домой и, читая что-нибудь, ждала, когда явятся хозяйка и гость. Он приходил всегда после четырех, умывался, отдыхал с полчаса и звал меня гулять. Если хозяйка была дома, она тоже изъявляла желание гулять, и мы отправлялись втроем. Заметно было, что гость нравится хозяйке, и она всячески красовалась перед ним: то распустит волосы, то соберет их или еще что-нибудь, а он был с нею одинаков, официально-любезен, и не более того. Хозяйка скоро созналась мне сама, что гость ей симпатичен, и она была бы совершенно не против поиграть с ним. Она так и сказала – «поиграть». Он же никак не отвечает на ее знаки внимания. Я сказала тогда, что у него, по всей вероятности, семья, человек он, судя по всему, порядочный, и чего бы ему, уехав на несколько дней от семьи, затевать с кем-то там игры. Кажется, я слишком эмоционально произнесла эту фразу, потому что хозяйка посмотрела на меня, прищурясь, и рассмеялась нехотя, с плохо скрытым злорадством.

«Это совсем ничего не значит, что есть семья, – сказала она. – Жена не стена, можно отодвинуть». И опять рассмеялась.
Лучше было, когда мы гуляли с ним вдвоем. Он не любил шумных улиц, говорил, что родился и вырос в деревне, к городу никак не может привыкнуть, хотя и живет в городе давно, что в отпуск каждое лето ездит на родину на речку и назвал эту речку: странное какое-то название было у нее. Я поинтересовалась, что это за речка и где она. «На северо-западе Новосибирской области, – сказал он, – славная такая речка, приток Оби, лесная». И спросил, случалось ли мне бывать в настоящей тайге. Я сказала, что не случалось. Разговаривая, мы пробирались различными переулками, но гулять всегда приходили на одно и то же место: на Красную площадь. Он почему-то любил ходить туда. Долго смотрит на Кремль, на храм Василия Блаженного, думает о чем-то. И молчит. Спросишь, а он и не слышит вовсе. Еще к реке спускались. Но река не нравилась ему: берега камнем выложены…
Если не гуляли и не ходили в театр, то сидели дома. Обычно по вечерам бывало у нас шумно. Приходила знакомая гостя, что привела его сюда, московские подруги хозяйки. Садились за стол и до полуночи: чай или кофе, сигареты, разговоры. Иногда выпивали. Я видела, что гостю совсем неинтересно с нами. Раза два он посидел за столом, принеся вина, потом же под разными предлогами отказывался. С сокурсницей, как я понимала себе, ничего их не связывало, даже институт, о котором они и не вспоминали. Мы для него были людьми чужими. И старше он был каждой из нас намного. Да и разговоры были легкие: начиналось с анекдотов, анекдотами заканчивалось, а он их, чувствовалось, не любил, морщился и краснел, когда произносили что-нибудь рискованное. Он, верно, думал, что это нарочно, чтобы ввести его в смущение.
Но и между собой мы пересказывали услышанные на стороне сплетни из жизни столичной интеллигенции, а чаще всего вели разговоры на темы пола: эти разговоры, как я давно заметила, являются сладостными для всех или почти для всех и возникают всюду: в застолье, в дороге, на работе, там, где только собираются несколько знакомых людей. Так вот и теперь…
В нашей компании я была единственная девушка, это обстоятельство временным подругам моим казалось забавным, они принесли перепечатанную на машинке рукопись, интимного, как сказала хозяйка, содержания, и предлагали и советовали мне прочесть, говоря, что все это пригодится, когда я стану жить с мужчинами. Так и говорили: «жить с мужчинами». Я догадывалась, что за интимности были описаны в рукописи, и отказывалась. Я боялась, что они начнут показывать открытки или альбомы или журналы, так как была абсолютно уверена, что такое у них водится. Но, слава богу, до альбомов дело не дошло. Рукопись же они скоро унесли кому-то, читать.
Конечно же, в свои двадцать шесть лет я знала все об отношениях мужчины и женщины и без подсобной литературы, наблюдая жизнь вокруг себя, слыша различные разговоры, домысливая сама. В институте девчонки по-разному относились к добрачным связям: одни – легко, не видя ничего страшного в этом, надеясь как-то объясниться с будущим мужем, если придется объясняться, а не придется – еще лучше, другие боялись и подумать об этом. Я была на стороне вторых. За время учебы несколько раз создавались ситуации, когда я могла стать женщиной, но всегда меня вовремя что-то останавливало, и прежде всего мысль, что вот настанет время искренней любви к какому-то человеку, и я приду к нему, и как стыдно мне будет говорить о состоянии своем, и как он будет огорчен и расстроен. И, возможно, этот момент огорчения будет первым моментом недоверия ко мне, и жизнь наша в дальнейшем не сложится так хорошо, как должно быть. Я говорила об этом девчонкам – многие смеялись надо мной…








