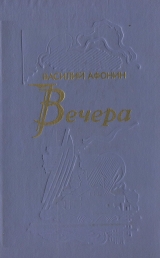
Текст книги "Вечера"
Автор книги: Василий Афонин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
Более других, знал Шурка, заботились в колхозе о малых телятах, ну, о коровах еще. Телят оберегали: поголовье стремились увеличить, а коровы, известное дело, давали молоко. Плохо станешь ухаживать – столько же и получишь. Быкам же, считалось, и так ладно. Ну, летом – летом, успевай, на траве вольной набирай силы. Зимой же быкам, при их работе, втройне бы надо давать корму. Ан нет. С осени еще, когда сена достаточно, быку давали меньше, чем корове, а уж к весне им, кроме соломы, ничего не перепадало. Одно спасенье, если за сеном изо дня в день в поля ездят, там, возле стога, пока воз накладывают, ест бык, сколько сможет. А поехали за дровами, поставят по брюхо в снегу, рогами к березе, и стой, мерзни, жди, как нагрузят сани. Во двор скотный вечером загонят, там пусто уже, холодно и темно. Спи стоя, во сне поешь сенца…
Не зная, поил скотник быков или нет, Шурка на всякий случай подогнал его к конной проруби, но бык пить не стал, понуро постоял возле воды, опустив голову с обломанным правым рогом. Шурка взмахнул хворостиной, и Староста стал подыматься на берег по тропе, что вела мимо бани к дому. Шурка подумал, что бык, вероятно, болен. Они ведь тоже болеют, животные, как и люди, да не жалуются, и потому никто не знает, что у них болит и сильно ли. Видимо, он был простужен или надорван работой. А то и все вместе. Да еще стар. Коровы и быки стареют быстро, а кони еще быстрее. В десять – двенадцать лет конь уже почти никуда не гож, редко запрягают его, без груза проехать разве. Бык живет дольше и в работе дольше занят, но и его век – годы считанные. Каждую осень почитай проводят выбраковку и коней, и быков, старых отправляют, молодых по первому снегу обучают ходить в оглоблях. Ребятишки всегда бегают смотреть, как обучают…
Шурка загнал быка в ограду, закрыл калитку, проворно забрался по стоявшей возле стены лестнице на крышу двора, где небольшим зародом было сметано сено, не снимая рукавиц, надергал две большие охапки, сбросил, спустился сам. Пока он спускался, бык подошел к сену и начал есть. Стоя на крыльце, Шурка наблюдал, как ест бык. Сено было доброе, не низинное – с луга, убранное по погоде, но ел бык не жадно, хватая, как говорят, полным ртом, ел размеренно, вроде бы с неохотой, и Шурка окончательно решил, что бык болеет. Сытым бык не был, точно. Сейчас он будто бы ничего, ест. А в лесу? Вдруг что-нибудь случится. Накладешь воз, а он не повезет. Или возьмет издохнет. А что с ним сделаешь? Издохнет, и все. Что тогда. Тогда, известное дело, веди корову со двора, расплачивайся. По вашей вине, скажут матери, бык издох. И слушать никто не станет оправданий твоих – плати. Заберут, не дай бог, корову. А без коровы какая жизнь, любого спроси?..
От мыслей этих Шурке стало на малое время не по себе, он потоптался на крыльце, не зная, что предпринять, поглядывал на Старосту. Но делать было нечего – надо ехать. Не погонишь ведь обратно на ферму быка, не станешь объяснять бригадиру, почему вернул. Бригадир и не поймет, засмеет – хорошо, а то отматерит, а быка отдаст тут же другому. А ты дожидайся заново очереди своей. Нет уж, поедет Шурка. Ничего, как-нибудь, помаленьку. Дорога наезжена, воз большой накладывать не станет. Берез постарается навалять рядом с дорогой, чтобы не сворачивать в сторону, не гнать быка в глубокий снег. Хватит, поди, сил на один-то воз.
Шурка оглянулся: рассветало заметно, но солнце еще не всходило, – на восходе самый мороз, насквозь продерет. Размышляя о быке, Шурка забыл о себе: холодно ему или нет. В лес он поверх пальтишка отцову шубу наденет, а в лесу работой разогреется. Зимний рассвет – поздний, и день зачастую слепой, без солнца: взойдет оно во мгле и зайдет во мгле, не проглянет за целый-то день, не увидишь. Но сегодня, судя по всему, день должен быть солнечным: деревья в куржаке, небо ночью было высоким и звездным, луна светила ясно. Заискрятся в полдень снега, весело станет и в полях, и в лесу. Хотя что солнце. В какую погоду только не приходилось ездить Шурке за дровами. Да хоть и в поля.
Голосов и звуков по деревне прибавилось, слышал Шурка. Возле каждой избы кто-то из семьи управлялся. Запрягали, перекликаясь, ездовые лошадей на конюшне, быков гнали со скотного двора, в санях ехали. Шли в контору люди, спускались на Шегарку продолбить проруби. И сизые дымы ровно, плотными на морозе столбами подымались над трубами, над заснеженными крышами изб – бабы топили большие печи. Многие протопили уже, как мать.
Обметая веником голиком валенки, Шурка вошел в избу. Братья уже встали. Лампа была зажжена, а Федька с Тимкой сидели друг против друга за столом, завтракали. Лохматые тени от их голов двигались по стене. На столе стояла алюминиевая тарелка с драниками, деревянная чашка с простоквашей. Федька с Тимкой ели драники, по очереди черпая ложками простоквашу. Братья были босиком, поджимали под лавкой ноги.
– А кто вам разрешил зажигать? – кивнув на лампу, строго спросил Шурка. – Стекло разобьете – где взять новое? Пожара наделаете – сгорит все до нитки, что тогда? По миру пойдем? Сколько раз говорили?! Кто надумал? Федька, ты небось?..
Братья перестали есть, молча поглядывали один на другого. Шурка тем временем разделся, складывая пальтишко и шапку на кровать. Валенки он снимать не стал. Помыл над тазом руки.
– Мы осторожно, Шурка, – сказал Федька тихо. – Ты не ругай нас. Тимка стекло держал, а я зажигал лампу. И спички положили на место, глянь. Во-он, куда мамка всегда кладет, на припечек.
– Ладно, – сказал Шурка. – Молодцы, что осторожно. Но больше сами не трогайте. Помните, какой пожар был у Сычевых? То-то и оно.
Он жалел братьев и устыдился тотчас же своего сурового голоса. Но и к лампе их подпускать ни в коем случае нельзя.
– Вы хоть умылись или сразу за стол? – Шурка взял щербатую материну ложку, сел рядом с братьями. Посмотрел на лица их: умывались вроде. Стал завтракать с ними.
Драники – еда не еда. Их надо есть прямо со сковородки, обжигаясь. В драниках всего и радости, что горячи: ни сытости, ни вкуса в них. Теплые, как вот на тарелке, в полохоты ешь, а уж остыли ежели, то и в рот не полезут, даже с молоком. Шурка вылил из кринки в чашку остатки простокваши, взял два драника.

Моет вечерами мать картошку, а Федька с Тимкой, меняясь, сдирая до крови пальцы, трут ее, неочищенную, на терке в большой развалистой чашке. Перемешав, мать отжимает картошку в ладонях, оставляя в чашке сок. Сок отстаивается, на дне, пальца на два-три, оседает крахмал, верхний слой – мутная вода. Воду сливают, крахмал идет на кисель, а из отжима, добавив долю муки, мать печет хлеб, по воскресеньям ради праздника еще и драники. Съел их, горячих, штук пятнадцать, наелся не наелся – не поймешь, но живот полный. Часа через два-три опять есть охота. Но все одно просит Шурка с братьями драников по воскресеньям, без них вроде и воскресенье не то, не отмечено. Для блинов муки нет, так хоть драники. И мать ест их с охотой.
– Шурка, ты за дровами поедешь? – спросил Федька. – Возьми меня с собой, а? Я тебе пособлять буду. Помнишь, мы ездили с тобой осенью, снег только-только выпал? Ведь я все правильно делал тогда, как ты показывал, правда? И кряжи отпиливал, и ветки оттаскивал в стороны. Здоровенный воз привезли. Уморился-я…
– Правда, – кивнул согласно Шурка, – ты тогда хорошо работал. Мы вдвоем три раза ездили, забыл? Ох, и повозился я с тобой, пока соображать стал ты…
– Дуплянку на скворечню привези, Шурка, – попросил Тимка, подняв на брата чистые глаза свои из-под нависших нестриженых волос. – Привезешь? А то Петька Силин хвалился, что у него новая есть.
– Привезу, если попадет, – пообещал Шурка. – Сегодня тебя не возьму с собой, Федька. Хвораешь ты, да и холодина. Вот выздоровеешь, тогда. По теплу поедем, в марте. Все вместе. И Тимка, пусть приучается. В марте. Теплынь, дни большие. Тогда и дуплянок поищем. К весне их несчетно будет, дятлы наделают. А сейчас рано. Вы не балуйтесь тут, ждите маму. Лампу потушим, со стола уберем. Как светло станет, оденьтесь потеплее, навоз вывезите на санках в огород. Я дров привезу, завтра пилить начнем. Мы с Тимкой, а ты, Федька, колоть. В поленницу сложим. Лезьте пока на печь, играйте. Да на дворе не деритесь, я узнаю. Федька, слышишь? Не тронь Тимку. Ты зачинщик первый…
Братья начали убирать со стола посуду, а Шурка тем временем одевался около двери. Штанов у него двое: в одних он в школу ходил, в других помогал по дому. На эти, рабочие, Шурка надевал еще штаны, совсем уже изношенные, но без прорех, и штанины сразу же напустил на голяшки валенок, чтоб снег не попадал. Валенки у Шурки давние, самим и подшитые, тонкие, серой шерсти валенки – последнюю зиму донашивает их Шурка. Пришитые подошвы держались, он вчера еще осмотрел валенки внимательно – и на голяшках, и на сгибах дыр не было. Легкие валенки, удобные, на шерстяной носок обувает их Шурка. Ногам просторно, а это – главное, чтоб нога не была стиснута. Чем теснее ноге, тем скорее мерзнет она.
Пальтишко у Шурки на вате и шапка на вате. Пальтишка другого нет, и всякий раз жалко в этом ехать в лес: как ни оберегайся, зацепишься за сук, порвешь. А когда новое справят, он и сам не знает, не загадывает зря. Как ни натягивай шапку, как ни завязывай плотно наушники под подбородком, ни сдвигай козырек на глаза, чтобы лоб не жгло, не убережешь голову от холода. Сколько раз, при отце еще, просил Шурка сшить ему овчинную шапку, а все никак не получалось. Сдавали овчины, рассчитывались за налоги, а если оставалась какая, то копили их годами – шубу скроить, хотя бы одну на семью, надевать по очереди. Кто же рискнет целую овчину на шапку резать. Шубу – Шурка маленький был совсем, в первый класс ходил, что ли, – сшили отцу, собрали овчины. Отцу без шубы невозможно было, ходил он ночами амбары колхозные сторожить, мерз. Теперь висит она на гвозде в простенке, между большой печью и дверью, надевают ее попеременно мать с Шуркой, больше – мать, Шурке она велика, он в ней за дровами ездит. Варежки у Шурки крепкие, и верхонки на них крепкие, непродранные.
В лес ехать по морозу – уметь одеваться надо, Шурке давно растолковали. Одеваться потеплее нужно, конечно, но одежда чтобы просторной была, свободно сидела на тебе, не стягивала нигде. Другой надевает на себя все, что есть, и думает: спасся от холода, а сам повернуться не может. Завалится от двора в сани и – до самого леса. Лежит, не повернется. Не пройтись ему следом за санями, не пробежаться, греясь. А приехал в лес, начал работать, да в снегу глубоком, взмок тут же, сил нет. Скинуть лишнее с себя боится – тепло потеряет, и в одежде ловкости нужной нет, вот он и возится едва-едва, пыхтит, потеет. Взопреет сразу, сядет – пар от него. Уж и не работник, воза доброго не соберет…
Взяв шубу под мышку, сказав братьям: «Смотрите тут!» – Шурка вышел на улицу. Быка он не привязывал, зная, что от сена тот не уйдет никуда. И точно, бык стоял на прежнем месте, пережевывая жвачку. Судя по оставшемуся сену, бык наелся. Подумав минутку, Шурка положил свернутую внутрь шерстью шубу на перильце крыльца, взял в сенях на лавке порожнее ведро, сбегал на Шегарку к проруби, принес воды и подставил быку. Бык, к Шуркиной радости, выпил чуть не целое ведро. Шурка отнес ведро на место и стал проворно запрягать. Сани в ограде, оглоблями повернуты на выезд: вчера, до бани еще, Шурка на себе притащил сани от Мякишиных. Шурка взял быка на кривой рог, завел в оглобли.
Быка запрягать просто, не то что коня. На того хомут пока наденешь. Хомут тяжелый, держать его надо обеими руками, клещами вверх, а если конь рослый да еще голову задерет, становись тогда на чурку или табуретку из избы выноси – иначе не достанешь. Надел хомут, перевернул его на конской шее клещами вниз, седелку на спину положил правильно, так, чтобы подпругу с правой стороны застегивать, заводи коня в оглобли. Завел, поднял левую оглоблю, охватил ее гужом, вставляй в петлю гужа конец дуги, перебрасывай дугу через шею над хомутом, заходи на правую сторону, правый конец дуги гужом притягивай к оглобле. А еще супонью клещи хомута затянуть до отказа, супонь правильно завязать, чтобы в случае чего развязать можно было одним рывком. Чересседельником оглобли приподнять на определенный уровень так, чтобы хомут ровно облег конскую шею, не сбивая плечи и не затрудняя дыхания. Взнуздать коня. Поводья уздечки, продернув через кольцо в дуге, привязать к оглобле, завожжать. Упаришься, пока запряжешь. Не сразу и научишься. Начнешь – что-нибудь да не этак. На сороковой раз, глядишь, получилось – вот радости…
В бычьей упряжке ни дуги, ни седелки с чересседельником, ни хомута нет. Хомут заменяет шорка. Шорка – две, шириной в ладонь, кожаные или брезентовые, с потниковой подкладкой – прошитые полосы, соединенные между собой железными кольцами. Надел через голову на бычью шею шорку, одна полоса легла сверху на холку, нижняя опустилась на грудь, кольца – на плечи. К кольцам веревочные короткие гужи привязаны. Свернул привязку петлей, надел петлю на конец оглобли, затянул – и все. На концах оглоблей зарубы делают, чтобы петли не соскакивали. Или узенькую полоску брезента вкруг оглобли прибивают. Иной так оглоблю делает – сучки на концах, они петлю держат.
Надев на Старосту шорку, Шурка прежде всего посмотрел, впору ли она ему. Оказалась впору. Если шорка велика – плохо, плечи собьет быку, маленькая – еще хуже, душить станет. Бык, да с возом, трех шагов не сделает. Шорку Шурка тоже взял у Мякишиных. Прежде чем идти в контору просить быка, надо собрать все необходимое: сани, шорку, веревку. Пила и топор у всех свои. В колхозе саней свободных, как и шорок, не бывает. Значит, иди по дворам, христарадничай. А сани – не в любом дворе, не каждый мужик способен сделать: плотником хорошим надо быть. А уж как сани смастерил для себя хозяин, он и шорку сошьет, а следом веревкой разживется, чтоб полная упряжь была, не ходить по дворам, не кланяться. Дали быка – пригнал, запряг и поехал. А вот когда нет ничего своего, хоть плачь.
В трех-четырех дворах по деревне обязательно имеется упряжь для быка. Есть, да попробуй – выпроси. Один сам собирается в этот раз, второй соседу пообещал, а к третьему, зная давно характер, можешь не ходить зря: не даст. Жадный. Боится заранее: вдруг сани сломаются, шорка порвется, веревка лопнет. Напрямую не откажет, а начнет вилять, причины разные придумывать, а это и того хуже. Стой, слушай его.
Веревку Шурке не просить: своя была. Одну осень отец вил изо льна веревки для колхоза и уговорил председателя, чтобы ему вместо положенных трудодней веревку дали. Разрешил председатель. Принес, помнит Шурка, отец веревку домой, обрадованный. Берегли ее при отце, а теперь – и того пуще. Топор Шурка наточил бруском сам, а пилу развести и наточить не смог, навыка не было. Отнес Акиму Васильевичу, через речку, давнему отцову товарищу, тот и сделал. Оставалось Шурке найти сани и шорку.
Не раздумывая долго, пошел он к старику Мякишину, жившему по этому же берегу, через несколько дворов от Городиловых. Старик редко кому отказывал, что ни попроси, а кроме того, сани ему сейчас не были особо нужны: сын старика, Иван, с недавних пор стал работать ездовым на конях, он и привозил дрова и сено. Шурка вошел в избу, поздоровался от порога. Помолчал. «Иван, – сказал сыну старик, лежа на кровати, продирая скрюченными пальцами бороду, – слышь, Иван, дай парню сани. И шорку дай. Ишь, бьется парень: хозяин». Иван, сидевший на лавке, отложил уздечку – ремонтировал, – мигнул Шурке, вышел с ним в ограду.
Надев через плечо шорку, взявшись за оглобли, радостный, Шурка на рысях припер сани в свою ограду. Раньше всем этим отец занимался, а сейчас ему надо думать. Тут же, не отходя, осмотрел он завертки, веревочные петли – надежны ли, а то порвутся, когда с дровами поедешь, беда: отпрягай тогда быка, сбрасывай кряжи, переворачивай сани набок и морокуй, из чего завертку новую делать. Конец веревки отрубать – один выход. Но веревку рубить – слезы лить, хороший хозяин, думая загодя, захватит в запас старый, ненужный обрывок веревки. С Шуркой раз случилось – порвалась закрутка. Он снял ремень, привязал оглоблю, доехал. Слава богу, что ремень на штанах оказался, а то бы веревку отхватил – что делать. А ремень – ничего, выдюжил, чуток надорвался только.
Шурка вынес из сеней топор и пилу, топор воткнул в головашки саней, между прутьями талового вязка, пилу положил в сани. Веревку одним концом он крепко привязал к левому заднему копылу, смотал ее, затянул моток петлей, положил моток на пилу, сверху – оставшееся от быка сено, надел шубу, открыл ворота и тронул Старосту, выбираясь из ограды на дорогу.
Сосед Городиловых, старик Дорофеин, – Шурка видел из ограды – тоже собирался в лес, запрягал корову. Он уже не работал нигде, даже сторожем. Дочь безмужняя и на ферме, и в поле успевала, старуха возле печи, а он, старик, на дворе всем правил, хозяйство вел. Пошел как-то в контору, быка просить, и поругался с бригадиром – отказал тот. Обиженный старик более не унижался перед ним в просьбах-разговорах, а стал приучать к упряжи корову. И не один он так по деревне. Но это не дело, считал Шурка, на корове воза возить. Корове надо стоять в теплом хлеву перед сеном вольным, молока набирать, телят здоровых приносить ежегодно. А то – в сани. Правда, встречаются коровы сильные, быку не уступят, но за зиму и они вымотаются в оглоблях, молока прежнего не жди, на треть сбавят. Жалко, понятно, корову, но и себя жалко: в холодной избе долго не просидишь. Зима долгая, дров много надо, печи топят два раза в день: утром и вечером. Небось сам в оглобли встанешь. Быка выпросить не просто, вот и выкручиваются с дровами кто как может. Старик Дорофеин корову приспособил, Степка Хрипцов, Шуркин ровесник и тоже без отца, ходит с топором за огород в согру, рубит подручный березняк в оглоблю толщиной. Тропа у него пробита от ворот в согру. Свалит две березки, обрубит сучья и вершину, захватит комли березок под мышку и тащит в ограду. Притащил – обратно. Полсогры свел. Только дров таких, ой, сколько надо: горят они быстро, как солома, жару не оставляют – две большие охапки неси на вечерний протоп. А Витька Дмитревин начал по снегу бычка подросшего обучать, да много ли на нем привезешь, хоть и обучишь, не набрал он еще силы, не окреп. А все ж не на себе – облегченье Витьке.
Проезжая мимо Дорофеиных, Шурка поздоровался со стариком, завернул быка вправо, на лесную дорогу, запахнул поплотнее шубу, поднял воротник и сел на головашки саней, спиной к быку; лицом к деревне. Рассвело совсем, исчезли звезды, незаметно куда-то пропала луна, а на восходе, за деревней, над тихим заснеженным лесом, невидимое за холодной белесой мглой, уже подымалось солнце. Было вполне ясно, что не продерется оно сквозь мглу, не заискрятся, как ожидал Шурка, снега, и день простоит сумрачный, с низким небом, заиндевелыми от сугробов до вершин деревьями. «Седой день», по определению мужиков. Стемнеет рано, оглянуться не успеешь. Торопись, управляй дела до темноты.
Дорога возле конюшни и дальше, перед тем как уйти за деревню в поля и перелески, как бы чуть подымалась, и Шурке, сидя в санях, хорошо было видно деревню: темные стены изб и дворов, пласты снега на крышах, скворечники, поднятые жердинами над дворами. Во-он, по левому берегу, на выезде, четвертая от края их, Городиловых, усадьба. А самая крайняя изба – Дмитревиных.
Деревня Шуркина называлась Никитинка и располагалась она – леса расступались на этом месте – по берегам речки Шегарки, берущей начало где-то в болотах, недалеко от озер. За Никитинкой, верстах в пяти дальше, в верховье, была еще одна деревня – Юрковка, такая же маленькая, дворов до сорока разве. В Никитинке сорок одна семья проживает, слышал от взрослых Шурка. Вокруг Никитники лес и болота, и вокруг Юрковки лес и болота: иди в любую сторону и день, и два, и три – все одно и то же. Спроси тех, кто охотничает, скажут, они далеко забродят в тайгу.
От Юрковки, если податься на закат, можно найти начало Шегарки, еще на закат – озера: Орлово, Полуденное, Кривенькое, Дедушкино. Без имени. Рыбные озера. В некоторых щука и окунь водятся, в основном же – карась. Шурка не был на озерах: дойти – силу надо. Далеко, почва зыблется под ногами, оступился неловко – по пояс в трясину ухнул. Из ровесников Шуркиных тоже никто на озера не попадал, не могут похвастать. А мужики и взрослые ребята часто ходят, как время выпадает свободное. Но Шурка не завидует: вырастет – избродит все. Приносят рыбу мужики. Побывать, конечно, охота на озерах, посмотреть. Да рыбачить ему и на Шегарке хватает вдоволь. Удочкой за день шутя полведра чебаков и подъязков налавливает, а если день удачный выпал, клюет почти в каждом месте, куда ни забросишь крючок с наживкой, и ведро наловишь. Удочкой рыбачить – мало кто состязаться возьмется с Шуркой…
Все деревни, деревеньки и деревушки, что по берегам Шегарки, связывает между собой дорога, начинающаяся в Юрковке. По правому берегу идет она, сворачивая за Пономаревой вправо, тянется до Пихтовки и далее, через Колывань, в город. От Никитинки в шести верстах вниз по течению Вдовино. Там сельсовет, почта, школа-семилетка, интернат, где третью зиму, приходя домой на каникулы в выходные, живет Шурка. На север от Вдовина, на маленькой речушке, притоке Шегарки, деревня Каврушка. Ребятишки из нее во Вдовинскую школу ходят. Из Алексеевки и Носкова, что еще ниже по Шегарке, тоже ходят во Вдовино. А уж Хохловские – те в Пономаревку. Пономаревка, говорят, раза в три больше Никитинки, МТС там – за горючим из деревень ездят в МТС. Шурке в Пономаревку выезжать не довелось, а в Камышинке был. Камышинка – деревня бывшая между Хохловкой и Пономаревкой, угодья там никитинские, скот держат круглый год, молодняк; посылают каждое лето рабочее звено сено заготавливать. Шурке пришлось там копны возить. Самой деревни нет давно, стоит на берегу большой крестовый дом, позади, возле березняка, длинный скотный двор, вот и все. Речонка Камышинка течет к правому берегу Шегарки, узенькая, мелкая, камышом заросшая – потому, видно, и название такое. От Никитинки до Пономаревки тридцать верст, от Пономаревки до Пихтовки еще тридцать – там район, узкоколейка от центральной железной дороги протянута через болота. От Пихтовки до Колывани, большого села на берегу Чауса, путь не мерен, можешь за день, можешь за семь дней добраться – какая погода будет. От Колывани опять дорога, а уж там, за тридевять земель от Никитинки, город областной. В город по зимам, до метелей или после, как установится дорога, обозы идут из деревень – продать что-то, и купить. Дней двадцать никитинский да юрковский обозы туда-обратно тянут, не меньше. Шуркин отец ездил раз с обозом, клюквы возил пять ведер, луку, семечек подсолнуха. Продал, гостинцев привез, материи на штаны, рубахи. Простудился он в поездке той, слег и не встал. Мать говорила ему, чтобы не ездил, не послушал…
А сама Шегарка, Шурка проследил по географической карте, начинаясь за Юрковкой около озер глухих, затерянных, протекая через леса и болота, вбирая в себя множествво ручьев безымянных, речушек: Калтыхичу, Тетеринку, Каврушку, Камышинку и еще, и еще, вбирая Баксу, на которой стоит Пихтовка, Тою, – далеко уходила от истока своего, впадая в Обь в другой уже области, в Томской, в тридесятом государстве. Вот бы где побывать, а!..
– Но-но! – крикнул на быка Шурка, соскакивая с саней. – Уснул, что ли?! Давай, шевелись, дорога долгая! У-ух и морозяка, аж слезы!
Сидеть все время на санях – задубеешь в два счета, лучше всего идти следом или отстать, попрыгать на месте, а потом пробежаться за санями: согреешься. Полушубок отцовский изношен, латан-перелатан овчинными заплатами, – великоват на Шурку, он в лес в нем ездит: воротник высокий, полы колени прикрывают – куда как лучше. «Не жмет под мышками», – смеется Шуркина мать.
Шурка поправил воротник, запахнулся поплотнее, сунул руки в рукава и пошел за санями, поглядывая по сторонам, думая обо всем сразу. Дорога, по которой он ехал, тянулась на Моховое болото. Краем бора по болоту драли из года в год для построек зеленый мягкий мох, отсюда и болото прозвали Моховым, а дорогу – дорога на Моховое. Сейчас будет Дегтярный ручей, дальше, по занесенным снегами пахотным полям, выпасам и сенокосам, мимо притихших на морозе осиново-березовых согр, дорога ляжет через Большую грязь, рядом с которой сенокос старика Мякишина. Пойдет еще дальше и перед Святой полосой, возле калиновых кустов, свернет налево, к бору. В конце полосы растет старая корявая береза, таловый кустарник, осиновые островки с краю болота, а вот скоро и бор, где дорога разветвляется на несколько рукавов: где-то там Шурка намерен напилить воз дров.
Дегтярным ручей потому называется, что на берегу его, недалеко от дороги, стояла недавно совсем дегтярка – печь с бочками, трубами – деготь гнать. Обдирали бабы бересту поблизости, сносили сюда, а старик Осин, толстый, низенький, пыхтя, управлялся с ней, перегоняя в черный душистый деготь. Потом дегтярку почему-то убрали – Шурка не помнит, по какой причине, – а ручей так и остался с названием Дегтярный.
Все приметные места вокруг деревни носили названия, а уж дороги – обязательно. Дорога на Косари, Бакчарская, на Дальний табор, на Ближний табор, на Шапошниковы острова. Летом в лес, как правило, не ездят, а зимой от деревни к бору пробито сразу несколько дорог. Кто в каком краю деревни живет, в своей стороне и гонит с началом снегопадов дорогу. За Юрковский лог, на Моховое, за Горелый табор, на Шапошниковы острова.
Шурка посмотрел, нет ли впереди следов, – следов не было. Значит, первый он сегодня по этой дороге поехал. Может, кто-то догонит, позже подъедет, может быть, после обеда, когда освободится бык. Бывает, с утра привезут в коровник сена, а после обеда дают быка для своих личных дел.
Мужики, понятно, ездят за дровами поодиночке. Зачем им помощь? Ежели мороз терпим, ребятишек берут, кому за десять перевалило, приучают. А у кого, как у Шурки, нет отца, те сами по себе. Или вдвоем с кем-нибудь, со своего края деревни. Чаще – с младшим братом, если есть брат младший, способный подсоблять в лесу. Шурка с Витькой Дмитревиным ездили на пару несколько раз – ничего, порядочные воза привозили. Когда сани одни, воз – тебе, воз – мне. А то и на двух санях, еще лучше. Случалось, поедут вдвоем ребятишки и не возьмет их мир, передерутся в лесу, укоряя друг друга: тебе воз больше наложили, а мне меньше. Шурка с Витькой не ссорились, но одному, решил для себя Шурка, спокойнее за дровами ездить – без обид. Он начал было с этой осени Федьку брать с собой, но слаб пока Федька для леса, да и болеет каждую зиму, простужается: одежда плохая. Дома помогают матери Федька с Тимкой. С Шуркой вместе пилят-колют привезенные кряжи – больше от них ничего и не требуется. Подрастут – успеют, наработаются. Никуда не уйдет работа, не увильнешь от нее. Шурка по себе судит: он с отцом рано стал ездить и в лес, и в поля. Теперь сам любому показать-рассказать может, что и как. Всему научился. «Жизнь сама укажет, что делать», – любил повторять отец.
Многие бабы, что из безмужних, жалея ребятишек, сами возят дрова и сено, но Шурка этого не допустит, чтобы мать в лес поехала. Лучше он с Федькой. Или сговорится с кем, если нездоровится брату. Или еще что-то. Вот за сеном Шурка с матерью ездит, не стыдясь. Одному ему воз никак не наложить, не затянуть бастригом: сила нужна мужичья. Взрослые ребята, женихи уже, и то не каждый справится – в паре норовят поехать. А Федьку за сеном брать – время терять, проку там с него никакого. Заплачет еще…
Староста пересек ручей и теперь тянул сани через широкую заснеженную полосу, на которой из года в год сеяли рожь. Бык шел ровно, не убавляя и не прибавляя шага, и Шурка так же ровно и размеренно шел за санями, не покрикивая на быка, не подгоняя его. Бык не конь – шибко не разгонишься на нем, что пустой, что с возом, все одно – шагом. Два раза Шурке никак не обернуться, а один-то воз он и засветло успеет привезти. Постарается.
Молодые ребята, что ездовыми на быках работают, порожняком рысью быков гоняют. Быки боятся ездовых. Вспрыгнет парень на сани, встанет стоймя, расставит ноги, рожки вил воткнет в головашки саней, черенком упрет себе в живот для устойчивости, в правой руке у ездового палка, тонким острым концом палки как начнет он ширять быку под хвост, тот летит рысью, света белого не видя, и все хвостом крутит. Возчику надо на дальние поля за соломой или за сеном съездить с утра да после обеда туда же или в бор, вот он и торопит. Бока бычьи ходуном ходят, дышит он прерывисто, не успевая вдыхать-выдыхать, пар от морды валит. Шурке всегда жалко быков, когда он видит такую езду. Попробуй подыши-ка на бегу, на трескучем морозе. «Как они только выдерживают, бедные», – это мать о быках так.
Основная работа – на быках, хотя есть в колхозе четыре пары запряженных коней. Пожилые мужики на них работают. Так же вот, как и на быках, и в поля, и в лес ездят. Мужики следят за упряжью, следят за конями, лишний раз не погонят рысью да по бездорожью. Распрягают зачастую дома, коней не пускают, а отводят на конюшню, ставят каждого в свое стойло. Полы в конюшне настланы, кроме сена, овес перепадает. Зимой коней стараются шибко не нудить в запряже, для них весной начинается работа, когда пахать-боронить выезжают; потом сеялки таскать – посевная; отсеялись – в сенокосилки запрягают, траву косить. Зимой основная работа на быков приходится. А на быках – парни. Вскочили в сани, гаркнули во все горло и поперли по целику, торя дорогу к стогам. Да еще вперегонки затеют, кто кого обгонит. А каково быку бежать по брюхо в снегу? Об этом возчики не думают. Состарился бык – завтра нового обучат, еще лучше…
Никто не знает длину дороги на Моховое, по которой едет Шурка, не мерена она. Пять, шесть, а может, и все восемь верст. Это до бора, а еще в бору проедешь версту-две, выглядывая подходящие березы: по краю-то бора свели давно березняк. Дорога наезжена, она не вровень с краями снежными, а ниже немного – сани движутся как бы по канаве в четверть глубиной.
Осенью выпадает несколько таких дней, когда на телегах ездить уже нельзя: заморозки, грязь комьями смерзлась, колеса тележные прыгают, быки оскользаются, падают на колени. И на санях рано: снега нет. Кто ж на санях по земле поедет, даже подмерзшей? Ждут снега. Он выпадет в последних днях октября либо в начале ноября. Рыхлое сизое небо обвиснет, и пойдет снег, тихий, крупными хлопьями. День-ночь, день-ночь будет идти он, преображая землю, лес, деревню, ровняя дорожные колеи, колдобины, ямы. Тогда и начинают прокладывать зимние пути в поля, в бор, поддерживая их зиму напролет, до марта, пока не улягутся метели. В марте снега подтают, осядут, дороги расплывутся, появятся раскаты, а потом и совсем рухнут дороги. Только далеко еще до весны. Ничего, подождем. Дольше ждешь – радости больше.








