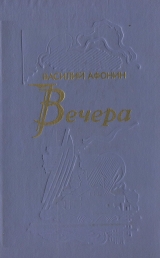
Текст книги "Вечера"
Автор книги: Василий Афонин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
Однажды сидел я в глубине рощи на том самом месте, где стоял когда-то купеческий дом, вдруг – в роще тихо – слышу: доходят сквозь деревья такие знакомые звуки – звук точильного бруска по полотну косы. Я, торопясь, вышел на край бугра. Смотрю: под бугром, на поляне, недалеко от родника, стоит телега, распряженный вороной конь, привязанный на всю длину вожжей за колесо, пасется тут же, а возле телеги цыган точит литовку. Точил он литовку по всем правилам, и уже по одному этому было ясно, что цыган – человек хозяйственный и понимает толк в косьбе…
Опустившись на правое колено, установив литовку носком в землю, пропустив держак под мышкой левой руки, пальцами этой руки крепко взяв литовку за обух, сгорбясь чуток, бруском, схваченным правой цепко и бережно, он длинными движениями от пятки до носка продрал литовочное полотно, снимая с лезвия невидимые зазубрины, потом короткими сильными движениями точил лезвие, прогнав брусок с двух сторон, и опять длинными движениями бруска навел жало…
Я сбежал с бугра к телеге, поздоровался. Цыган приподнялся с колена, сунул брусок за голенище высокого хромового сапога, внимательно посмотрел на меня и степенно ответил на приветствие, улыбнувшись, показав из черной бороды белые как кипень молодые зубы. Я рассматривал цыгана. Это был статный худощавый, выше среднего роста, лет сорока пяти человек. И одет он был красочно, и одежда сидела на нем ловко и подбористо. Бархатный темно-малиновый берет его слегка был сдвинут на сторону, на красную, стираную, но крепкую рубаху надета была легкая зеленая, расстегнутая безрукавка, широкие, потертые на коленях плисовые штаны, схваченные в поясе узорчатым ремнем, заправлены в голенища сапог. Был август, пасмурный день в облаках, и цыгану, видно, не жарко было в этой одежде. Да и работать он не начинал еще. На среднем пальце правой руки цыгана заметил я тусклое оловянное колечко…
Давно, когда мне не было и двадцати, я бредил цыганами. Читал о них, что попадало под руку, слушал пластинки с записями цыганских песен, ходил на базары смотреть, как гадают цыганки, а потом, бросив дела, поехал через всю страну в Молдавию с единственной целью найти цыганский табор, пристать к цыганам и жить с ними, носить пеструю их одежду, плясать, петь, играть на гитаре, бродить за кибитками по Молдавии и спать прямо на земле, под телегой или возле костра. Ничего из этого не получилось. В Молдавию я не попал, оказался в южном портовом городе, где и прожил целых десять лет. Так и не привелось мне ни дня побыть в цыганском таборе, поговорить с цыганами, послушать истории из кочевой жизни, узнать быт. Повзрослевшему, мне было уже не до кибиток и костров, а цыганки, пристающие с гаданием в людных местах, с некоторых пор вызывали раздражение. И вот теперь передо мной стоял самый что ни на есть настоящий цыган, с конем, телегой, одетый так, что ничего другого и придумать нельзя. Мы смотрели друг на друга, молчали.
– Косите? – кивнул я на литовку, на держак которой, стоя ко мне лицом, цыган слегка опирался. – Это ваша кошенина? Можно попробовать? Вы что, кроликов держите?..
– Коня держу, – сказал цыган. – А сумеешь? – вежливо спросил он, подавая косу. Я прикинул косу, она оказалась впору, может, ручка немного была низковата. Я отступил от телеги, примерился, сделал закос и погнал ряд краем поляны, держа направление на куст, укладывая валок на выкошенное раньше место. Я взмок, пока довел ряд до куста, оглянулся – прокос был не очень хорош, я это спиной чувствовал. Я давно не косил, не привык к литовке, а к ней непременно нужно привыкнуть, чтобы понимать ее, да еще торопился – мне хотелось показать цыгану, как кошу. Опустив литовку лезвием вниз, держа ее посредине в полуопущенной руке, я возвращался к телеге…
– А славно косишь, ей-богу, славно, – похвалил меня цыган, белея смоченными слюной зубами. – Только спешишь, аж ноги заплетаются. На третьем ряду упадешь и не встанешь, – он засмеялся. – Ты ногами ровно ступай, а косу не сдерживай, назад отмах давай до отказа. Гони второй! Ну-ка!..
Это цыган говорил мне, начавшему косить в четырнадцать лет! Скинув прямо на кошенину рубаху, промолчав, закосил я второй ряд и пошел куда увереннее, спокойно дыша, свободно и размеренно пуская косу, захватывая травы столько, сколько нужно, ровно укладывая валок, как косил когда-то на своем сенокосе. Цыган от телеги наблюдал за мной. Я сделал четыре прокоса, потом он взял литовку и тоже сделал четыре прокоса. Косил цыган хорошо, легко, без напряжения. Прокос он брал уже, чем я, но срез у него был чище и ниже, литовка слушалась его лучше…
– А хватит, однако, – сказал цыган, махнув рукой, – а то на воз не укладешь. И веревку не захватил я – увязать. Да и не к чему много, не съест конь. А не просуши – сгорит…
Цыган взял с телеги вилы-тройчатки с коротким чернем и стал собирать, укладывать траву на воз. Движения цыгана были ловкие и точные, воз он разложил правильно, я помогал ему – руками подносил траву. Потом мы сходили к роднику, попили по очереди и легли возле телеги отдохнуть. Отфыркиваясь, звякая удилами, конь подошел к телеге, стал есть с воза, осторожно захватывая траву губами, выбирая помельче с клевером, роняя траву под переступающие ноги.
– Золото ищешь? – спросил цыган, кивая подбородком на бугор, откуда я пришел. – Или отыскал уже? – он смотрел мимо меня на дорогу, откуда приехал, вроде бы и не слушая меня.
– Не ищу, – сознался я. – Да и не верю, что оно действительно спрятано. Разговоры одни.
– Ну-у, что же ты не ищешь? – присвистнул цыган. – Я за сорок лет ни разу лопату с собой в телегу не брал. Я мог бы, – цыган рассмеялся, – все подряд вскопать, как в огороде. Мы, цыгане, пока кочевал я, столько про клады эти историй знали, а ни одного не нашли. Верно говорю. Вот мои деньги, – цыган показал на коня, – и вот, – цыган поднял руки. – А ты зачем ходишь сюда? – спросил он. – Гуляешь? А девка где? Один?

Я стал говорить о том, что вот роща хорошая, не в каждом городе такая имеется, ее бы беречь, а тут безобразничают, летом особенно, деревья ломают, рубят их, костры, мусор…
– А верно говоришь, – перебил цыган. – Ей-богу, верно. Как хозяин говоришь. Я ведь думал об этом. Эх, думаю, отдали бы мне рощу, я бы из нее картинку сделал. Не веришь?!
– Зачем же она вам, одному человеку? – я удивился. – Что бы вы делали здесь? Роща – вон какая, десятки гектаров…
– Как! – вскричал цыган, приподымаясь на локти. – Сначала – огородил бы, чтоб не лез каждый, не ходил, не ездил. Не можешь по-человечески вести себя в лесу – стой возле ограды, любуйся. Или вон, иди гуляй по улицам, дыши бензином. На полянах – сенокосы, по пятьдесят центнеров свободно сена ставить можно, во-он, там, – цыган повел рукой, – огороды. Деревья, какие старые, на дрова, чтобы молодым расти не мешали. Сады опять развести. Слышал, сады богатые были здесь. Малину по взгорью рассадить…
– Не отдадут, – сказал я.
– Не отдадут, – согласился цыган, – это я просто так. Я вот еще о чем думал: поставили б в роще контору какую, а меня при ней сторожем. Я бы пошел с радостью. Навел бы порядок. Клады ищут… Дураки! – оскалился цыган. – Вот он перед вами, клад, – роща. Сколько добра пропадает. А разве она такая была? Помню, э-эх, какая была! В войну повырубили ее, на треть считай повырубили. Сейчас догляду нет, а тогда… Кто хотел, тот и шел с топором…
– На дрова?
– Не только на дрова. На другие нужды. Частники кругом. Нужна палка – пошел, вырубил. Мало ли чего надо в хозяйстве. Дерево!.. Ну, тогда война, пусть. Сейчас рубят. Тайком, ночами, под корень, чтоб не заметили. Ты вот говоришь – порядка нет. А и не будет никогда. Почему нет порядка? Очень просто – хозяина нет, вот что. Это в любом деле: есть хозяин – есть порядок, нет хозяина – нет порядка. Вот, помню, кочевали мы табором. Старшой у нас. Умный старшой – словом табор держит, злой старшой – власть любит, деньги любит, баб молодых любит, пожрать-выпить любит – кнутом табор держит, речами льстивыми, гнусными. В таборе нет порядка, в таборе ссоры, драки, вражда. И это – среди своих. Одни за старшого, услуживают ему, сапоги чистят, другие – против, сговор за спиной готовят, ножи острые до поры прячут. Так и с рощей. Вот она, стоит. Чья роща, спросишь? Городская. Хозяев много, а спросить не с кого. Знаешь, сколько родников было в роще? Десяток. А теперь два осталось. Вот горе-то. А бывало, вся округа за водой ходила. Я ведь попервости, – цыган повернулся ко мне, – пытался всерьез сенокосить в роще, на зиму для коня заготавливать. Не получилось.
– Что, не разрешили? – спросил я, имея в виду власти.
– Да нет, другое, – сказал цыган. – Молодые безобразят. Днем поставишь копны, придешь утром – раскиданы, лежат в них. Или подожгут. Два раза поджигали. Как-то пришел вечером, проверить. Смотрю, собралось их компанией: три девки да три парня, ребята с собаками. А собаки, веришь, что телки годовалые ростом. И давай они собак учить через копны прыгать. Да сами вслед за собаками. Хохочут. Я бегу к ним, а не взял ничего с собой, ни вил, ни кнута. Закричал издали, что же вы, мол, мерзавцы, делаете. А они: закрой, мужик, хайло, а не то… Собак за ошейник, и ко мне. Собаки рычат, рвутся. Я остановился. Что ты станешь делать? Не будь собак, я бы их раскидал и пятерых. А тут… Порвут, думаю, кобели. Поворотился и обратно. А они в спину кричат, улюлюкают. Пошел на второй день к участковому, рассказал. А он: кто вам позволил в роще сено заготавливать? Разрешение имеется? А какое у меня разрешение! Сразу увидел. А то, что роща пропадает, это его не касается. С тех пор больше не копнил. Приеду утром, подкошу. Спокойнее. Свяжись с дураками, сам же рад будешь…
Я невольно усмехнулся рассуждениям цыгана. Как-то удивительно было слушать – цыган, на которого никакие законы не действуют, говорит о порядках. Цыган, видно по всему, понял меня.
– Газеты выписываем, – сказал он, – телевизор смотрим. Двое сыновей техникум закончили. Соображаем и мы маленько…
– Вы что же, в школе учились? – спросил я, думая о том, что вот если снять с цыгана одежду, обрядить в обычную, какую носят рабочие, то ничего в нем от цыганского и не останется с его спокойной манерой говорить и рассуждать. Облик разве.
– В школу не ходил, а понимаю, – сказал цыган. – Читать сам выучился. Сначала большие буквы разбирал, а теперь и газету могу вслух прочитать. Возле ребят своих выучился. Восемь их у меня. В школу всех посылал. Готовят уроки, и я с ними иной раз загляну в книжку. А жена у меня русская. Восьмерых родила. Кто учился, кто бросил. Но семилетку все дотянули. Дальше – сладу нет. Двое только в техникум пошли. Если в жену уродился – учится, слушается, в меня – балбес, – цыган засмеялся. – А за конем младший смотрит. Со мной в рощу ездит. Отпряжем – он сразу верхом и скакать по поляне. В кавалерию отдавать – один выход…
– Вы что же, кочевали раньше? – спросил я.
– Кочевал, – подумав, сказал цыган. – До войны ходили табором. Война началась, а мы в Молдавии как раз. Табор небольшой, а ладу не было: зависть, да ревность, да… черт знает что. Немец быстро пер. Табор распался, разбрелись кто куда. Я один, родных нет, поехал. Ехал, ехал и приехал. А что дальше делать – не знаю. На работу надо – специальности нет. А жить где? Деньжонок оставалось немного, распределил я их – сколько в день тратить. Стал на квартиру проситься. Осень, дожди, зима скоро. А у цыгана знаешь какая одежда? Пришел к жене теперешней своей: пустите, говорю, такое дело. А она – вдова, мужа как раз на второй месяц убило. Боится пускать. Цыган, дескать, убьет или обворует. А сама до того хороша, что… Не отступлюсь, думаю. Я в молодости был – ого! – цыган прищурился, улыбаясь, ноздри его затрепетали. – Любого в таборе кулаком сшибал! Дал я ей тогда клятву. Самую старую цыганскую клятву. Старики клялись. Дал клятву, что не обижу. Взяла. Полгода прожил квартирантом, помогал. А потом… жить стали. В то время недалеко от места, где жил я, конный двор стоял, коней десятка три у них было. Вот это дело, говорю. Устроился возчиком. Долго держался двор тот конный, снесли. Эх, жалко. До сих пор бы работал. Не нужен стал, машин много. Коней – на мясокомбинат. А мне что делать? И надумал я своего коня купить. Долго хлопотал, разрешили. Цыгану без коня нельзя, говорю, как вы не понимаете? Стал на топливном складе работать, рядом стеклотары склад – и у них работаю. Хорошо. А вот с кормом коню худо. Летом роща спасает, а на зиму – в деревни езжу, покупаю. И коней в деревнях меняю. Это – третий. Как состарится – я в колхоз. Они почти каждый год выбраковку делают. Я им старого, они мне необученного. Сам обучаю. Тут же и обучаю, утрами. Хочешь прокатиться? – цыган кивнул на коня. – Рысь широкая. Беговой конек…
– Нет, не хочу, – отказался я, – отвык, да и без седла. А конь справный, стать видна. Хорошего коня купили, верно…
– Значит, не любитель, – сказал цыган. – А мне шестьдесят седьмой идет, а иной раз ударю по дороге – только топот. Здесь версты полторы, пожалуй, будет от края до края.
– Сколько вам лет? – спросил я, изумленный.
– Седьмой год пенсию получаю, – засмеялся цыган. – Что, молодой? Работаю. Коня надо кормить, семья. Пенсия, да на складах зарплата, да вечером подвезешь кому что за тройку-пятерку. Ох, надо ехать. Говорим, а дело стоит. Тебе хорошо – гуляешь, а я на работе.
Цыган ловко вскочил, стал запрягать вороного. Я стоял в стороне, наблюдал. Цыган взял вожжи, тронул коня и пошел рядом с телегой. Я проводил его до конца рощи, где дорога подымалась в гору, в переулок.
– Будь здоров, – сказал цыган, подавая руку. – Приходи еще, поговорим, покосим. Вижу, умеешь ты косить. А клад не ищи, пустое дело. Он, купец, не дурак, чтобы оставлять тут деньги. Но-но!
Поехал дальше, не оглянувшись. А я стоял на краю рощи, смотрел, как телега с повядшей уже травой въехала в переулок и скрылась за дворами.
Односельчанин
Множество разных людей осталось в памяти с ранних лет, и среди них наш деревенский мужик Родион Мулянин. Мужики жирновские – каждый сам по себе интересен, одного с другим не сравнивай, но Родион все же стоял наособицу. Выделялся. И не только внешностью своей. Характером выделялся, поведением.
Ростом был он довольно высок, сложения плотного, литой, что называется, ходил медленно, грузно, смолоду был лыс, рыжий волос держался на затылке и по-за ушами, рыжее лицо, пористый нос свистком, толстые губы, спекшиеся постоянно, дышал сипло, с надсадой, сипло смеялся, жмуря глаза. Курил и пил.
Долгое время работал Родион конюхом. Мы жили тогда на самом краю деревни, лес начинался сразу же за огородами, полевая дорога проходила мимо избы, мимо конюшни и дальше к мосту через Шегарку, где на правом берегу под тополями стояла контора. Часто Родион прогонял по этой дороге на выпасы коней, проезжал с возами сена, свежей травы или дровами. Но запомнился он мне позже, летом одним. С той поры летней и запал в памяти.
Конюшил в паре с Родионом Савелий Шапкин, средних лет мужик, семейный, нрава тихого и доброго. Начался ожереб кобыл, Савелий дежурил в свою очередь и проспал, а когда проснулся под утро и пошел смотреть, то обнаружил двух мертвых жеребят: то ли они родились такими, то ли матки придавили их в тесных стойлах. Недоглядел мужик. Страшась строгого наказания или под воздействием какой-то давней затаенной мысли – неизвестно, только повесился Савелий Шапкин тот же час в конюшне, на перекладине близ двери. Так его и увидел сменщик.
Утром стало известно по деревне. Я был совсем маленьким в ту пору, в школу еще не ходил. Лет шесть было всего, видно.
Я слышал, как шепотом говорили родители о случившемся, побежал по деревне, к ребятишкам, по дороге меня догнал Родион. Он ехал на телеге, опустив непокрытую голову, думая о чем-то. Мне очень хотелось прокатиться, но я боялся конюха и бежал за телегой – лошадь шла шагом. Конюх повернулся ко мне и придержал коня. Я остановился, чтобы тотчас же удрать к дому.
– Залезай, – сказал конюх, – чего же ты заробел?
Я взобрался на телегу и сел на другую сторону, свесив босые ноги. Лошадь тронулась, и мы молча доехали до избы Шапкиных, где уже собрался народ. В тот день я как бы впервые увидел Родиона Мулянина: он сам заговорил со мной, подвез, то есть обратил на меня, мальчишку, внимание.
Кажется, в тот же год, осенью, гуляли у нас и я, лежа на печи, свесив голову, наблюдал, как среди избы под гармошку плясал с бабами конюх Родион. Вспотевшая лысина его блестела при свете керосиновых ламп. Одна из баб никак не хотела сдаваться, конюх, наступая, загнал ее в угол между кроватью и печью, где был лаз в подполье. Пятясь, баба наступила на плохо прикрытую крышку, крышка сорвалась, и баба ухнула в подполье, на кринки с молоком.
Жил Родион Ефимыч на левобережье Шегарки, не так уж и далеко от нас, в конце улицы, идущей от моста к березовой согре. Изба неновая, но крепкая, под тесовой крышей, черемуха под окнами, рубленые, под тесом сени, за ними – просторный огород, саженях в десяти от сеней, в стороне, образуя вместе с забором ограду, – сарай, глухой соломенный скотный двор. Жил – не тужил, даже в годы войны, оставаясь в деревне возле коней. Была у него и жена, проворная говорливая баба – Нюра звали ее, и неродной сын Василий Кульгазин – бравый такой парень, рослый да сильный, прошедший всю войну на полуторке. Он и в своей деревне, демобилизовавшись, несколько лет на полуторке проработал, а потом переехал в Пихтовку – районное село, что в шестидесяти верстах от нас.
Перед тем как уехать, Василий надумал жениться, выбрав невестой из деревенских девок ровесницу, пригожую и работящую. Но невеста чем-то не понравилась Родиону. Казалось бы – чего там, сын неродной, жить с отчимом не собирался, девка из доброй семьи, ан нет, не хочу, и все. Василий его, понятное дело, слушать не стал, засватал невесту, расписался в сельсовете и в день регистрации – свадьба вечером – катал подругу на машине от нашей деревни до соседской. Вот возвращаются они от Юрковки, невеста в кабине рядом с женихом, друзья-подруги в кузове, день теплый, солнечный, праздничный, с песней едут, а Родион залег край деревни с жердиной в бурьяне и ждет. Колдобина там была по дороге, как раз недалеко от усадьбы Марьи Серегиной, машина должна была сбавить ход, вот он там и затаился в бурьяне густом.
Полуторка сбавила ход, пьяный Родион выскочил из бурьяна и наотмашь, что было силы, хлестанул жердиной по лобовому стеклу. Вдребезги разлетелось стекло, завизжала невеста, завизжали-закричали в кузове, прыгая через борт. Василий – на войне, видимо, с ним и не такое случалось – выскочил из кабины, сгреб отчима и на глазах у всех дал ему трепку, катая по бурьяну, охаживая обломком жердины. Приятели жениха разняли дерущихся. Бросили они машину и пошли гурьбой в деревню, а помятый Родион по-за огородами пробирался к своей избе, чтоб не видели люди. Свадьба прошла своим чередом, Родиона на ней не было, его сразу же после праздника вызвали в контору, отругали и сделали начет: отремонтировать машину за счет заработка. После Родион с пасынком помирились, но Василий, чувствовалось, не доверял отчиму, был всегда настороже с ним. Родион же, при всей своей силе, не кидался на пасынка, помнил руку, что швырнула его в бурьян. Да они, к слову сказать, и не жили после свадьбы никогда уже под одной крышей, в гости приезжал Василий, мать проведать, и все.
В компаниях Родион не скандалил. Гуляли по деревне часто, с осени по весну в каждом дворе, по кругу, устраивались сабантуи. Раз в год, а то и два Родион сам собирал и угощал, насколько хватало сил, во всех застольях пил он до последнего, пел и плясал, но не помнил никто, чтобы затеял Родион во хмелю ссору. Растаскивал сцепившихся, и тут сила его была нужна. Один раз плотник Желтовин, крепкий ловкий мужичок, полез, забывшись вероятно, на Родиона. Родион Ефимыч поймал Желтовина за воротник левой рукой, пригнул к полу, засунул голову его меж своих ног, ухватился левой же рукой за брючный ремень, а правой растопыренной пятерней стал шлепать плотника по заднице, как шлепают маленьких ребятишек. Плотник возился под Родионом, кричал тонким голосом: «Отпусти-и!» А Мулянин хлестал его ладонью, с каждым разом крепче, приговаривая: «Будешь знать, такой-сякой! Будешь знать! Я тебе покажу драться! Покажу кузькину мать!»
Хохот стоял во всех углах, такого еще на гулянках не случалось. Не смеялась только жена плотника, она все порывалась кинуться на защиту мужа, но ее удерживал стыд: как это – баба выручает мужика, потом над тобой же подшучивать станут.
– Больно! – завопил взмокший плотник, изнемогая, хмель и задор из него вылетели разом. – Отпусти-и, спину ломит! Ефимыч!
– А-а, – сказал Родион, освобождая плотника, – то-то и оно. Иди, да не попадайся больше. Ишь ты, какой храбрый выискался!..
Красный, с выступившими слезами, ни на кого не глядя, плотник скрылся. Ушла и баба его, не могла она оставаться дольше.
С женой своей Родион Ефимыч ладил, но ругала она его чуть ли не каждый божий день: выпивал конюх, не помогала ругань.
– Черт лысый! Сатана рыжая! – честила его тетка Анна. – У всех мужья как мужья, а этот… И-и, залил с утра глазищи, ни стыда, ни совести. Уходи с глаз долой, чтоб следа в доме не было. Чтоб духу твоего здесь… Одна проживу… К Ваське уеду!..
Родион обычно отмалчивался, сопел лишь да тянул толщиной в палец самокрутку, свернутую из самосада или махры. Но один раз не выдержал он, сорвался, и о случае этом долго говорили-вспоминали по деревне. Крепко был пьян Родион Ефимыч два дня подряд. Стала Нюра браниться, стала гнать его со двора, вот это-то и разозлило более всего конюха. Как это так – его, хозяина, выгоняют. Мыслимое дело – уходи. Куда он пойдет с подворья своего, где столько лет прожито, где все вот этими руками сделано. А жена одно: убирайся да убирайся. Надоела ей канитель.
Вытолкнула она мужа из сеней, дверь на засов закрыла. Родион постоял в ограде, оглядываясь, пошел в сарай, взял вычищенное, смазанное перед этим ружье, положил в карман пиджака несколько заряженных пулями патронов, забрался на крышу сарая, залег за копной сена, зарядил ружье и стал ждать. Нюра потомилась-потомилась, в дверь Родион не ломится, не слыхать и снаружи, глянула в окно – в ограде нет, решила, что муж ушел в баню спать или вообще ушел куда-то, и занялась обыденными делами.
Пора было кормить свиней, и, намесив полный таз картошки с отрубями, держа его обеими руками, прижимая к животу, открыв коленом сенную дверь, Нюра вышла в ограду. Огляделась на всякий случай – не подстерегает ли где муж, и только хотела шагнуть по направлению к сараю, как с крыши ударил выстрел. Она не поняла сначала, что стреляют в нее. Потом уж…
С того места, откуда стрелял Родион, до крыльца по прямой линии метров тридцать, не больше. Литая круглая, шестнадцатого калибра, пуля саданула в таз, взметнув месиво, разодрав край, вырвала таз из рук бабы. Охнув, та кинулась за ворота и бежать вниз по улице, к мосту, на другую сторону Шегарки. Пока Родион слезал – прыгать не решился – с сарая, выскакивал из ограды, Нюра была уже далеко. Она бежала резво, оглядываясь, белый платок ее сбился на шею. В девках, наверное, никогда не бегала так.
– А-а! – хрипло воскликнул Родион и – следом. Бежал он тяжело, держа в опущенной руке ружье. Улица была длинна, пустынна. – Сто-ой, паскуда, – запаленно орал Родион, – все одно убью! Сто-ой, твою душу мать! Нюрка, кому говорю!..
Поняв, что не догнать жену, Родион привстал на колено и ударил навскид, едва целясь. Дорога сухая, до блеска накатанная телегами, Родион занизил, и пуля пошла рикошетом, взрыхляя утоптанную землю. Когда, перебежав мост, Нюра подымалась на крутой берег, Родион выстрелил еще раз. И остановился, больше патронов у него в карманах не нашлось. У моста конюха перехватили мужики, подошедшие на выстрелы, уговорили, отвели домой. А Нюра, не сбавляя хода, чесанула в соседнюю деревню, откуда подъехала с кем-то до района и жила у сына, пока Родион не привез ее обратно. С той поры Нюра стала сдержаннее, не выгоняла мужа, прятала ружье и патроны, когда муж был пьян.
– Что же ты, Ефимыч, – говорили Мулянину мужики, – последнее дело – в жену стрелять. Да ты что?! А убил бы – что тогда? Тюрьма – один разговор. Это хорошо – промахнулся. Всю деревню переполошил. Война, да и только. А если б зацепил кого? Ну-у, Ефимыч!..
– Хе-е, убил, – гундел в нос Мулянин. – Чего ж ее убивать – пущай живет. Или я совсем умом рехнулся. Попужать – другое дело, чтоб место свое знала. Промахнулся… Лося на бегу бью без промаха, на сто саженей почти. А тут – бабу. Небось не промахнусь. Зато теперь – как шелковая, обедать сажусь – наливает, не спрашивает…
Выпивал. Но не до сшибачки, как говорили по деревне. Сколько бы ни выпил, домой добредет сам, с роздыхом, но дойдет. Если слышно – чаще всего в сумерках – песню «Под окном черемуха колышется» – значит, Родион Ефимыч наугощался и переулками пробирается к себе. Песню о черемухе любил он почему-то больше других и пел охотнее. В застольях с мужиками-бабами, в одиночку.
Часто заходил к нам. Отец и мать называли его кумом, Нюру – кумой. Каким образом, не знаю, оказался он в кумовьях. Присядет, закурят с отцом самосаду, заговорят. Сапоги на нем высокие, самодельные. Штаны, рубаха, пиджак. Пиджак всегда расстегнут. Кепку не носил. С мая по октябрь ходил он так, надевая с первым снегом шапку, фуфайку, пимы с калошами. За голенищем правого сапога постоянно короткий, косо отточенный, плотно обмотанный по рукоятке тряпкой, острый сапожный нож. Редкие знали по деревне, что без ножа он почти и не выходит на улицу.
– Зачем ножик-то носишь, Родион? – спрашивал его отец, хмурясь.
– На всякий случай, – отвечал Мулянин и улыбался губами, а взгляд тверд и прям, не пересилишь, отведешь глаза первым. Вот так.
Помню, отелилась у нас корова. Отел был летний, июльский. С дальних выпасов прибежал в полдень пастух с известием. Взволнованная мать, торопясь, пошла к Мулянину. Родион Ефимыч запряг племенного жеребца, сели они втроем в телегу, и конь, задирая под дугой голову, размашистой рысью повез их за Дегтярный ручей на Святую полосу, где паслось стадо. Положили теленка на телегу – корова шла следом, – привезли домой. Удачный отел – радость, угостила мать Родиона за помощь, а вечером, когда пригнали стадо, попотчевала пастуха: бежал мужик в деревню, запалился, надо угостить…
На второй день – мать была на работе – возвращаясь из школы, подходя к избе, услышал я, еще в переулке, пение. И голос и песня были знакомые. Конюх поет, догадался я, пошел в сени, в избу – там никого не было. Я вышел из избы, обошел двор, заглянул в сарай, сходил в баню – никого. Песня доходила будто из-под земли. Я направился в огород, к погребу, заросшему бурьяном. Чем ближе подходил, тем яснее слышалась песня конюха и голос отца. Крышка погреба была откинута, встав на колени, заглянув в погреб, я увидел, что в закроме на проросшей прошлогодней картошке лежит отец, а прямо напротив лаза, с кружкой пива в руке сидит Родион и, закрыв глаза, горестно потряхивая головой, поет о черемухе.
В погребе, в большом глиняном кувшине, стояло у матери пиво. Конюх пришел к нам взглянуть на теленка, как он сказал потом, стали искать выпивку, в доме ничего не нашли, отец предложил посмотреть в погребе, попросил кума спуститься. Родион спустился, обнаружил кувшин и посоветовал отцу: выпить можно и в погребе, чего вытаскивать кувшин, а потом ставить на место. Разобьем еще. Да и прохладнее здесь, никто не мешает…
– Давай, кум! Захвати пойди кружки да огурчиков пару сорви.
Кувшин зараз одолеть они не смогли – литров десять в нем было. Выпили половину и спали в погребе, пока не протрезвились. К этому времени пришла мать, вытянула кувшин, помогла мужикам выбраться, а то бы они, опохмеляясь, до утра просидели в погребе, дочерпывая остатки. Пошатываясь, ушел Родион домой.
Позвал меня как-то помочь распилить дрова. Пришел я утром, Родион ждет в ограде. День погожий, март во вторую половину перевалил, без рукавиц можно работать. Хозяин установил козлы хорошенько, чтоб не шатались.
– Завтракал? – спросил Родион, осматривая пилу, подняв ее на уровне лица, прижмурив один глаз. Долго смотрел, целясь вроде.
– Завтракал, – сказал я, сбрасывая к козлам верхний кряж.
– Ну, давай тогда начнем, – Родион прислонил пилу к плетню.
Мы положили – хозяин брал с комля – на козлы первый кряж, примерились, сделали зарез. Дров непиленых в ограде лежало воза два конных, не больше. А возле городьбы поленница длинная, прошлогодней еще заготовки. Распилили несколько кряжей, Родион Ефимыч и говорит мне, да серьезно так. Я стою, слушаю его.
– Знаешь что, пойдем, баба пироги с калиной пекла сегодня. Работа тяжелая, силы нужны. Передохнем малость, а потом остальные допилим. Поедим, покурим, веселее работа пойдет…
– Да я и не устал, – говорю, – и есть совсем не хочу. До обеда еще далеко. Воз распилим, тогда и отдохнуть можно. Кто ж так работает? Взялись, Ефимыч. Вон тот кряж, самый толстый.
– Идем, идем, – Родион направился к сеням. – Не горячись шибко. Молодой, успеешь, наработаешься. Наломаешь спину еще, погоди.
Мы вошли в избу. А мне как-то неловко было перед хозяйкой: только начали пилить и сразу же есть захотели. Хоть бы воз один закончили. Но раз хозяин перестал, что ж делать…
– Накорми парня, Нюр, – сказал Родион, раздеваясь. – А мне налей стаканчик, спину чтой-то ломит, застудил, видно. Ни согнуться, ни разогнуться. Налей, не скупись. Выпью, может, кровь разгуляется. Садись, – пригласил он меня к столу, – чего ж ты. Не стесняйся.
– Тебя, черта рыжего, колом не пришибешь, – недовольно сказала Нюра, собирая на стол. – Выпивку почуял, вот и заломило спину. Застудил… Пилить-то два воза всего. На, пей-глотай! Глотень!..
– Все бы ты ругалась, Нюра. – Родион подмигнул мне и поднял кружку с пивом. Я нехотя поел, и мы скоро вышли. Пила у конюха была хорошо разведена и наточена, кряжи он привез нетолстые и без суков, день стоял чудесный, и пилить было одно удовольствие. До обеда Родион еще раз приглашал перекусить, но я отказался. Он хотел было пойти один, но не решился. Дрова распилили.
Крал Родион Ефимыч всю жизнь. Куры его круглый год клевали овес – тянул из конюшни, за что и сняли с конюхов. Мог с тока осенью прихватить зерна, когда никого не было поблизости. А то развезет весной семенное к сеялкам, оставит мешок в кустах, опосля заберет. А с мешками так смухлюет, что сеяльщик не поймет, не догадается. Висит что на изгороди у хозяина – веревка, вожжи, овчина, еще что-то – пройдет мимо Родион, приметит. Если забыл хозяин прибрать к ночи, утром уже нету, не ищи. Вилы, скажем, кто оставил на покосе, топор обронил с саней или телеги по дороге из леса – попало на глаза Мулянину, взял унес. С конюшни сбрую брал частями, запасался. А зачем ему сбруя, спрашивается?








