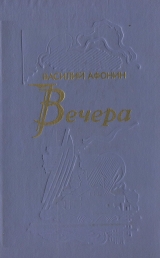
Текст книги "Вечера"
Автор книги: Василий Афонин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
– На ней все и держится, на Ольке, – Печников поднял тоскующие глаза, и Елизавета Яковлевна отвела свой взгляд. – Катерина видит, как я люблю ребенка, и спекулирует этим. Пять последних лет – самые трудные из тридцати моих. Самые унизительные. На какие только унижения не шел я, чтобы семья сохранилась. Уйду, думаю, а Олька как? Суд не отдаст мне ее. И буду как вор приходить, проведывать. Да еще не пустит, глядишь. А что ж… Елизавета Яковлевна, я в тряпку превратился. В тряпку, которой… сортир подтирают. Вот каким я стал. Вот что сделала из меня Катерина Ивановна. За пять-то лет. Следующие пять мне никак не вынести. Нет, не хочу я. Да и не случится этого. Довольно.
Печников опять встал, сел тут же, и теща пододвинула ему кружку. Печников выпил четыре двухсотпятидесятиграммовые кружки, Елизавета Яковлевна – полторы. Печников захмелел – градусов шестнадцать было, видимо, в ней, этой настойке, пахнущей малиной.
Закурили. Елизавета Яковлевна курила «Беломор». Она сидела, откинувшись спиной к стволу корявой раскидистой груши, редко и сильно затягивалась, глядя на понурого, облокотившегося на столешницу зятя. Зять ее был довольно высок, худощав, черноволос. Смугл до черноты. Сросшиеся на переносице брови. Только зубы да белки глаз освещали утомленное продолговатое лицо. Он курил, опустив голову, думал, и Елизавета Яковлевна не знала, чем помочь ему, как утешить.
– Да, – сказал Печников, выпрямляясь, и поискал глазами, куда положить окурок. Лицо его было в поту. – Да, разводиться – один выход. Впрочем, теперь нас – хочешь не хочешь – разведут. Дело в том, – он пристально посмотрел сузившимися глазами на тещу, говорил далеким отчужденным голосом. – Дело в том, Елизавета Яковлевна, что меня скоро посадят. Через несколько дней. Потому Ольку к вам привез. Оставить не с кем.
– Что ты говоришь?! – заметно побледнела Елизавета Яковлевна, откачнулась от дерева к Печникову, схватилась за край стола. Глядела, не понимая. – Что ты говоришь, Алеша?! – переспросила. – Как – посадят? Она – что же, в суд подала на тебя?
– Да, подала, – кивнул Печников.
– И тебя, как это… вызывали, допрашивали?
– Все, как положено, – Печников попытался улыбнуться. – Допрашивали. Дело передали в суд. Вот вернусь – будут судить.
– Погоди, погоди, погоди, – теща быстро произносила слова, постукивая пальцами по столешнице. – Давай, начнем соображать. Так, я напишу ей. Нет, дам срочную телеграмму, чтобы простила, забрала заявление. Если она… если она… я сама поеду, выступлю на суде. Я постараюсь убедить суд, рассказать, что она за человек. Надеюсь, меня выслушают… поймут…
– Ничего вам не следует делать, Елизавета Яковлевна, – выдохнул Печников. – Я пытался помириться. Из-за Ольки, опять же. Прощения просил, – Печников поморщился. – Она и слушать не хочет. Не надо. Мне не пятьдесят лет, черт побери. Отсижу положенное, начну все заново. Семья появится, квартира. Не беспокойтесь за меня. Пожалеет еще. А Ольку… Ольку я не забуду. Не оставлю. Все, что от меня требуется, как от отца, я… Что с вами, Елизавета Яковлевна? Что вы так?..
– О-о! – стонала, раскачиваясь, Елизавета Яковлевна – Зачем ей это? Ну, поссорились. Ну, подрались – мало ли чего не бывает в семье. Но – тюрьма! Чтобы тебя, Алеша, в заключение?! Какая мерзость! Зачем ей такая жестокость – не понимаю?! Скажи, пожалуйста, на сколько тебя… осудят? Надолго? Как ты считаешь?..
– Не знаю, Елизавета Яковлевна. Как суд решит. Но два года верных, это уж точно. От адвоката я отказался. Сказал: вся вина моя.
– Может, не в колонию… на стройку направят. Направляют ведь, слышала. В поселке был случай подобный…
– Дай бог. Я сам только о том и думаю сейчас. Такие вот дела.
– Слушай, Алеша, а как же с квартирой? Развод, дележ… Осужденный, ты имеешь право на половину своей жилплощади или нет?
– Не могу сказать. На суде и это выяснится. Да и черт с ней, с квартирой. Что же им в одной комнате ютиться. Переезд, хлопоты. Ольке нужна комната. Ей и отдам.
– Ну да, сказал, – хмыкнула Елизавета Яковлевна. – Вернешься – ни работы, ни репутации прежней, ни жилья. Куда пойдешь? К дяде чужому? В общежитие опять? Надо как-то помогать тебе. Я должна помочь. Обязательно. Знаешь, нужно вот что сделать: оттянуть развод во что бы то ни стало. До возвращения твоего. Телеграмму я дам непременно. Закажу переговоры. Когда она приедет за Олькой?.. Замечательно. На колени встану, упрошу, чтобы переехала ко мне после развода. Ты останешься в своей квартире. А работу… работу найдешь. Может, возьмут обратно. Им же с Олькой здесь жить. Я мать, мне ее довоспитывать, доченьку ненаглядную. Годы мои – считанные, все им перейдет, уговорю. Ох ты, горе-горюшко, что случилось. Как же ты это, Алеша, не удержался, а?
– Елизавета Яковлевна, мне пора уходить, – Печников взглянул на часы, поднялся. Ноги ослабели от наливки.
– Куда ты? – вскинулась теща. – Не поживешь? Не переночуешь?
– Не могу, билет в кармане. Надо ехать, – Печников усмехнулся, – суд ждет меня. Так удобнее, пока Олька спит. Я напишу вам, Елизавета Яковлевна. Приеду и… напишу подробно.
– Ой, боже, – Елизавета Яковлевна не знала, за что взяться. – Вот гость-то. На-ка, на дорогу, я еды соберу. Во сколько поезд твой отходит? Проводить бы до вокзала… Олька…
– Еды возьму, а пить не хочу больше, хватит.
Печников прошел к горничному окну. Олька спала, повернувшись на правый бок. Ему виден был затылок ее, шея – одеяло закрывало плечо. Боясь заплакать, Печников тряхнул головой, вернулся к столу, где теща в сетку укладывала свертки с едой.
Потом они шли по ограде, прощались и все никак не могли дойти до ворот. Пожить бы недельку-другую здесь, передохнуть.
– С Олькой будьте поласковее, Елизавета Яковлевна, я вас прошу.
– Ну о чем ты говоришь. Ты сам держись. Не робей там. Может, и через это надо пройти, кто знает. Ты специалист хороший, не пошлют же тебя канавы копать… Бригадиром хоть назначат. Ах, горе!
– Это уже мелочи, значения не имеет. Ну, до свидания, Елизавета Яковлевна. Спасибо вам за поддержку. Теперь мне легче немного.
– До свидания, милый. Главное, не падай духом. Я все сделаю, как и обещала. Что-то хотела спросить?.. Да, родители-то твои? Живы ли еще?
– Живы. Старые совсем. Дай бог увидеть через два года.
– Где они? Все там же, на Шегарке? в Жирновке?
– Нет, к районному селу ближе перебрались. До свидания, Елизавета Яковлевна. Пошел я. Не провожайте дальше, не надо. Все. Хоть бы не проснулась. Скажите ей, что мама скоро приедет…
– Будь здоров. Дай поцелую тебя. За Ольку не беспокойся.
– Через полтора часа поезд. Успею. Автобусом до конца, да?
– До конца, – теща держала Печникова за руку. – Ничего. Не теряй мужества. Пиши чаще. Я тебе посылки посылать стану. Ступай.
Он пошел торопливо, оглянулся, оглянулся опять, помахал рукой и скрылся за домами. Елизавета Яковлевна некоторое время еще стояла у ворот, будто ожидая, что Печников вернется, закрыла за собой дверь, подошла к окну, прислонясь лицом к стеклу, долго всматривалась в глубь горницы – там было тихо, – тяжело прошла к столу, села, сутулясь, вынула папиросу и, забыв прикурить, сидела полузакрыв глаза. Встала, неуверенно, словно после недавней болезни, начала убирать со стола, мыть посуду и все старалась поймать утерянную мысль. Ах да, от Анны старшей дочери, давно уже не было письма. Ладно ли у нее. Там двое детей, сыновья. Внуки. А у Катерины дочь. Олька. Четыре года. Сейчас проснется, спросит: бабушка, а где папа? А папа уехал. Что ты ей ответишь? Что-то отвечать надо. Да, что-то надо отвечать. Как бы он там опять не сглупил…
На вокзале долго еще, около часа, Печников ходит по перрону из конца в конец, поглядывая на станционные часы А стрелки движутся медленно. Ходит, думает. Мысли его несвязны, отрывочны, думает он обо всем сразу, перескакивая с одного на другое. Рано ушел от тещи, надо бы еще посидеть, чтобы здесь не толкаться. Нет, в самый раз, проснулась бы Олька, тяжелее было бы. А Елизавета Яковлевна – молодец баба. Сильная. Ему самому порой не хватает душевных сил, он знает это, чувствует, потому всю жизнь тянется к таким людям, как Елизавета Яковлевна. Если бы не было у Печникова матери, хотел бы он иметь такую вот мать. Но у него своя мать – человек достойный: повидала, поработала. В войну вон как доставалось им, деревенским бабам…
Четыре года назад, перед тем как родиться Ольке, теща приезжала к ним в гости. Жила довольно долго, месяц кажется, а то и более, дожидаясь возвращения дочери из роддома. Недели две еще наставляла Катерину по уходу за ребенком. Печников с тещей подолгу разговаривали в те дни. Катерина в роддоме, никто не мешает. Поужинают, сядут в маленькой комнате, где поуютнее. Тогда-то они и условились, что называть ее Печников будет по имени-отчеству. Так ему удобнее. Но чтобы она не сердилась…
– А я и не настаиваю, – усмехнулась Елизавета Яковлевна, – зачем же. Мать у тебя есть – хватит одной. А я – теща. Зови, как хочешь.
Печников стал было уговаривать тещу, чтобы она переехала к ним, продала усадьбу. Заболеет – присмотреть некому. А тут – свои.
– Никуда я не поеду и усадьбу продавать не стану, – отказалась напрочь Елизавета Яковлевна. – Это родовая усадьба. Уж сколько лет фамилия наша живет на одном месте. Там я родилась, там и умру. Жалко будет, если усадьба не перейдет после меня в родственные руки. А потом, – Елизавета Яковлевна засмеялась, – что тебе за охота жить вместе с тещей? Слышал, каких только сказок о тещах не сочинили? И такие-то они, и такие-то. Вот и я – ничем от других не отличаюсь. Давайте-ка порознь. Издали милее друг другу будем. Стану я вам письма писать сердечные, ждать по осеням, под урожай, встречать-провожать, скучать. Переезжать? Спасибо за приглашение, Алеша. Но пойми меня правильно: в своем доме я хозяйка, а здесь буду в углу сидеть. Так? – она взглянула на Печникова.
Печников смутился от откровенности, покраснел, помнится. Не ожидал он таких прямых слов.
– Ну что вы, Елизавета Яковлевна, – стал говорить он, но теща его не слушала. Больше о совместной жизни разговора они не затевали. Переписывались, поздравления посылали к праздникам…
Поезд на станции стоит недолго, всего три минуты. Держа сетку в опущенной руке, Печников подымается в вагон, находит место. Полка у него нижняя, он садится, смотрит невидяще в окно. Поезд трогается. В вагоне душно. От выпитого Печникову тяжело. Он просит постель, ложится спиной к переборке, закрывает глаза. Вагон покачивает, стучат колеса. Печникову хочется уснуть, чтобы ни о чем не думать, но сна нет. Опять думается о разном, о жене. Печников пытается разгадать, что же все-таки это такое – его жена, Катерина, с которой он прожил пять лет. Нет, видимо, никогда не поймет этого Печников. За пять лет не понял. А теперь – конец всему, не к чему вроде и разбираться.
Болит голова, он вспоминает. Старый, наполовину деревянный город к северу от Новосибирска. Печников приезжает туда по назначению, с дипломом архитектора. Она приезжает после окончания строительного техникума. Ему двадцать пять лет, ей двадцать. Он работает в институте Гражданпроект, она на стройке, мастером. Они еще не знают друг друга, не знакомы. Лето, идет дождь. Печников стоит под карнизом деревянного дома, глядя, как пузырится в лужах вода. Ему весело. Через улицу бежит рослая девушка, промокшая уже. Оглядывается, куда бы спрятаться. «Сюда!» – кричит ей Печников и машет рукой. Девушка бежит к нему. Стоят рядом. У нее широкоскулое, молодое совсем лицо. Она отжимает волосы и смеется. А дождь все не перестает. Он провожает девушку. Встречаются. Печников получает квартиру. Делает предложение. Свадьба. Теща приехать не может, хворает. Переводом устраивает жену в свой институт. Семейная жизнь. Вечера дома. Она сидит у телевизора, неохотно оборачивается на голос мужа. Печников стоит в дверях, держа в руках свитер и шарф. В них дыры. Ему жаль – вещи почти не ношены. «Катя, – говорит он, – у нас завелась моль, что же ты… Смотри, что наделала», – Печников растерянно поворачивает свитер, показывая жене. Показывает шарф. «Надо купить нафталин и пересыпать, – быстро говорит жена, не отвлекаясь от телеспектакля. – Что же ты раньше не подумал?»
Приезд тещи. «Ну, как вы уживаетесь?» – осторожно спрашивает она, глядя на зятя. «Живем, – кивает он».
Ольга. Новые расходы. Жена уходит из института. Два месяца не работает, подыскивает новую службу. Устраивается в кинотеатр. Болезнь Печникова: воспаление легких.
«Катя, – тихо говорит он, – неловко затевать такой разговор. Катя, у тебя есть какие-нибудь деньги? Надо за квартиру заплатить. За Олю, в сад. Я же на больничном – не скоро получу». Она дает ему двадцать рублей. Он берет.
«Катерина, ты почему не приносишь в семью деньги? – спрашивает он. – Мне тяжело одному – расходов много. Мало того, ты у меня берешь постоянно. Молча. Я на продукты оставил, а ты взяла. И ничего не сказала. Так нехорошо делать, Катерина». – «Я на тебя не собираюсь работать, – говорит жена. Ноздри ее вздрагивают. – Приносить! Нашел о чем говорить, о… деньгах. Постыдился бы. Мужик, заработать не можешь, чтобы семью прокормить». – «Постыдился бы? – переспрашивает жену Печников, сдерживаясь пока. И подходит к ней. Она сидит на диване, читает книжку. – А тебе за стол не стыдно садиться? За стол, не дав ни рубля. А?» – «Укорил, – жена откладывает книгу, становится напротив. – Едой укори-ил, – тянет она. Глаза ее белеют, останавливаются, лицо деревенеет. Печников знает, что произойдет сейчас. – Едой! Да ты…» И тогда он ударяет ее. Бьет сильно. Жена падает и кричит. Печников уходит из дома, ночует у товарища. Жена товарища смотрит на него осуждающе…
Печников встает, выходит в тамбур курить. Возвратается. Вагон плацкартный, в одном купе с ним едет семья: муж с женой, парнишка-школьник. Отец с сыном устроились на верхних полках, мать внизу, напротив Печникова. Уже вечер, за окном темно. Приносят чай. Печников просит два стакана, пьет, глядя сквозь стекло, в темноту. Есть неохота. «Зря еду взял», – вяло думает он. Ложится спать, засыпает. Спит он тяжело, ворочается, стонет и скрипит зубами. Женщина будит его, прикасаясь рукой к плечу. «Повернитесь на бок», – говорит она. Сонный, Печников поворачивается лицом к перегородке. Во сне ему снится все то, что уже было, и то, что должно случиться.
Вот он в кабинете следователя. Это было. Следователь моложе Печникова, рыжеват, короткие волосы слегка зачесывает на сторону. Лицо хмурое – не то сердит, не то задумчив. Одет опрятно. Курит. С Печниковым разговаривает спокойно и вежливо, часто благодарит. Печников ничего не скрывает. Да и что ему скрывать…
– Распишитесь еще вот здесь, – просит следователь и пододвигает по столу Печникову густо исписанные листки. Печников подписывает их. Ладони у него влажные, он вытирает их платком. – Все, – говорит следователь, аккуратно складывая листки в папку. Завязывает тесемки. – Передаем дело в суд. Можете быть свободны. – И молчит, будто никого нет рядом с ним.
– Когда суд? – спрашивает осипло Печников, наблюдая за пальцами следователя.
– Этого я сказать не могу, – следователь откладывает на край стола папку. – Вас известят повесткой. Будьте дома. Из города…
– Мне нужно уехать на два-три дня, дочь отвезти теще, – Печников о чем-то думает. – Это не очень далеко. Скоро вернусь.
– Надеюсь, разыскивать не придется? – без улыбки спрашивает следователь, так же о чем-то раздумывая. Вероятно, о новом «деле».
– Не придется. Скажите, сколько мне… грозит? Только правду…
– Не знаю, – следователь медленно разминает сигарету, медленно прикуривает. Печников ждет. – Как суд решит. Она не простит вам?
– Нет, не простит.
– Думаю, не менее двух. Вы повредили ей левую челюсть. Вот, – следователь указывает сигаретой на папку, – заключение медкомиссии, вы…
– Ей еще не так надо было бы… – задохнулся Печников.
– Ну, ну, – сказал следователь, – что уж вы? Жена все-таки. – (Сам он пока не был женат, не представлял никак свою семейную жизнь, надеясь, что все будет нормально. Недавно из института, он постоянно занимался «семейными делами», а не теми, головокружительными, о которых думалось до получения диплома. Скандалы. Жалобы. Побои. Заявления. Приходилось разбираться: кто прав, кто виноват. Попробуй разберись. Жена на мужа: он такой-то, муж на жену: она такая-то. А когда сходились, оба были хорошими. Вот жизнь. Дети наблюдают: у них свои переживания. Вот и этот, Печников, сидящий рядом. Натворил и сам не рад. А мужик, чувствуется, совестливый. И жалко его, и… Не по себе от всего этого было следователю.) – Вы, умный человек, все должны решать… – следователь поискал слово, – спокойно. А вы?! Неужели вы не понимаете, что это скверно – ударить жену, женщину? Вижу, понимаете. И я в то же время хочу понять вас, Печников. Почему вы совершили такое? Довели – не сдержался. Все верно. Случаются минуты, когда трудно сдержаться. Но надо. Сдержались бы вы, ценность бы ваша как человека поднялась. А теперь она понизилась. Кто вы на сегодняшний день в глазах знакомых своих? Хулиган, драчун, скандалист. В доме авторитет потеряли, на работе потеряли. Разговоры всякие. Зачем вам это? Ежели дошло до предела – развестись. На мой взгляд. Тяжело? Поженились в надежде жить не тужить. И – развод. Тяжело, да. Страшно. Но бить…
Следователь молчит. Курит, глядя в окно. И Печников молчит.
– Все, – говорит следователь. Голос его тускл.
Печников встает и уходит. По дороге останавливается.
Провалиться бы ему сквозь землю сейчас. Домой – нет охоты. На работу – не показывался бы…
В Новосибирске пассажиры в купе Печникова поменялись. Вошел пожилой инвалид, на костылях, правой ноги выше колена нет, штанина подвернута, заткнута за брючный ремень. За ним появилась женщина, чужая ему, сразу поставила сумку на свободную нижнюю полку, села, уверенная, что это ее место. А у инвалида место оказалось верхнее. На четвертую полку нет никого.
– Вот ведь как получилось, – инвалид все стоял посредине купе, не решаясь сесть. – И не влезть мне. Забыл совсем про полки.
По говору, по одежде видно было в нем человека деревенского.
– Папаша, давайте поменяемся, – предложил Печников. – Я уберу свою постель, а вам принесут. Матрас и подушка есть, белье только. Садитесь пока.
Он свернул постель, поднял, разложил на верхней полке. Сел рядом с инвалидом. Женщина молча устраивалась.
– На войне? – спросил Печников, кивая на костыли. – Мой отец с сорок второго так же. На Ленинградском воевал. Правая нога…
– На войне, – подтвердил инвалид. – Приезжал с однополчанами повидаться. Раз в пять лет собираемся. Приехал, сошлось несколько человек всего, треть против прежнего. С каждым годом все меньше нас остается, Повидаться бы еще разок, дожить бы. Вот какое дело. Три дня жил в Новосибирске. Домой надо, старуха ждет. Заждалась небось. Одни живем, ребята разбрелись кто куда.
Замолчал. Лицо у инвалида было старое, в морщинах. Седая щетина под скулами выбрита плохо. Короткие белые волосы косицами прилипли ко лбу. Был он в кепке, в пиджаке на темную рубаху. На ноге – поношенный ботинок.
Печников вышел в тамбур, долго стоял возле двери, глядя на желтые, облетающие перелески. В детстве он любил ездить на поездах. Когда вернулся в купе, инвалид уже лежал, вытянувшись на спине, закрыв глаза. Лицо его казалось мертвым. Чувствовалось, утомила его поездка. Костыли – деревянные, давние, с резиновыми набойками, ручками, отполированными ладонями, – стояли прислоненные к стенке между полкой и столом. Кепку инвалид засунул под подушку. Женщина смирно сидела, держа руки на коленях…
Печников взобрался наверх. Ехать оставалось недолго, но и лежать так, ничего не делая, было тягостно. Он лег на живот, уткнулся лицом в подушку, освобождаясь от мыслей, стал считать колесные перестуки, сбиваясь, начиная снова, сбиваясь. И заснул. И опять приснился Печникову сон.
Теперь ему снилось то, чего он более всего боялся: суд. Зал суда. «Только без любопытных, только без любопытных», – просит Печников, но его никто не слушает. Любопытные расходятся по рядам, заполняют все места. Среди сидящих Печников видит многих со своей работы. Пришли, интересно им. Смотрят на него.
Зал. В зале любопытные посторонние люди, которым нечем заняться и они то и делают с утра, что ходят из суда в суд, в поисках необычного, а потом рассказывают всюду, разносят по городу. На сцене за столом судья с заседателями, по правую руку от них – обвинитель, по левую – Печников. Он сидит на скамье подсудимых, низко опустив стриженую голову, за спиной – конвой. Адвоката нет. Зачем? Печников во всем чистосердечно признался. Суд должен учесть признание. Обязан учесть: человек раскаялся, человек страдает на глазах…
«Подсудимый, – обращается судья к Печникову, – вам предоставляется последнее слово. У вас есть слово? Подсудимый Печников!» – «Есть, – отвечает Печников. – Скажите, вам никогда не приходилось ходить в женских трусах?» – «Что-о?! – воскликнул судья, и Печников видит, как судья, краснеет. – Что вы такое говорите, подсудимый?!» Конвой хватает Печникова под мышки и быстро ведет к выходу. «А мне приходилось!» – оборачиваясь, на ходу кричит Печников, но на него не обращают внимания, садят в машину с зарешеченными оконцами и увозят…
Не верхней полке жарко. Печников просыпается в липком поту, сердце у него колотится, хочется пить, он рад, что это – сон, чтобы освободиться полностью ото сна, свесив голову, Печников спрашивает охрипшим голосом: «Далеко еще?» – «Подъезжаем», – отвечают ему. Печников, придерживаясь за верхние полки, мягко спрыгивает, поправляет рубаху, волосы, берет со стола стакан и идет в конец вагона к титану, напиться. Выпив подряд три стакана теплой кипяченой воды, Печников поставил возле титана стакан, шагнул в тамбур, достал сигареты. Сон не выходил из головы. Не слова, что вроде бы сказал Печников, – суд. Все это должно было скоро произойти с ним на самом деле. Вот приедет и…
А с трусами – да, так и было. Вдруг невозможно стало купить в магазине трусы: нет в продаже. Не понимая, отчего подобное происходит, взял позвонил однажды в городской отдел торговли, заведующему. Подождал, подошла к телефону женщина.
– Але, – сказал в трубку Печников, – добрый день. С вами говорит архитектор Печников из института Гражданпроект.
– Да. Я слушаю, – спокойно ответила женщина.
– Я вам звоню по поручению коллектива, – продолжал Печников. – Не подскажете, где можно купить трусы мужские. Размер: сорок восьмой – пятидесятый?
Заведующая некоторое время молчала. Она, видимо, думала, что ее разыгрывают. Но голос у просителя был серьезный. Он ждал.
– Трусов нет и не предвидится, – ответила заведующая, не меняя голоса.
– Почему? – спросил Печников.
– К сожалению, наша промышленность не в состоянии обеспечить всех желающих трусами, – заведующая говорила ровным голосом, не вдумываясь в смысл сказанных слов.
– Почему же?
– По разным причинам.
– По каким? – спросил Печников.
– Ну…
– А как же быть?
– Ну, хорошо, – сказала заведующая. – Сколько вам нужно? Сколько вас человек? Запишите телефоны Позвоните в конце месяца. Может быть, вам помогут. Но не уверена, не обещаю…
Записывать телефоны Печников не стал, поблагодарил, положил трубку. Стал упрашивать жену: сшей трусы, сшей трусы! Машинка который год стоит, ржавеет. Сшей десять штук сразу, чтобы…
– Сатину нет, – отвечала жена, но он видел, что ей лень, и все.
– Возьми другой материал, – уговаривал Печников, – любой…
– Трусы шьют только из сатина, – жена смотрела на Печникова. – Неужели ты не понимаешь таких простых вещей?
В субботу, когда он помылся, жена подала ему свои. Печников решил, что она шутит, но жена не шутила. Подала и ушла, не то – читать, не то – к телевизору. Он надел, надеясь, что ей станет стыдно. Стыдно ей не стало. Две недели отходил так Печников, ежевечерне затевая один и тот же разговор. Со скандалом, но сшила ему жена трусы. Достала из ящика какую-то цветную материю, купленную на кофту или платье, раскроила. Печников обрадовался. Полгода назад было это, а вот сейчас во сне всплыло. Слава богу, что сон…
Сон сном, но суд будет – никуда от него не денешься. Приедет, а повестка уже ждет его, Печникова. Пришлют, не забудут. За всю жизнь ни разу и в мыслях не было у Печникова – что вот настанет день, начнут судить его, и осудят, и увезут куда-то, оторвав от всего, что окружало. Не задумывался он как-то, что совершаются вокруг различные, большие и малые, преступления, преступников ловят, судят, отправляют по колониям. А теперь и он пойдет их путем. Остригут, и будет он, униженный, сидеть на скамье подсудимых, ждать приговора. А потом на два – хорошо, если на два, – года увезут неизвестно куда. За два года ни разу не увидит он Ольку, ни родных, ни приятелей, ни города. На работе наговорятся о нем всласть, в доме наговорятся. «На суде был?» – скажет кто-нибудь. «Не был». – «А я был. Печникова судили. Нашего, из сорок шестой. Два годика влепили. Так-то, брат, руками махать».
В город после всего возвращаться нет смысла. Черт с ней, с квартирой. Уедет в другое место, начнет жизнь заново. Не пропадет. Ничего, Катерина Ивановна, пожалеете, да поздно будет…
Осудят, отвезут в колонию общего режима. Под конвоем на работу, обратно. Там, в колонии, сброд всякий, и среди них он, Печников. За что? Какой же он преступник? Ну, ударил. Да, виноват. Больше не повторится. Было за что ударить, поверьте. И ее надо наказывать. Почему лишь его? Ладно, накажите его одного. Как угодно, он согласен. Принимает. Он прощение просил. Попросит еще. Сколько угодно. Но судить…
Печников вздрагивает, трясет головой. Берет стакан, возвращается в купе. Поезд замедляет ход. Вокзал, огни. Пассажиры выходят из вагонов. Выходит Печников, держа в опущенной руке сетку. Вечер теплый, на вокзальной площади много народу. Печникову надо ехать трамваем, но он идет пешком, напрямую. Идет медленно, не зная, с чего начинать. Жена в больнице. Повестку, судя по всему, еще не прислали. Бежать к жене, умолять на коленях, чтобы простила. Потом развестись. Нет, не стоит унижаться. Пять лет издевок. Не стоит. В конце концов – человек он или кто? Но суд… Пойти сегодня же, унизиться в последний раз. Ради Ольки пойти. Может, простит. Нет, не ходи. Не смей и думать об этом. Вынеси все, облегчение придет после.
Но суд…
Чистые плесы
Этюд
Памяти Юрия Казакова
После полуночи начался сильный дождь с ветром. Лежа на спине с открытыми глазами, Камышов слушал, как шумят на ветру деревья, росшие на пустыре, где раньше были бараки, и как льется с крыши вода. Потянувшись к подоконнику, приблизив к стеклу лицо, он увидел при свете уличных фонарей тускло блестевший асфальт, пузырящиеся лужи, мокрые, с заломленными ветвями деревья, с которых ветер срывал последние листья. И на улице, что частью была видна из окна, и возле дома никого не было. Шел четвертый, предутренний час.
Заканчивался октябрь, срединный осенний месяц, дождливый, как всегда. Воздух нахолодал, иной раз в это время уже кружил снег либо крепкие заморозки забирали землю, но сейчас, стихая, усиливаясь, никак не отступали дожди, и дождям этим, казалось, не будет конца. Сыро и зябко было на дворе.
Пригревшись, Камышов снова уснул под монотонный шум дождя и ветра. Разбудила его жена, она уходила на работу. Умывшись, он прошел на кухню, стал завтракать, долго пил чай. Убрав со стола, он вернулся в свою комнату, сел на диван, на котором спал, закурил и сидел так, смотрел в окно, на мокрые тополя, шумевшие ночью. На дворе все так же было дождливо, но ветер заметно стих, едва шевелил ветки голых уже деревьев.
Камышову никуда не нужно было торопиться. С некоторых пор он работал на дому. Он занимался литературой, был сочинителем – писал художественную прозу. Десять лет назад, на радость ли свою, на страдания ли, неожиданно начал Камышов писать, и сегодняшний день был для него днем обыденным, надо было садиться за письменный стол и работать: продолжать, заканчивать или затевать что-то новое. Ему давно следовало затевать новое, а он все медлил, не находил в себе решимости. Все оттягивал. И не потому, что не было темы или не знал он, как подступиться к ней. Нет, другое мучило его…
Обычно работать Камышов начинал осенью, с дождями, работал осень, зиму, и чем ненастней был день, тем лучше думалось. Дни пролетали незаметно, не хватало их, дней, хотелось остановить, задержать, сделать до весны намеченное. До весны.
Последнюю работу, начатую прошлой осенью, Камышов закончил как раз к середине марта, рассчитывая к предстоящей осени обдумать следующую, но прошел сентябрь, прошел почти октябрь, а он все раскачивался, всякие сомнения одолевали его – нужно ли это, писание? Приносит ли оно ему удовлетворение? Что дает читателю? Изменяет ли что в жизни, в лучшую разумеется, сторону, помогая людям? И чем больше вставало перед ним подобных вопросов, тем сильнее терялся он, потому как ответ его самому себе был отрицательным, а уж после этого садиться за стол и начинать что-то было как бы и ни к чему совсем. А утро сегодняшнее было ненастным, хорошим…
В этом году исполнялось ровно десять лет его литературной биографии. Десять лет назад он не думал об этом: нужно ли? Эти мысли пришли не вчера, но и не с первого дня занятий литературой, а где-то, может, на полпути, когда он уже отрезвел, обвыкся в новом своем состоянии пишущего человека. Тогда странные мысли появлялись изредка и исчезали, а последние год-два не отпускали вовсе.
Десять лет назад, на первых порах, слегка покруживало голову, как вдруг ощутил он незнакомую до сих пор потребность записывать за собой, и удивляться, и радоваться до восторга оттого, что обыкновенные слова, которые ты произносишь, разговаривая, будто бы сами по себе под карандашом выстраиваются в определенном порядке, складываясь в строки, строки в абзацы, абзацы в страницы. Одна, две, семь, десять страниц. Все это в конечном счете называется произведением, и это сделал ты, ты являешься автором. Неслыханное дело – написал!..
Нет, он не был в ту пору молодым человеком, восемнадцати– или девятнадцатилетним, ему было тридцать два, он уже пожил, что называется, поездил, повидал, подумал, много и тяжело поработал, всего два года назад закончил институт. В жизни ему приходилось заниматься разным, чаще всего это был физический труд, позже – учеба, но никогда он даже и не помышлял о том, что станет писать. До сих пор не может понять и объяснить, как случилось такое, и на тридцать втором году от рождения.
Это произошло само собой, как бывает, что начинает говорить немой, потому не следовало противиться, он и не стал противиться, сдерживать слова. И хотя не был он по природе своей ни позером, ни фанфароном, ни честолюбцем, многому в жизни знал цену, но состояние это, не совсем обычное, взбудоражило его, ненадолго, правда, пока не понял он, что такое на самом деле представляет собой труд литератора, и новая среда, в которой он оказался, и отношения в этой среде.








