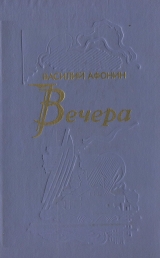
Текст книги "Вечера"
Автор книги: Василий Афонин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
К тому времени, когда я поселился у тети Фени, Толик уже оправился от потрясений, связанных с учебой, и пребывал в своем обычном состоянии: ходил на работу, на бега, читал книжки про шпионов, скучал по вечерам в семье, задумывался иногда. Мне очень хотелось знать, о чем он думает. Но Толик не говорил.
– Вот балбес, – сокрушалась тетя Феня. – Есть дураки, а этот без всяких просветов. И откуда он только взялся на мою голову. Мужик называется. Сто рублей в семью приносит. Ни в поле, как раньше говорили, ни дома. Нешь таким мужик должен быть, а? Тридцать лет, а он – как вареный! Чужой человек ему уборную роет. Тьфу! Провалиться от стыда скрозь землю! Да у тебя все в руках гореть должно, вот как!
– Ох, и хватанет же с ним Ленка, – помолчав, продолжала тетя Феня. – Долог век покажется. В семье хоть один кто-то тянуть должен, а они оба – не раскачаешь. Нашли один другого! А врать! Придет к своим и наговаривает, что-де теща работой замучила, присесть не дает. А та – на стенки кидается с пеной на губах, так уж ей сынка жалко. Сюда прибегала, ругаться. А я ей говорю: вон, глянь на крышу, пятый год течет. Жалко, пусть к вам переходит, комнат у вас полно, заблудиться можно. У меня пожили, пусть у вас поживут. Ушла. С работы вернулся, я ему все высказала. Плохо здесь, иди к маме своей. Усмехается молчком. Враль, хуже бабы последней. Ох, горюшко ты мое горькое…
– Зачем же Елена вышла за него? – спросил я тогда у тети Фени.
– Зачем? Сдуру. Боялась, что никто другой не возьмет. Вот и вылетела. Надо бы подождать годок-другой…
Леночке двадцать девять лет, она на год старше мужа. Ростом ему по плечо, может, чуток повыше. Следит за фигурой, боясь располнеть. Нос слегка вздернут, в лице некоторая миловидность. Губы, ресницы и брови не красит. Не красит и не укладывает мягкие русые волосы, а расчесывает их по обе стороны головы и опускает на грудь, как у актрисы из польского журнала. Одевается просто, как можно просто одеваться на сто пятнадцать рублей в месяц, учитывая вычеты и расходы по хозяйству.
Леночка, несомненно, умнее мужа, хотя ей также не хватает организованности. Видно, что она жалеет мать, но во всем, что касается домашней работы, полностью надеется на нее. В спорные минуты, не задумываясь, становится на сторону мужа. Она считает Толика красивым мужчиной, хорошим мужем и опасается, что он, переутомившись от домашних забот, уйдет к другой женщине. Мать умрет, она останется с Гриней, да еще в таком доме. Кто ее тогда подберет, кому будет нужна. Поэтому, когда тетя Феня, выйдя из терпения, начинала браниться, Леночка всячески защищала мужа, говоря, что он и без того устает, потому что работа у него физическая. День над верстаком гнется, а потом дома…
У Леночки работа умственная. Она инженер-технолог. Сидит в лаборатории. Чем она там занимается, я так и не узнал. С Толиком Леночку познакомила подруга, за которой Толик ухаживал какое-то время. Они ходили в кино, в кафе-мороженое, в парк, потом Толик предложил ей пожениться. Она рассмеялась.
– Да ты что! – воскликнула Леночкина подруга, обидев смехом своего кавалера. – Толенька, как мы с тобой жить станем, подумай?!
Толик об этом не думал, ему просто захотелось жениться, и все. За Леночкой он ухаживал так же добросовестно и скоро сделал ей предложение. Леночка долго раздумывать не стала. Она была одна. В школе в нее никто не влюбился, в институте никто не влюбился, на службе в отделе интересных мужчин не было. А Толик был интересный: высокий, волос вьется, улыбка. Поженились.
– На частную уходили, – рассказывала тетя Феня. – Пяти месяцев не выдюжили. Праздновали. Каждый день торт, каждый день конфеты в бумажках. Прибежит: мамка, займи десятку. А у меня пенсия сорок шесть рублей. Вот как. Захожу раз, гляжу – а у нее под кроватью ворох грязного белья. Собрала в узел да к себе – стирать. Деточки вы мои милые, думаю, как же вы дальше жить-то думаете. Смотрю, приходят с вещами, в темноте уже. Днем, видно, стыдно. Мама, принимай. Нажились. Приняла, куда деваться.
Леночка умела шить, вязать. Я видел, как она вязала свитер мужу. Но все это у нее как-то стихийно происходило. По вечерам Леночка обычно смотрела телевизор. Сядет перед экраном с вязаньем, засмотрится, отложит работу и забудет о ней на месяц, больше.
Интересно они с мужем воспитывали сына. Гриня у них получал полную свободу. Он мог смахнуть на пол чайную чашку, залезть рукой в кастрюлю с супом, взобравшись на диван, дотянуться до книжной полки, взять книжку и порвать ее, как порвал он свои книжки. Так однажды на моих глазах Гриня разорвал юбилейное издание Аксакова «Записки ружейного охотника». Леночка, сидевшая тут же, повернула голову, спрашивая равнодушно сына:
– Что ты делаешь, Гринька? A-a!..
Как-то смотрели мы все вместе интересную передачу: Леночка, Толик и я. Гриня сидел на полу, стучал молотком, пытаясь забить в половицу гвоздь. Гвоздь не слушался. Отбросив гвоздь, Гриня встал, подошел к телевизору и занес над экраном молоток.
– Разобьет! – закричал я, вскочил и оттащил Гриню к двери. Гриня брякнулся на спину, завизжал, ноги его ходили ходуном. Леночка в тот же вечер сделала мне замечание такого рода.
– Ребенка ни в чем нельзя ограничивать, – сказала она, нахмурясь. – Следует создавать естественные условия. Ребенок должен делать то, что ему хочется делать. Понимаете? Так пишет доктор Спок. Иначе получится, что ребенок находится в невидимой, но ощутимой клетке: то воспрещается, это воспрещается. Серьезно.
Я не понимал Леночкиных рассуждений. А доктора Спока к тому времени еще не прочел. Детей у меня не было. Да и не верилось, чтобы доктор Спок писал о подобной свободе. Больше мы с Леночкой на эту тему не говорили. Я старался быть с ними вежливым, неназойливым. Я мог подправить крышу сарая, но давать советы, как надо воспитывать детей, – не собирался. Просто мне было жаль тетю Феню, ей приходилось постоянно заниматься внуком, а он отнимал у нее много сил и времени.
Леночка была младшей дочерью тети Фени. Старшая, Надежда, не жила давно уже с матерью. За все время, прожитое на Воробьевекой, я один раз видел Надежду, приезжавшую попроведать родных. И еще я не знал, что отцы у Леночки и Надежды разные…
Получив аттестат, Надежда уехала дальше на юг, в город, стоявший у моря. Там она поступила в педагогический институт, жить стала в общежитии. Город был тихим, зеленым, хорошо в нем дышалось. Был в городе порт, куда заходили торговые пароходы всех стран, было много старины, крепость, построенная бог весть когда, – была своя история, уходящая в глубину веков. Город нравился Надежде, и она решила остаться в нем.
На втором курсе Надежда вышла замуж за адвоката, которого потом сделали заведующим юридической консультацией. Адвокат был старше жены лет на двенадцать, он воевал, был ранен в руку, имел награды. У адвоката был уступчивый характер, что более всего нравилось в нем Надежде. Родители адвоката были крепкие селяне, они и в войну оставались крепкими селянами, они хорошо поддержали молодых на первых порах их семейной жизни. А потом у тех само по себе пошло все как следует.
В институте на всех курсах Надежда была известна как активная общественница: выступала с речами на собраниях, собирала профсоюзные взносы, критиковала отстающих в учебе. При распределении она была рекомендована на руководящую должность, там показала себя, ее заметили, выдвинули, и теперь Надежда была на виду у всего города.
Мать Надежда навещала редко. Если случалось бывать в командировке в родном городе, проездом, – заходила на несколько часов, на день – не больше.
– Что, не получили квартиру? – спрашивала Надежда из ворот, хотя видела и дом, и мать в ограде, и все то, что видела в прошлый свой приезд. Но с этой фразы она всегда начинала разговор.
– Не получили, – отвечала тетя Феня, идя навстречу дочери.
– А почему? – спрашивала Надежда таким тоном, будто мать была виновата, будто давали ей квартиру, но она отказалась.
– Не дают, – просто объясняла тетя Феня, обтирая передником руки.
– Не может быть, – говорила Надежда, целовала мать и проходила в прохладу сеней и передней. Проходила в глубь дома боком, боясь нависшего потолка. Была она, Надежда, выше матери, стройная еще в свои сорок пять лет, одета дорого, но строго: туфли, юбка, блузка с отложным воротничком, жакет или вязаная кофта, темные волосы назад, на затылке узел, мочки ушей украшают крошечные с жемчугом серьги, на шее – тонкая золотая цепочка, на правой руке кольцо, на левой перстень, в руках маленькая, черной кожи сумочка. Если осень – плащ, переброшенный через руку.
С институтских времен, когда была Надежда профоргом факультета, выработались у нее тон, манера говорить, походка, жесты, и сейчас, стоило раз взглянуть на ее лицо (такие лица принято называть волевыми), как становилось ясно, что женщина эта по природе своей создана, чтобы руководить и ничего больше. Она и с матерью разговаривала, будто делала указания подчиненному, и тетя Феня, чувствовалось, побаивалась своей старшей дочери, говорила тихим голосом, извинялась будто.
Тетя Феня угощала старшую, чем могла. За столом они разговаривали, после обеда Надежда ложилась на диван отдохнуть, тетя Феня присаживалась рядом, опустив руки на колени, и все просила Надежду подремать с дороги.
Отвечая на вопросы матери, спрашивая сама, Надежда оглядывала стены, потолок, окна комнаты, с трудом представляя, что это и есть тот дом, где она родилась и в котором прожила почти до восемнадцати лет, куда приезжала на каникулы, а потом все реже, реже… А вон тот человек на стене, на фотографии, – ее отец. Она помнит, как провожали его. И все. И больше ничего. Письма еще, похоронную… Как ходили с матерью к шахтам – во-он аж куда – выбирать из выброшенной породы уголь. Большие кучи породы. Мать несла в мешке уголь, мешок держала на правом плече, в левой руке корзина. Надя помогала нести корзинку, подымала упавшие куски угля… Немца помнит, который бил ногами мать… А вот эту пристройку, где теперь сени и прихожая, они лепили с матерью, когда Надя окончила школу, перед самым ее отъездом. Лена была совсем маленькая, а тот человек – Ленкин отец, солдат, привезенный матерью из госпиталя, уже ушел от них…
Приезжая вот так к матери, всякий раз с наплывом воспоминаний, Надежда чувствовала перед матерью свою вину, но чувство вины сменялось тут же чувством досады на Елену и ее мужа. С сестрой у нее были с некоторых пор отношения прохладные, с Толиком Надежда сдержанно здоровалась, так же сдержанно прощалась. Такие молодые – и не могут изменить свою жизнь. Сидят, ждут чего-то. Давно бы вступили в кооператив, давно бы встали на квартирную очередь, каждый на своем производстве. Давно бы… Что еще, Надежда и сама не знала, но знала твердо, что каждый человек должен сам о себе думать, а не ждать, пока кто-то придет со стороны, подскажет, поможет, принесет. Такого не бывает: никто не придет, ничего не принесут. Надо бороться, расти, а они… Тоже и Елена… разговаривать лишний раз не захочешь, хоть и сестра. Можно было бы уже сорок раз написать диссертацию и защититься, и стать кандидатом, и возглавить ту же лабораторию, а не сидеть на сто пятнадцати рублях. Не по душе тема техническая, бери свободную. Было бы желание. Желания, видно, нет у них с мужем.
Сама Надежда несколько лет как защитила кандидатскую. Она стала ученым. Это ей во многом помогло.
Муж Елены… Это надо же так опрометчиво и неудачно выйти замуж! И мучься теперь с ним всю жизнь. Уж если он совсем не способен к учению, то хоть бы бригадиром стал каким-нибудь. Что ж, так и будет до пенсии стучать молотком…
Мать выходила во двор, где ее ожидали дела, а Надежда, лежа в полудреме, невнятно думала о том, что вот, после той жизни, которой она жила сейчас, никак себя не представляет опять в этом вот доме, на месте своей матери, в доме с желтыми подтеками от дождей, нависшим потолком в прихожей, туалетом во дворе. И заботься, чтобы вовремя привезли уголь, переживай, хороший ли привезут на этот раз. А еще дрова. А еще базар и магазины. Вода, которую надо на себе носить из колонки в любую погоду. Топить печку углем, в непогоду она разгорается плохо, и надо угадать, когда закрыть трубу, а то угоришь. Осень, зима… Во дворе грязь, на улице грязь, даже нет тротуара, и машина не ждет возле дома, нужно идти к трамваю, а уж он повезет тебя за три копейки на все четыре стороны…
Трамвай исчез из ее обихода со времен студенчества, как и многое другое, как магазины и базар, куда с сумками по сей день ходит мать. Надежда уже и не помнила, когда в последний раз бывала на базаре или в магазинах, всем этим занималась домработница.
Еще она подумала, что все пока слава богу и дома и на службе. Муж не выпивает, держится семья, сын закончил институт, поступил в аспирантуру, дочь заканчивает институт, собирается в аспирантуру тоже. Одного скоро женить, другую замуж выдавать. И с этим Надежда управится. Летом дочь поедет в международный студенческий лагерь, а они с мужем и сыном в Голландию. С путевками вопрос давно решен.
В первые после института годы они отдыхали с мужем на курортах Крыма и Кавказа. Скоро это им прискучило, и они ежегодно на месяц стали уезжать за границу, путешествовать. Совершили на пароходе круиз, побывали и Швейцарии, Франции, Швеции. На этот год намечена Голландия. А еще Надежде хотелось побывать на островах в Тихом или каком другом океане. В доме хранилось несколько альбомов с фотографиями: где и как они отдыхали. Что касается службы, то там требовалась предельная сосредоточенность, умение поставить себя, знание дела, свободная ориентация в некоторых, тесно связанных с работой вопросах и в конечном счете чутье, чтобы вовремя почувствовать, откуда и куда дует ветер. Все эти качества у нее были в достаточной мере.
Обычно Надежда гостила у матери день, на второй уезжала. Под вечер первого же дня ее начинали раздражать неудобства: теснота, глупость Толика, невоспитанность Грини. С Еленой разговора не получалось, мать занята. Она выходила во двор, но воздух с угольной гарью был тяжел, возвращалась в дом – Гриня лез на колени. Наутро Надежда уезжала. Часам к двенадцати подъезжало заранее заказанное такси, чтобы увезти гостью в аэропорт. Тетя Феня, собрав внукам гостинцы, выходила за ворота проводить старшую, которая жила какой-то непонятной для нее жизнью. Постояв, посмотрев из-под руки вослед удалявшейся машине, шла к плите, где кипело в кастрюле и лилось через край…
Если Леночку я видел ежедневно и мог через определенное время составить о ней какое-то мнение, то о Надежде знал только по рассказам тети Фени, причем рассказы о теперешней ее жизни носили очень уж расплывчатый характер.
Да и о тете Фене я мало что знал. С расспросами не приставал, стеснялся, сама же она почти ничего не рассказывала. Так, из общих разговоров, мог я догадаться о том, как жила она до войны, в войну, после. Кое-что узнал от соседки, той, что справа от заплота. Когда дома никого не было, соседка затевала со мной долгие беседы.
Недели через три после того, как поселился я на Воробьевской, сидел как-то в ограде, готовясь к урокам, вдруг вижу: над заплотом поднялась женская голова, подвязанная подсиненным платком, посмотрела туда-сюда, потом пристально на меня.
– Что вам нужно? – спросил я, отложив книжку в сторону.
– Фенька ушла, что ли? – женщина опустила на заплот руки.
– На базар ушла, – пояснил я. – А что вы хотели?
– Да так. Ты это, поди-ка сюда, – поманила меня соседка.
Я продолжал сидеть, женщина ничуть не обиделась.
– Ты что же, постоялец новый у них? – спросила она.
– Да, на квартире, – ответил я не совсем дружелюбно. Лицо и голос соседки мне чем-то сразу не понравились.
– С кормежкой пустили или как? Сколько берут с тебя?
– Просто на квартире. А что вас интересует?
– Конечно, без кормежки, – рассуждала женщина. – Куда же… Ей, Феньке-то, на своих успевай готовь. Сколько платишь за сарай?
Тут послышался стук открываемой двери, в ограду вошла тетя Феня. Я поднялся, чтобы взять из ее рук сумки, и увидел, как, пригнувшись, оглядываясь, от заплота к крыльцу торопится соседка. Она почти бежала, подавшись вперед.
Через несколько дней, когда я шел от колонки с полными ведрами воды и остановился напротив соседкиного дома передохнуть немножко, она опять заговорила со мной:
– Помогаешь? Феньке не под силу самой, верно. А смолоду, помню, вот здорова была. Там грудина – что у коня. Ох и здорова. С мужиками становилась веревку перетягивать. Соберутся мужики в праздники на улице и давай веревку тянуть, кто – кого. Так Фенька против троих мужиков становилась, перетягивала. Сначала руками тянет, потом повернется, перекинет через плечо, пригнется чуть и – пошла. Мужики за ней. Она – шахтерка. До войны, говорю, в шахте работала, а потом… ох, ведь и долго рассказывать…
Что было потом, я мало-помалу узнал от самой тети Фени. Иногда, редко правда, теплыми вечерами, перед сном, дожидаясь, пока утихнет в доме, тетя Феня садилась во дворе на скамью под деревом. Положив руки на колени, глядя в темноту перед собой, не шевелясь, подолгу сидела она, большая, грузная, белея зачесанными назад седыми волосами. Мне всегда хотелось знать, о чем думает она в такие минуты. Я присаживался рядом или напротив, на давний нерасколотый чурбак. Мы разговаривали негромко, час и два. Вот первый наш разговор. Вечером, в ограде.
– Что, – спрашивала тетя Феня, – не заболел? Дышишь тяжело. – Сама она дышала сипло, надсадно, всей грудью.
– Нет, не заболел, – отвечал я. – Воздух такой.
– Не привык. Не приживешься здесь?
– Нет, видно. Да я и не собираюсь долго…
– А земля-то твоя где? Скучаешь небось? Скучаешь, да.
– Далеко. В Сибири. Далеко отсюда.
– Сколько же тебе лет? – тетя Феня смотрела на меня. – На вид ты старообразный. И бороду носишь. Как старовер.
– Тридцать скоро исполнится, – не сердясь, говорю я. – А бороду давно ношу. Привык.
– Семью надо заводить, – кивает головой тетя Феня. – Старики живы? Ну, вот. Домой ехать да жинку заводить. Жинку надо. Добрую жинку. Иначе пропадешь. Что ж в тридцать лет по чужим углам.
– Тетя Феня, расскажите, как в войну жили? – прошу я старуху. Она долго молчит. Не вспоминает, нет. Все в памяти. Не знает, с чего начать. Я долго жду, гляжу на нее.
– Да разве расскажешь – как жили, – говорит наконец. – Самому пережить надо, иначе не почувствуешь. Как жили?.. Не праздники – война… Тогда и не спрашивали при встрече о жизни…
Опять молчит. И я молчу. Начинает тетя Феня издалека.
– На шахту я попала в шестнадцать. Здоровая была, не замужем еще. Дед мой шахтерил, отец. Я за отцом потянулась. Стала работать. А в ней, в шахте-то, – ого-го, выйдешь наверх – шатает, земля плывет. И Дмитрий там. Сама я местная, а он из москалей, прибился на нашу сторону. Я его и привела сюда, в дом этот, – тетя Феня указала глазами на дом. – А он оробел, Дмитрий. Матери говорю: вот, зятя привела, гляди. А она: привела, твое дело, тебе с ним жить, ты и гляди. Стали мы с Дмитрием жить. В той половине жили, где ты сейчас спишь…
Тетя Феня смотрит в сторону сарая. Я знаю, она видит в эти минуты там своего молодого мужа и себя рядом с ним. Может, слышит даже голос его. Интересно, что это был за человек…
Я наблюдаю за лицом хозяйки. Мне всегда нравилось лицо ее. Скоро семьдесят, но лицо не было обычным, старчески дряблым, не было на нем складок и резких морщин, хотя видно, что это лицо старого человека. И глаза не утратили своего цвета.
Рассказывает, голос спокойный.
– Потом завалило меня в шахте, – вспоминает тетя Феня. – Не одну меня, сорок человек. Взрыв случился, пласт и обрушился. Двое суток откапывали, Дмитрий с ними. Утром откопали. Это уж потом рассказывали нам. В живых-то я осталась да еще трое. Помяло сильно, сознание потеряла, а дышала – воздух откуда-то проходил. А иначе бы – конец. Так и вынесли без сознания. Ну, лежала в больнице, операцию делали. Кости срослись, а ухо правое не слышало совсем. Долго я с одним ухом ходила, а потом уж, через несколько лет, отпустило. Но не совсем. Слышу, а не так чутко, как раньше. Вышла из больницы, в шахту не полезла больше, стала уборщицей в конторе шахтной работать. А куда? Грамоте не знаю. Едва-едва печатные буквы понимаю да расписываюсь. И сила уже не та ворочать уголь. Уборщицей. Потом в больницу перешла, в ту, где лечилась. Сиделкой. Врачи помнили, взяли. Доктор, что операцию делал, он признал меня. Уважительный такой, до сей поры помню. Это уже перед войной самой. Да, перед войной…
В тот день, как войну объявили, иду домой с дежурства, ночью дежурила, а Дмитрий, вот он, навстречу. И повестка в руке. О-ох, боже ты мой! Я ему: Дмитрий, с тобой поеду! Совсем ополоумела баба. И про Надьку забыла. А он смеется. Куда, говорит, тебя, ты ведь глухая. И не услышишь, как немец подойдет. Собирай меня…
Собрала, проводила. А разговоров кругом! И слышно – к нам война приближается. Стали нас тогда наряжать на оборонительные работы. Окопы за городом рыть, сооружения всякие строить. А земля – не угрызешь. Отдежуришь ночь, утром лопату на плечо – и пошла. Надька со мной. Только не помогло ничего – пришли немцы в город. Стрельба, наши назад, а эти – за ними. Слышу, идут по улице, разговаривают. Стою середь двора, не знаю, что делать. Надька прижалась ко мне, плачет. Подошли к дому, ка-ак он ударит ногой в ворота, ворота настежь. Выходит один, ружье вперед выставил, сзади – человек шесть. Руки вверх, на нас. Подняли мы руки. Обошли кругом, посмотрели, показали, что станут в хате жить. Мы с Надькой в сарай ушли, кровать там стояла старая…
– Вот хоть и войну возьми, – сбиваясь с повествования, говорит тетя Феня. – Да, войну. Рассудить – одна страна, всем горе, всем равно. А нет, не всем горе. Видела я много, кому война – не война. И в войну жили, не бедствовали. Жаловались на людях, что им, дескать, тяжко, им достается. Стонали. А сами… Да вон хоть Ефимиху возьми, – тетя Феня кивает на заплот. – Ох, и сучка, свет белый таких не видывал! Офицер у них жил, так она с офицером тем сдружилась. Когда прогнали немцев, тыловика приняла. В кителе ходил, сапоги хромовые. Морда до того сытая, аж чуть не треснет. Года два кормилась возле него. Потом исчез он куда-то. А ей жрать надо – как же. Покрутилась – никого рядом нет, чтоб подхватил ее. Устроилась тогда на молокозавод, только что открылся он. Подсобницей, что ли. В грелке молоко выносила. Привяжет грелку внизу живота и пошла напропалую. На соседних улицах продавала, ребятишки у кого. На пенсии сейчас. Вот как…
– А муж у нее? – я хотел спросить, был ли у Ефимовой муж.
– Убили. Вместе с Дмитрием уходил на войну. Тоже шахтер. Мужик был справный, ничего плохого не скажешь. Да не ту выбрал. Убили. Похоронную ей раньше принесли. Это уж когда немцев выгнали из города. Уж и не помню, плакала она по мужу или нет…
Стали уходить немцы, торопятся. А стрельба, слышно, в той стороне, куда отступали наши. Немец прибежал, из тех, что жили в доме, один, и давай в мешок запихивать последнее, что у нас с Надькой осталось. Я Надьку в сарай закрыла: сиди, говорю, сама за лопату и к воротам. Ворота на крючок, спиной к ним встала, жду. Жду и молю бога, хоть бы наши быстрее, хоть бы из ихних не прибежал никто. Выскакивает тот немец из дома, в правой руке ружье, в левой мешок. Увидел меня с лопатой, понял. Остановился: матка, показывает, отойди. А я лопату наотмашь, сейчас секану. Если б сила девичья при мне да без ружья он, я б его руками сломала. Вскидываю лопату, а он меня сапогом вот в это место. Я и села. Да по боку, да вдругорядь, прикладом уже. Стрелять не стал, побоялся, видно, антихрист. Опомнилась: Надька кричит, Ефимиха надо мной наклонилась, водой в лицо брызгает. И жалостливо: ушиб он тебя, Фенюшка. Встанешь? Я встала да опять за лопату. Уходи, говорю, шкура поганая с моего двора. Ушла. Потом все по улице лебезила, как ни встречусь: Фенюшка, Фенюшка. В глаза заглядывала. Боялась, что заявим на нее. Молока сколько раз приносила, я ее от ворот с молоком этим гнала, как собаку…
– Что же вы не заявили? – спросил я тетю Феню, – Ведь все же видели. Молоко воровала, с немцами…
– Сначала не заявили, а потом уж и ни к чему вроде. Да и чего заявлять, она и так богом обиженная. Я вот не разговариваю с нею, не могу. Уж сколько лет прошло, а душа не лежит…
Похоронную на Дмитрия получили в сорок четвертом. Как раз в конце года. Я в госпитале работала. Госпиталь разместили в больнице той, где раньше лечилась. Вот сорок пятый год прошел, сорок шестой. В сорок седьмом привела я домой из госпиталя Алексея. Был он весь ломан-переломан. Пока лечился, что-то поджило, что-то срослось. Деваться ему некуда было, по госпиталям належался, родных – никого. Жил он до войны в Курской области, близ станции какой-то, в деревне. Станцию ту снесли подчистую и деревню заодно. В деревне оставались у него мать и жена с парнишкой. Писал им с фронта, ответа ни разу не получил…
Тетя Феня опять умолкает. Я чувствую, сейчас возле нее Алексей, в памяти те дни, когда она предложила искалеченному солдату жить у себя. Молчит, а губы шевелятся. Или кажется мне…
– …Привела, значит, Алексея. Мужик, а на мужичью работу не гож. Один костыль под мышкой, другой в руке. Лицо обожжено. Глаза, слава богу, целы. Пенсию определили ему, стал он еще в артель инвалидов ходить, вот тут, возле базара, артель была, замки ремонтировали, обувь. Я его выходила, как могла. Прихожу домой раз, он сидит в ограде, письмо в руках. Увидел меня да как заплачет. Я к нему: что случилось? Он письмо подает. Говорю: мне не прочесть, читай сам. Читать не стал, рассказал. Оказывается, жива семья его: и жена, и парнишка. А мать умерла. Как немец взял Курск, они и подались на восток, до Урала добрались, там перетерпели. А теперь вот объявились в своих местах. Алексей из госпиталя написал в несколько деревень, где его знали, и напал на след. Сельсоветские помогли. Письмо от жены было…
Гляжу на него – лицом изменился, сидит, думает. А сам решился уже. Стал прощения просить у меня. А я ему: «Чего ты каешься. Ты передо мной не виноват. Я тебя сама выбрала. Езжай, не переживай». Получил он пенсию как раз, в артели ему при расчете деньжонок дали, разделил он все пополам: это тебе, Феня, это мне на дорогу. А я свернула деньги да в карман ему. Мне, говорю, износу не будет, руки-ноги целы, заработаю. Собрала, проводила на вокзал. Иду обратно, и что-то так нехорошо мне стало. Я уж в ту пору шестой месяц Ленку вынашивала. Иду-иду – и шатнет меня, аж земля поплывет под ногами. Ухвачусь за дерево, отдышусь и дальше. В сентябре это, в сорок седьмом…
Я вспомнил, как соседка в один из наших с нею разговоров сообщила: «Ленка-то у Феньки от другого мужика, не слыхал? Приняла, а он ушел от нее. Не сжились. От другого. Мы-то знаем. Чужим она не сказывает…»
– Не писал вам потом Алексей? – спросил я тетю Феню.
– Нет, не писал. А зачем? Душу только травить. Это – как в воду. Вспоминала я его попервости. Добром вспоминала. Дай бог, говорю, чтоб раны твои зажили, чтоб жилось тебе там, среди своих…
– Как же вы потом жили? – удивленный, спросил я. – Девок подняли да еще выучили их, сумели? Другой бы на вашем месте… – Я и не знал, что сказать. Да и что мои слова значили для нее.
– Сами учились, – тетя Феня посмотрела на меня. – А что же мне, по-твоему, оставалось делать? – она усмехнулась моим рассуждениям. – С яру прыгать вниз головой? Вот ты сам, вот твоя жизнь – живи. И станешь жить, куда денешься…
Работала. Только, видишь, сила не та была, что раньше. Шахта помяла, немец добавил туда же. Все меньше, меньше силы. Я ночь сиделкой отдежурю, вздремну часок какой, а утром в другую контору иду, уборщицей. Квартирантов в сарай пускать стала, старалась, чтобы муж с женой попадали. Пустишь девок – ребята к ним каждый вечер, ребят посели – девки ночами визжат, спасу нет. Одно и то ж. Ленка когда родилась – Надежде школу заканчивать. Она, Надежда, как в институт поступила да вышла замуж, сошла с рук моих. Мне, правда, от нее помощи не было никакой, ни тогда, ни потом, но и с меня не тянула. Вот так вот, милый. А ты говоришь – расскажите. Да разве расскажешь все, что пережил-перевидал. Жизнь, она во-он какая, а мы с тобой часу не говорили…
Иногда мы подолгу сидим молча, думаем каждый о своем. Тетя Феня молчит, молчит, а потом скажет, будто меня нет рядом, вроде бы говоря с собой:
– Вот умру, а уж тогда – как хотят, так пусть и живут. Вспомнят мать свою. А то все нехороша…
Я знаю – это она о Леночке и зяте. Что-то опять у них в семье не заладилось. Соседка из-за заплота рассуждала так:
– Фенька умрет, молодым хана. Слышишь, верное слово. Захлебнутся. Совсем неспособные к жизни. Пока мать жива, они шевелятся. Такие молодые, ай-я-я. Да я бы на их месте винтом ходила. Да у меня бы на их месте все горело в руках. А они…
Я и без соседки замечал: когда тетя Феня прихварывала, все в доме останавливалось. Как-то не по себе было в такие дни.
– Захворала я, ребята, – говорила она тогда, будто винясь перед ними, ложилась на свою кровать и лежала так несколько дней, есть ничего не ела, лекарства не принимала, пила одну теплую кипяченую воду. И врача запрещала вызывать, отмахиваясь.
– Сама встану, – говорила она, – я свои болезни знаю. Это кости мои устали, и здоровые и поломанные. Сколько ни живи, конец наступит. Вы уж только телевизор не включайте, потерпите.
Зять с постным лицом увозил Гриню к своим родителям, которым он не шибко-то был и нужен. Теперь Толик должен был просыпаться сам, на работу идти не завтракая, вечерами дожидаться, пока Леночка сварит поесть. Не любил Толик, когда теща болела.
Дня через четыре тетя Феня подымалась. Держась ослабшими руками за стены, косяки, выходила во двор, если было тепло, добиралась до скамьи. Просила Елену купить на базаре курицу и сварить жиденький супчик. И этот супчик, где мелко нарезанная картошка разваривалась полностью, пила прямо через край, держа обеими руками глиняную расписную чашку, сохранившуюся с давних времен. Через неделю тетя Феня ходила по ограде в своих постоянных заботах, зять веселел. Гриню привозили обратно, и все шло обычным чередом, как и до болезни…
Вдруг вспомнит, что скоро праздники, значит, надо поехать к Надежде, побелить квартиру. Побелит там, вернется, начинает белить у себя. Станет собираться к старшей дочери, слабая совсем еще после болезни.
– Тетя Феня, – скажешь ей, – куда же вы поедете? Вы же еще и не выздоровели как следует. Неужели Надежде квартиру некому побелить? Сама, дочь. Да сама она и не станет заниматься этим: скажи – придут, побелят. Что угодно сделают. Ей ли думать.








