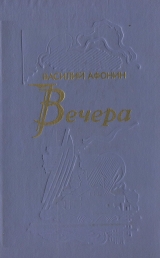
Текст книги "Вечера"
Автор книги: Василий Афонин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
– Побелят, понятно, – соглашалась тетя Феня, – есть кому, домработницу держит. Да разве домработница сможет так чисто, как я. Чужой человек. Знаю, как чужие делают. Ну, а побелили, успели – мне же лучше. Пирогов напеку, внуков покормлю. Надежда поест сама, забегалась она по совещаниям, где ж ей испечь. Время нет. Девчонкой, помню, любила пироги с капустой. Поеду, навещу…
И поедет. И будет трястись на автобусе едва не десять часов, придерживая на коленях сумку с гостинцами. Поживет два-три дня, засобирается назад. Как там дома? Семья голодная? Стирки накопилось, на базар некому сходить. Хватит, поеду. До свиданья, приезжайте в гости. Вот приберусь, приезжайте семьей.
Белить, по рассказам, ездила чуть не каждый год. Выбелит, полы помоет, мебель протрет, отдохнет денек и – обратно.
После наших с тетей Феней вечерних разговоров, у себя в сарае, лежа на прямом и узком топчане, ночами я подолгу раздумывал о разном, о том, у кого как складывается жизнь и как, с какой мерой мужества и достоинства каждый из нас несет свою ношу. Тетя Феня рассказывала от силы десятую часть того, что было в ее жизни. А ведь были еще мысли этой женщины, чувства или переживания, как мы говорим. Да мало ли чего…
Я сам за свои неполные тридцать лет не шибко-то и много хорошего видел. В сорок седьмом умирал от голода, не умер. Ел траву, ходил в домотканых штанах до самых заморозков. Меня порол отец, срывая зло от жизненных неудач. В семь лет я уже помогал в огороде и на сенокосе, в десять пас скот, в тринадцать самостоятельно ездил в лес за дровами. В пятнадцать работал на стройке. Так продолжалось до тех пор, пока уже взрослым, продравшись сквозь вечернюю школу, поступил в университет, стал студентом.
Теперь вот, оглядываясь назад, всегда останавливался я на том, что лучшее время моей жизни все-таки детство. Речка Шегарка, лес, сверстники, игра в лапту, школа. Было еще студенчество, не по времени и несытое. И студенчество я вспоминал. Но детство чаще. Остальное – работа. Потом я научился находить для себя радости. Прежде всего облегчение приносила природа: ее я любил в жизни больше всего. Уходил в лес во все времена года и возвращался успокоенный. Рыбачил на озерах, на Шегарке, сидел ночами у костра. А то поработаешь споро в огороде или в поле – тоже радость. С человеком хорошим поговоришь – глянь, день по-другому повернется, засветится новой для тебя гранью, и спать ложишься уже с легкой душой. Так сложилось у меня. Повзрослев и устав, стал я делать все возможное, чтобы жизнь была интересней. Иногда мне это удавалось…
А тете Фене выпало жить в безводной безлесой степи, в жарком, задымленном городе, работать в шахте, пережить войну, потерять одного мужа, второго, вырастить, выучить дочерей. И никаких тебе университетов, пансионатов на морских побережьях, никаких Франций и Голландий. Дом, построенный в 1903 году, сорок шесть рублей пенсии, семья, заботы. Вот так.
Отработав положенное после учебы время, я уехал на родину. И пока обживался заново в своих краях, определялся с работой, семью заводил – время шло. Тетю Феню помнил, все собирался, собирался написать, узнать, что нового в их жизни, и руки никак не доходили до письма.
А под Новый год сел за стол, вложил в конверт поздравительную открытку и письмо, написанное разборчиво – мне хотелось, чтобы тетя Феня сама прочла письмо. Через месяц примерно получил ответ. Отвечала Леночка. Она писала, что тетя Феня умерла прошлой осенью, несла по двору к плите бак с бельем, упала и не поднялась. Они с Толиком живы-здоровы, Толик работает на заводе слесарем. Гриня большой, пошел в школу. Ходят слухи, что дома по улице Воробьевской скоро будут сносить…
Когда черемуха цвела
Вчера, в субботу, перед самой баней, они вроде бы поссорились, потом молчаливо помирились, но спать жена легла отдельно, в передней, и теперь, лежа в горнице, которая служила спальней, а ему еще и кабинетом, где он занимался, готовясь к урокам, Георгий слышал через плотно закрытую дверь, как Вера мягко и тихо ходит по большой комнате, растапливая русскую печь, налаживая варить и стряпать, и он тут же вспомнил, что сегодня ему исполняется ровно сорок лет. Георгий потянулся к подоконнику, взял лежавшие там наручные часы, взглянул – не было еще и семи, встал, не одеваясь, в трусах и майке, сел к столу, к окну, что выходило на речку (второе окно горницы выходило в палисадник), закурил и сидел так, редко затягиваясь, не думая ни о чем, глядя на едва зазеленевший косогор перед усадьбой, на противоположный берег Шегарки, избы, дворы, огороды, уходящие к перелескам.
Горница была небольшая, хотя доставало в ней места для всего, что здесь находилось. Можно было даже расхаживать туда-сюда, от окна к дальней стене, когда надо было что-то обдумать или решить. Возле наружной стены (внутренней стеной, между передней и горницей, служила русская печь с лежанкой, дальше – двойная дощатая переборка) стоял давний диван, купленный сразу после свадьбы. Диван был удобный, ночью он служил кроватью, а днем на него можно было сесть, откинувшись затылком к стене, а то и прилечь, отдыхая между школьной и домашней работой. Над диваном висела большая географическая карта, между окнами, в углу, стояла самодельная этажерка, на ней, на четырех полках, книги. На трех верхних – художественные: Аксаков – «Записки ружейного охотника», «Записки об ужении рыбы», «Записки охотника» Тургенева, несколько книг Бунина, Никитин и Кольцов, биографическая трилогия Горького. Еще десятка три авторов. На нижней полке – книги по географии, различные справочники, учебники. На столе, покрытом цветной клеенкой (Георгий не любил голой поверхности столов), – лампа под абажуром, пепельница, ручка, несколько цветных карандашей, рассказы Гайдара – их Георгий читал перед сном. Над столом репродукции из «Огонька»: Левитан – «Над вечным покоем», «Стога», Рерих – «Заморские гости», Саврасов – «Грачи прилетели».
Жена мало бывала в горнице – когда уборку делала, ну и поздно вечером входила, ко сну. Она постоянно двигалась, находя любое заделье для рук, здесь ей не хватало простору, да и все стояло на своих обычных местах: ни убрать чего, ни передвинуть – привыкли. А он, Георгий, часами сиживал вот так, занимаясь или просто глядя в окно.
На косогоре, на самом верху, над береговой кручей, стояли три осины одна подле другой, старые разлапистые деревья. По осеням листья на осинах становились разноцветными, и когда начинался листопад, хорошо было смотреть, как ветер несет сорванные листья через поляну, забрасывая их в палисад, на крышу избы и двора, в огород. Потом осины долго стояли голые и мокрые, весь почитай октябрь, пока не начинались заморозки, а следом – снегопад, и на мерзлые ветви бесшумно ложился снег. Зимой, в феврале, с косогора стекала поземка, ометая сугробами избу, баню, двор, осины шумели на ветру, и шум их был слышен в избе глухими метельными ночами. От сильного ветра, от тяжести намерзшего снега слабые ветки не выдерживали, обламывались, падая в сугробы. Весной Георгий собирал ветки, уносил в ограду, чтобы сжечь в печи. Весной и летом осины шумели, кажется, всегда, даже в безветренную погоду, и шум их был ровен и успокаивающ…
– Гоша, – спросила жена через дверь, – ты что делаешь, Гоша? Проснулся?
– Ничего, – откликнулся Георгий, не повернув головы. – Что случилось?
– Пойди, управься на дворе. У меня квашня. Поросенку и курам я приготовила.
– Сейчас, – сказал Георгий, надел брюки, рубашку, убрал постель и вышел в прихожую.
Из жерла печи тянуло устойчивым жаром, в комнате было тепло. Возле стола в халате с короткими рукавами стояла Вера, раскатывая тесто для пирогов. Занавески всех трех окон были сдвинуты на стороны, на широких подоконниках, в горшках, теснились цветы, но в комнате было светло от утреннего света, да еще под потолком горела лампочка: Вера, проснувшись, включила, а потом забыла, видимо. Георгий нажал пальцем на выключатель и стал умываться над тазом под рукомойником, что подвешен был на гвоздь справа от двери, в углу. Причесываясь перед зеркалом, Георгий грустно улыбнулся себе одними глазами: ничего, брат, не поделаешь – сорок лет! Надел фуфайку, поднял за дужки сразу оба ведра, толкнул коленом дверь и молча вышел.
Дров и воды Георгий запас в избу еще вечером, и потому в избе ему особо нечего было делать. Вчера, после бани уже, обсохнув и передохнув, выйдя, управясь со скотом, Георгий долго сидел в ограде на колодезном срубе, курил, думал, глядя в темноту. Вечер был теплым, пасмурным и томительным. С деревьев в палисаднике капало. Георгию чудилось, будто бы он слышит, как в оттаявшей земле шевелятся, расправляются корни. Темнота сгущалась, а он все сидел, он сидел еще и после того, как открылась сенная дверь и выглянувшая Вера, поискав по ограде глазами, спросила:
– Гоша, ты где? Чего так долго? Иди, чайник остынет, ты же чай собирался пить. Иди, озяб небось, – поздно уже.
В баню они на этот раз ходили порознь, Вера мылась последней, хотя ссора была и не ссора, просто напряженный разговор, и теперь, выглянув в ограду, заговорив первая, Вера приглашала помириться и все забыть. И он не сердился вовсе, просто ему было грустно больше обычного и разговаривать не хотелось, даже с женой. Георгий отозвался на голос, сказал, что скоро будет, а сам продолжал сидеть в ограде. Спать не хотелось и в избу не тянуло, сидел бы вот так, даже не в лесу, на берегу речном или озерном, а вот здесь, возле избы, сидел бы всю ночь, дожидаясь утра. Костер бы еще развести небольшой, жаркий – хорошо…
Потом Георгий направился домой. Снял в сенях сапоги, закрыл сенную дверь на засов. В избе было чисто, прибрано – Вера с утра занималась уборкой. Хотя у них всегда было чисто и прибрано в избе – в будний ли день, в праздники. На окнах висели свежие занавески, промытый узкий половик дорожкой стелился от порога к лавке. Тапки стояли тут же.
Ходики показывали половину одиннадцатого. Вера еще не спала. Она сидела у стола, штопала его протершиеся, выстиранные и высушенные шерстяные носки, чтобы прибрать их до зимы. Георгий постоял посреди передней, хотел что-то сказать жене, не сказал, не стал пить чай, молча прошел в горницу и притворил дверь. И Вера ничего не сказала мужу, ожидая, что он сам заговорит, ведь она выходила к нему. Закончив с носками, вздохнув едва слышно, она разобрала постель в передней и легла одна. Она еще долго не могла уснуть, ворочаясь и вздыхая, уже не таясь.
Георгий тоже не спал, лежал на спине с открытыми глазами, потом тихонько встал, включил настольную лампу, взял с этажерки Гайдара, сел к столу и начал читать «Судьбу барабанщика». Было тихо в избе, тихо на деревне, не слышалось даже лая собак, за окном – темень, а он сидел и читал, подперев рукой голову, свесив волосы. Отвлекаясь от книжки, глядя перед собой на оранжевый абажур лампы, Георгий вспоминал окраину города, барак, где они жили с матерью, проводив отца на войну, смерть матери, похороны, уличную жизнь свою, крыши поездов, на которых путешествовал он, переезжая из одного города в другой, пока не оказался в детдоме. На какое-то время Георгию от всего этого стало совсем скверно, чуть не до слез, он закусил губу, покачивая головой, думая, что вот завтра ему исполняется сорок лет, потом пятьдесят – а время летит, черт знает как быстро, – и все… Сорок лет – и он один. Ни отца у него, ни матери, ни братьев и сестер. И вот та рыжеволосая располневшая тридцатичетырехлетняя женщина, что лежит на кровати в соседней комнате, единственный родной ему на всей земле человек.
Он уснул расстроенный, во сне видел мать, похороны и плакал. Когда проснулся, лицо и край подушки были мокрые. Георгий подумал, что, видимо, кричал ночью он, – если кричал, Вера, конечно, слышала и скажет. Но Вера ничего не сказала. Она попросила помочь на дворе и все.
Это было вечером и ночью. После ночи, в свою очередь пришло утро, светлое, солнечное. Георгий, не выпуская ведер из рук, стоял в ограде, улыбаясь, жмурясь от солнца. Стоял минуты какие-то. Ему надо было скорее освободиться от работы, он хотел пойти за деревню, погулять.
Сначала Георгий выгнал (напьются в любой луже) за огород корову, годовалого быка с теленком, следом за ними – овец. Стадо еще не собрали, не могли найти пастуха, и скот пока бродил близ деревни. Старый пастух отказался, что-то не устраивало его, да и травы еще не было – куда гнать. Выбросив из коровника в огород через специальное окошко навоз, Георгий перенес туда узкое длинное корытце, разложил курам корм, и пока они клевали, кудахтая и толкаясь, вычистил в курятнике и у овец. Потом перешел к свиньям. Тяжелый боров лежал на соломе, лениво и редко хрюкая, а поросенок бегал по клетке, повизгивая, – хотел есть.
К длинной, на две двери, рубленой избушке примыкал просторный глухой соломенный двор, тут и размещалось все хозяйство. Избушка делилась еще и на перегородки. С началом холодов, каждого в свое отделение, перемещали туда кур, поросенка, телка. В самые сильные морозы в избушку загоняли корову, чтоб не сбросила надоев, овцематок с маленькими ягнятами. Откроешь зимой дверь коровника – пар ударит в лицо…
Закончив работу, Георгий присел в ограде на чурку, прислонясь спиной к стене двора, закурил. Он всегда передыхал так, управясь. Работа была не ахти какая, обыденная работа, которую выполнял он ежедневно, на протяжении вот уже многих лет. Но всякий раз Георгий делал ее добросовестно, до некоторых пор, с удовольствием, а потом курил на обычном месте, отдыхая, с сознанием, что поработал он хорошо, как и требуется от человека. Загребая лопатой навоз, перегоняя из клетки в клетку поросенка, рассыпая на чистом месте зерно курам, он, не отвлекаясь ничуть, отмечал попутно взглядом, где у него что не так. Избушка крепкая, простоит долго, и двор крепкий, нигде не продувает, не наметает снегу вовнутрь. А вот здесь половица прогнила, прогибается под ногой, глядь – проломится, надо завтра заменить. Здесь у гвоздя, поддерживающего на петле дверцу, перержавев, отлетела шляпка, нужно вытащить старый гвоздь, вбить новый. А тут следует выложить обломками кирпича, чтоб тверже ноге. В остальном же всюду порядок: надежны полы, матицы, слеги, стены и крыши. Лопата для навоза и вилы стоят в одном углу, вилы для сена – в другом, каждой мелочи свое место, как в ограде, так и в избе. Все у него, до последней щепки, в памяти, обо всем он помнит, чередуя, к чему и когда приложить руки.
Но сегодня Георгий управлялся на дворе не то чтобы с равнодушием, а без обычного увлечения. Не порадовали его ни боров, растянувшийся на соломенной подстилке, ни маленькие ягнята, подпрыгивающие в игре, ни теленок – Георгий приучил теленка подходить к своей руке и гладил его, разговаривая. И, сидя, по обыкновению, на чурке, затягиваясь горьким дымом, Георгий думал о чем-то далеком, не связанном с этой усадьбой, хозяйством своим, деревней, где он прожил ни много ни мало – пятнадцать лет.
– Сорок годков тебе, мальчик, – сказал он негромко, покачивая по привычке головой.
Боже мой – сорок, это надо же. Как быстро. Когда я жил в бараке, а потом в детдоме, я и не подозревал даже, что существует такой возраст. Когда приехал сюда, я был совсем молодым. А сейчас мне сорок лет. У меня жена. У меня изба, двор, баня, огород – все это называется усадьбой. У меня полон двор скота. У меня…
Сегодня придут гости, станут поздравлять, желать здоровья, счастья, успехов в работе, радостей в личной жизни, долгих лет. Сорок лет, скажут они, – это ерунда. Надо прожить еще столько же. Ну – чуточку меньше. А он будет благодарить их, улыбаться, тянуться с рюмкой, чокаясь, и опять благодарить. А потом гости уйдут…
– Гоша, – вышла на улицу Вера, – иди завтракать, яичница стынет. Тепло-то как, господи. Хоть бы погода наладилась. В прошлую весну в эту пору уже картошку посадили. А нынче… Идем, Гоша. Ты чего, не заболел, а?
В избе вкусно пахло стряпней, стекла пламенели – солнце играло в окнах. Помыв руки, Георгий сел к столу. Он ел яичницу с хлебом, запивая кипяченым молоком. Вера сидела напротив, изредка взглядывала на мужа.
– Ты что сейчас станешь делать? – спросила Вера, заканчивая завтрак.
– А что? – Георгий допивал молоко. – Что ты хотела? Помочь чего нужно?
– Столы принес бы от Мишуковых. Два стола. Я договорилась с ними. Сходи, пожалуйста.
– Принесу, – пообещал Георгий. – Потом, после обеда. Пока погулять пойду.
– Куда? Ты ненадолго, Гоша? В три мне столы накрывать, слышишь? Да переоденься, неужели так пойдешь? Я рубашку приготовила, в полоску. Шляпу надень.
– Так и пойду, – Георгий встал. – Кто же в шляпе за деревню ходит. Я недалеко, пройдусь берегом и обратно. К двум вернусь. Что ты смотришь?
Георгий обул возле крыльца резиновые сапоги и, как был в расстегнутом пиджаке, с непокрытой головой, притянул за собой калитку. Перейдя мост через Шегарку, он выбрался на высокий правый берег и неспешно пошел встречь течению, по старой, подсохшей уже, тропинке. На огородах, подступавших к берегам, лежала собранная в кучи темная картофельная ботва. Перед тем как пахать огороды, ботву будут жечь, но покуда она лежала осевшими кучками, мокрая и осклизлая, не успев просохнуть на ветрах. Весна была поздняя, речка вскрылась перед Майскими праздниками, на День Победы валил мокрый снег, дул ледяной ветер. Полевые работы велись кое-как, тракторы вязли в раскисшей земле, молодая трава едва пробивалась сквозь полегшую прошлогоднюю, по улицам ходили стороной, держась изгородей, – грязь.
Сегодня двадцатый день мая, и это был первый теплый день за всю весну. Вода в речке немного убыла, но берега были голые, неуютные – не скоро, озеленяя края, вырастут камыш и осока, расцветут белым и желтым кувшинки. Куриная слепота набирала цвет, но в сограх по кочкам еще держалась вода, и почки на березах едва проклюнулись – далеко было до листвы. Возле плетней крапива поднялась на три пальца, жгла руки.
Покусывая сорванную травинку, редко и крупно шагая, не застегивая пиджака, Георгий уходил правобережьем за деревню, к плавному речному повороту, где на крутом берегу над широким темным омутом рос старый раскидистый куст черемухи. Шел, глядя по сторонам, чувствуя затылком солнце, ветер заворачивал ему на глаза светлые волосы, и Георгий на ходу поправлял их, отгребая со лба рукой. Черемуховый куст памятен был Георгию с первых дней жизни в деревне. Много раз отдыхал он под кустом, возвращаясь с дальних омутов с удочкой или с ружьем. Сюда они приходили с Верой, гуляя вечерами перед тем, как пожениться.
Высокие места оттаивали, прогревались быстрее, почки на черемуховых ветвях разбухли, полопались частью, готовые выбросить узкий лист.
«Скоро расцветет, – обходя куст, думал Георгий. – Когда черемуха цвела и пели соловьи, – вспомнил он слова не то песни, не то стихов. – Когда черемуха цвела и пели соловьи. Когда черемуха… А как же дальше?»
Соловьи в этих местах не водились, но черемухи было много, и по веснам Георгий любил уходить в перелески, смотреть, как она цветет. Он знал все почти дальние и ближние черемуховые кусты, и в палисаднике у него росла – цвела черемуха, посаженная в ту осень, когда построена была изба. Цвела. В полях, перелесках, по берегам. А потом появлялись, спели ягоды – на одном кусту мелкие и невкусные, на другом – крупные и сладкие. Черемуху рвали мало. Перезрев, ягоды морщились, сохли, в сентябре, в листопад, их склевывали дрозды, оголяя и рябиновые кусты.
– Когда черемуха цвела, – Георгий поискал, на что бы сесть, ничего не нашел, стал рвать горстями полегшую длинную и бурую прошлогоднюю траву, сложил под куст и сел лицом к речке, прислонясь спиной к стволу. Низкий левый берег переходил в распаханную полосу, засеянную озимыми хлебами, полоса подступала к сквозным пока березнякам, которые перелесками, перемежаясь с полями и сенокосами, уходили к бору. Георгий бывал и в бору.
Он сидел так, держа в пальцах потухшую папиросу, думая, что вот наступило наконец тепло, скоро зазеленеет все окрест, прогремит – перекатами от края до края по небу, с высокой семицветной радугой – косым сильным дождем первая весенняя гроза, вспашут и засеют поля, засадят картошкой и овощем огороды, расцветут, кому положено цвести, деревья, расцветут по полям весенние цветы, ребятишки будут приносить в деревню букеты огоньков и марьиных кореньев, зашумят под верховым ветром березняки и осинники, окаймят речные берега осока и камыши, вода успокоится, прогреется, станут выходить на отмели щуки-травянки, станут брать на червя окуни и чебаки, в школе закончатся занятия, учеников распустят на летние каникулы, а он, Георгий, судя по всему, снова останется на лето в деревне. Подойдет своим чередом сенокос, и Георгий привычно втянется в него, заготавливая сено сначала для себя, потом для Вериных родителей. А еще полоть и окучивать картошку, а еще… Пролетят, не уследишь, летние месяцы, и он опять не побывает нигде, ничего не увидит. Которое лето подряд.
Неделю назад завела Вера разговор: через несколько дней его день рождения, надо подготовиться как следует, собрать побольше гостей – сорок лет. А Георгию так хотелось побыть в этот день одному, уйти за огороды в перелески, побродить, подумать. А к вечеру вернуться, успокоясь.
– Может, не будем затевать на этот раз? – спросил он жену. – Пропустим, а?
– Да ну-у, – вытянула губы Вера. – Начнут по деревне говорить. Скажут: вот, сорок лет человеку, а не отметил, пожадничал. (Георгий поморщился.) Я уже некоторых пригласила, Гоша. Водки припасла десять бутылок, три бутылки красного вина. Продавщица специально для нас оставила, я ее еще до праздников просила: как привезут, оставь. Наливки своей не хватит.
– Ну и хорошо, что припасла, – Георгий попытался улыбнуться, не получилось. – Пусть стоит себе, не пропадет, надеюсь. Сами же и выпьем. Вдвоем, после бани. Я белую, а ты красную. И песен попоем – одни, без застолья…
– Да ну, Гоша, – Вера не слушала мужа. – Тебе – шутки, а я какими глазами стану смотреть на людей. Пригласила, называется. Барана надо зарезать, Гоша. Того, с кривым рогом, покрупнее. Свинина и говядина есть еще.
Барана зарезал и разделал мужик из их переулка. Он всегда помогал по осеням Георгию и свиней колол. У самого Георгия духу не хватало убивать, он и охоту из-за этого бросил. Пришел мужик, сделал как надо.
С бараном управились, но в субботу утром Георгий попытался еще раз уговорить жену. Завтракали, она была в добром настроении, смеялась.
– Давай пропустим, Вер, – сказал он. – Знаешь, душа не лежит. Что-то не по себе, нездоровится, что ли. Сплю плохо. Обойдемся без гостей. Собираем же всякий раз и на твой и на мой дни рождения. По праздникам у нас застолье. Я не против гостей, но сегодня… Могу я побыть один в такой день?

– Да ну-у, – тянула недовольно Вера. – На День Победы мы были у Якушевых…
– Да эти Якушевы девяносто девять раз у нас перебывали, – сдерживаясь, сказал Георгий. – Осенью мы приглашаем. Зимой приглашаем. Новый год встречаем у нас. Восьмое марта отмечаем у нас. Майские только что… Зайдет кто-либо – сразу за стол, без этого не обходилось. Куда еще?..
Ничего не получилось, не убедил. Вера заплакала, закрылась в горнице, Георгий вышел на улицу. Так весь субботний день и вечер промолчали они, занятые каждый своим делом и мыслями, и лишь вечером Вера заговорила, когда он в темноте уже сидел в ограде, курил, слушая, как капает с веток.
Пятнадцать лет прожили Георгий с Верой, и все было ничего или – почти ничего, но последние три-четыре года стали заметно томить Георгия. Шестнадцать лет назад двадцатичетырехлетним парнем приехал Георгий сюда, на Шегарку, после института, учителем географии. Он сам попросил далекий район, далекую деревню. Хотелось резко изменить жизнь, отдохнуть от городов, пожить в глуши, где и речка, и озера, и лес. Посмотреть своими глазами, глазами постоянного жителя, а не приезжего человека, все то, о чем он до этого читал в учебниках и книжках. Знал по рассказам.
Деревня называлась Вдовино: медпункт, школа-восьмилетка, почта, клуб с крохотной библиотечкой, магазин. Пятьдесят с лишним дворов по берегам речки – притока Оби. За огородами сразу березовые согры, дальше – тайга. Сельсовет от Вдовина почти в тридцати верстах, там центральная усадьба совхоза, школа-десятилетка, ремонтные мастерские, куда из областного города по сухой погоде летали маленькие десятиместные самолеты. Районное село далеко, город еще дальше. Вверх по Шегарке была еще одна деревня, Жирновка, школа там четырехклассная, учеников мало, учительница работала давно, тянула до пенсии, да и не могли его, специалиста с высшим образованием, направить в начальную школу. А подалее Жирновки не меренные вглубь и вширь, среди тайги, болота, где брала начало Шегарка, левобережный приток большой реки. Вот куда попал учитель географии.
Во Вдовино от сельсовета Георгий доехал на попутной машине, везшей почту. Прибыл он за неделю до начала занятий, первую ночь ночевал у директора школы, местного жителя. А наутро директор стал определять его на квартиру. Если бы Георгий был семейный, дали бы ему жилье – избу из пустовавших, одинокому же лучше всего было пойти на постой, как говорили в деревне. Вечером, перед сном, директор, рассуждая вслух, начал перебирать одну за другой – сначала по правому берегу, на котором находилась школа, потом по левому дальнему – семьи, где бы мог жить Георгий. Директору хотелось поближе к школе – весной, осенью грязь; чтобы хозяева были добрыми, чтобы они были чистоплотными, изба теплой и просторной, главное же, чтобы жили они сами по себе, отдельно от детей. Директор имел в виду детей взрослых, самостоятельных. Но ничего подходящего, со всеми нужными условиями, не находилось. Поселиться бы у одиноких стариков, не немощных, за которыми ухаживать надо, а в силе еще стариков, и жить без забот, сколько поживется, но стариков таких по деревне не было, и директор остановился на Вериных родителях, прикидывая так и этак.
– Детей у них двое, – говорил он Георгию, – парень и девка. Но парня в армию взяли, проводили недавно. Хорошей парень, на тракторе работал. Осталась с ними дочь. Восемнадцать лет девке, Верой зовут. Ученица моя бывшая. Закончила восьмилетку, от стариков отрываться не захотела, устроилась почтальоншей на почту. Начальница ее на пенсию вот-вот выйдет, Верку в замену себе готовит, наставляет ее, а с октября, слышно, на курсы шестимесячные посылает в райцентр. Остаются старики одни, вот ты у них и поживешь, пока суд да дело. А там видно будет, на улице не оставим.
Директор предварительно перегововорил с хозяевами, те согласились, и Георгий стал жить на квартире своей будущей жены. Дом стоял на левом берегу, на задах. Усадьба как усадьба: изба, двор, баня, огород. За огородом сразу березняк, мать Веры туда ходила смородину рвать. В ограде колодец – на речку далеко по воду. Хозяева обходительны, не шибко словоохотливы. Хозяин молчалив. Он уже несколько месяцев на пенсии, но ходит еще по привычке на ферму, плотничает. Мать давно отработала свое, хозяйством занята с утра самого до вечера.
Вера оказалась рослой веснушчатой смешливой девушкой, аккуратной в одежде. Порядок в доме наводила она, помогая матери: любила уют. Вера уступила квартиранту горницу, он было запротестовал, но она не захотела слушать, родители поддержали ее.
– Что вы, – говорили они, – неудобное дело. Вам надо отдельно, а мы все свои, в одной поместимся. Заходите. Да Вера и уедет скоро, не успеешь оглянуться. Месяц всего остался…
С Верой Георгий подружился, вечерами ходили в клуб: фильмы в деревню привозили часто. В октябре, точно, уехала Вера на курсы, в письмах родителям передавала всякий раз Георгию приветы. А Георгий работал, втягиваясь. В школе он вел географию, с пятого по восьмой, а наряду с географией еще и физкультуру. Директор ему передал физкультуру, снял с плеч своих. В местком Георгия избрали, надавали кучу общественных нагрузок, поручили самодеятельностью руководить. Коллектив учителей маленький, сработался давно, мужчин двое – директор и Георгий, учеников несколько десятков, был еще интернат за высохшим прудом, оставшийся от старых времен, когда в школу сходились ученики из шести деревень. Теперь в интернате жили только жирновские, остальных деревень не было и в помине, давным-давно разбрелись.
Вера училась на курсах, Георгий работал в школе и жил у ее родителей, присматриваясь к крестьянской жизни, расспрашивая, догадываясь сам. Он многое перенял от хозяев, и это ему ох как пригодилось потом, когда Георгий, женившись, стал жить самостоятельно. Научился на первых порах держать в руках топор, пилу, вилы. Топит хозяйка в субботу баню, Георгий рядом, наблюдает – как она в каменку поленья кладет, сколько дров уходит на одни протоп зимой, сколько летом, как воду для мытья нагреть, как почувствовать, готова ли баня, чтоб не угореть. Разводит хозяйка квас, Георгий подсаживается поближе – и к этому у него интерес. С хозяином он в поля за сеном ездил, по снегу уже. Учился воз раскладывать на санях, меняясь – сначала один на возу, другой подает, и – наоборот. За дровами в бор ездили. Хозяин, видя сметку квартиранта, показывал, как валить в снегу с корня березу, кряжевать, укладывать-увязывать дрова на санях. Но пуще всего потянуло Георгия к охоте, в тайгу. У хозяина широкие, обитые лосиной шкурой охотничьи лыжи, два дробовых ружья, старая умная собака. Хозяин на время, до возвращения сына, отдал Георгию одностволку. Тот разбирал ее, чистил, смазывал, собирал заново. Заряжал патроны, засыпая меркой порох и дробь, справляясь у хозяина, как льют пули.
В ту осень, лежа поздними вечерами за закрытой дверью в Вериной горнице, осмысливая настоящее свое положение, думая о будущем, Георгий рассуждал примерно следующим образом. Ну, что ж… С мая текущего года пошел ему двадцать пятый год. У него высшее педагогическое образование. Он одинок: ни родных, ни близких. В городах пожилось, хватит. По натуре своей он не горожанин, всегда тянуло в деревню, вот он и приехал в деревню. Здесь ему приглянулось: тихо, лес, речка… Не грешно, как говорится, и жить и умереть на этом месте, когда настигнет последний час.
Нравились люди, нравился размеренный уклад крестьянской жизни, с постоянными заботами, какое бы время года ни стояло. Георгий видел, как молчаливо и добросовестно работают деревенские жители в полях, на скотных дворах, делают домашнюю работу; понимая, что люди эти заслуживают самого высокого уважения, он проникся благоговением к ним.
Двадцать пятый год… Это не так уж и много, но и не мало. За ним придет двадцать шестой, тридцатый. Надо определяться, Георгий. Заново обретать родину, пускать корни. А что ж. Пожил по общежитиям. Теперь на квартире. Пора обзаводиться своим домом, своим углом, не будет же он жить в квартирантах годами. Нет, свой дом. Здесь или в другом месте. А почему в другом? Здесь, конечно. Работа у него есть, работу он знает, любит, ведет как следует. Иметь заботливую работящую жену, дом и на дворе все то, что необходимо в деревенской жизни. А летом поездки с семьей к морю, в горы, в степи: открывать дальние страны, о чем он так мечтал в студенчестве. Вот закончу институт, начну работать, появятся какие-то деньги, лето ежегодно свободное, стану ездить, смотреть, пока молод, пока интерес есть к жизни, жену возить, детей. А когда и одному… Так думалось в институте.








