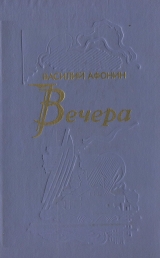
Текст книги "Вечера"
Автор книги: Василий Афонин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Когда он вернулся обратно, Светик уже играла через сетку – видимо, ее приняли в команду. Он посмотрел, как, чуть пригнув плечи, расслабясь, держа наготове напряженные руки, пританцовывает она в ожидании мяча, не стал обращать на себя внимание, снял ботинки и лег в гамак. Он лежал так, глядя в небо, слушая шелест листвы, ни о чем не думая конкретно и в то же время думая обо всем сразу, потом незаметно для себя уснул.
А когда проснулся, был уже вечер, в мяч не играли, народу заметно убыло, Светик сидела неподалеку на пне, в который раз перелистывая журнал. Григорьев пошевелился, она заметила.
– Ну, как спалось? – спросила, улыбаясь. – Какие сны вас посетили?
– Ой, чудесно, – сказал Григорьев смущенно, вылезая из гамака. Ему было неловко перед женщиной за свой сон. – Просто чудесно, знаете. Давно не спал так, в лесу. В деревне своей летом я, бывало, на сеновале спал. Сарай в огороде, на чердаке сарая сено…
– То-то и оно, – Светик стала отвязывать гамак, Григорьев помогал. – Спали вы здорово. Я подойду, погляжу, а вы… Идемте, в семь пятьдесят электричка. Осталось двадцать минут, должны успеть. Понравилось? – спрашивала она на ходу, срывая рядом с дорогой ромашки. – Здесь прелестно. Можно еще и завтра поехать. На речку сходить, искупаться. Давайте договоримся заранее. Хотите?
– Спасибо, – сказал Григорьев. – Пожалуй, не получится. Уезжать скоро, дела. Да и не будет лучше, чем сегодня. Это уж всегда так – примета. Ого, впереди спешат. Сколько минут в запасе у нас?..
Электричка подошла минута в минуту, они вошли в вагон, сели опять к окну и незаметно и непринужденно проговорили всю дорогу до Москвы. Светик рассказывала о своей работе, опытах.
– Знаете что, – сказала Светик на привокзальной площади, где Григорьев хотел было уже распрощаться, – знаете что, идемте ко мне в гости. Я живу недалеко, прямым автобусом шесть остановок. И от дома моего вам удобно ехать – без пересадок доберетесь до гостиницы. Ну чего вы засядете сейчас в номере, что станете делать? Пойдете в буфет сосиски жевать? А мы попросим маму приготовить ужин. Я вас познакомлю с мамой. Послушаем музыку. У меня есть несколько прекрасных пластинок – хоровое пение. Чудно поют. Хоровая капелла Юрлова. Приходилось слышать?..
– М-м, – запротестовал, отказываясь, Григорьев, не зная, что и сказать.
– Идемте, – Светик взяла его за руку повыше локтя, – не пугайтесь, это вас совершенно ни к чему не обязывает. Я приглашаю вас в гости, и все. Домашние ваши и сослуживцы, надеюсь, не узнают, что в Москве вы проводили время с женщинами…
– Ну хорошо, – сказал Григорьев, – но сначала нужно зайти в магазин, купить что-то. Вина приличного. А то неудобно – в гости принято приходить с чем-то. – Григорьеву совсем не хотелось в гости: сидеть за столом, говорить о чем-то…
Они сели в автобус и через малое время сошли на нужной остановке. Магазин находился неподалеку от дома, где жила Светик. Григорьев купил две бутылки сухого венгерского вина, поднялись на четвертый этаж старого дома, к балконам которого подступали деревья, Светик своим ключом открыла дверь, пропуская Григорьева. Навстречу им из кухни вышла небольшого роста женщина, в цветном, на пуговицах халате. Лицо ее было спокойно. Она остановилась, глядя на Григорьева. Григорьев молча поклонился, здороваясь.
– Мама, у нас гости, – сказала Светик. – Знакомьтесь, это моя мамочка. Зовут ее Екатерина Владимировна.
– Здравствуйте, – сказала женщина. – Проходите в комнату. Да не нужно разуваться. У нас и тапочек-то мужских нет. Купить надо.
– Это друг семьи моей приятельницы из института, – объяснила матери Светик, выйдя из умывальника с полотенцем в руках. – Он в командировке, скучает по выходным, вот она и попросила взять его за город. Мы ездили в Раздоры. Представляешь, – Светик говорила быстро, глядя то на мать, то на Григорьева, – ему там очень понравилось. Редкой красоты места. Отдохнули мы просто великолепно. Я наигралась. Никогда еще не играла так удачно…
– Ну вот и хорошо, – сказала мать спокойно, – отдохнули. Ужинать будем? Что приготовить? Есть холодный зеленый борщ. Второе…
– Мама, наш гость из Сибири. Давай сварим пельмени, у нас есть пачка. С лучком, с перчиком, с маслицем. А, мамусь?..
– Сварим пельмени, – согласилась мать, – салат придумаем еще.
– Поставьте, если можно, вино в холодильник, – попросил Григорьев Светика. Он вспомнил о пиве – третья бутылка так и лежала в портфеле. Подал Светику бутылки, завернутые в папиросную бумагу. Пиво решил увезти обратно в гостиницу, выпьет утром.
Светик вышла, а Григорьев, осматривая комнату, сидел возле приоткрытой балконной двери. Ветки клена ложились на перила балкона. Шума машин не слышно было. В комнате чисто и прибрано, книги стояли на полках. Григорьев подошел взглянуть: справочники по химии, словари. Стихи Ахматовой…
– Вот так мы живем, – сказала Светик, вернувшись, садясь на свой диван. – У вас большая квартира? Две комнаты. А у нас вот эта. Здесь мы живем с мамусенькой давно-давно. Здесь я родилась и прожила всю жизнь. Поставить музыку? У меня есть пластинка «Русская хоровая музыка». Бортнянский, Березовский, Ведель… Исполняет академическая капелла. В институте подарили.
Они сидели и слушали пение, а мать на кухне готовила ужин. Потом она пригласила их к столу. Григорьев сходил в умывальник, вымыл руки. Стол был накрыт скатертью с кистями. Сели за стол. Григорьева посадили лицом к окну, к свету.
– Вы как любите пельмени? – спросила хозяйка Григорьева. – С маслом или со сметаной?
– С бульоном, – сказал Григорьев, – я их ем тогда как суп. – И засмеялся. Ему нравилась мать Светика. Ему нравились чистоплотные хозяйственные женщины. Говор у нее был удивительный… вятский, что ли. Редко приходилось слушать подобную речь.
Чокнулись и выпили вина из высоких тонко звенящих рюмок. Вино охладилось и было очень вкусным. Вкусной была еда. Григорьев охотно ел. Хозяйка добавила ему пельменей, он улыбнулся.
– Назюзюкаешься опять, – блестя живыми глазами, сказала мать дочери, когда они выпили еще по рюмке. И стала рассказывать Григорьеву: – На день рождения Светланы гости были. Ну, каждый тянется с рюмкой, поздравляет. С каждым и выпить надо. По глотку да по другому. По глотку да по другому. Поздно разошлись. Ложимся спать, а Светлана и говорит: «Ох, мама, и назюзюкалась же я!»
Хозяйка с Григорьевым рассмеялись, Светик смутилась чуть.
Матери гость приглянулся: не охальный, как некоторые, ест аккуратно и лицом пригожий. И пьет без жадности. А иной, если принес вино, не отступится, пока не допьет. Допил – и заговорил. Несет что попадя, другому не даст слова вымолвить.
– А я ведь и воевала, – сказала хозяйка Григорьеву. – Медали имею. Ох, и потаскала вашего брата, солдатушек, на себе. Ох, и потаскала. Вовек не забыть мне их. Мы перед войной около станции жили железнодорожной, на станции военкомат. Как война началась, я туда все бегала, на фронт просилась. Раз да другой, бессчетно раз. Взяли. Послали наперед в Вятские Поляны. Городок есть такой, слыхал небось. Вот. В Вятские Поляны, на курсы медсестер. А уж потом – туда, в пекло. До сорок пятого, до победы шла. Да, видно, звезда моя высоко горела – не зацепило ни разу, не задело. А сколько смертей видела вокруг кажин день, сколько смертей. Помню, тащила лейтенанта одного. Сначала волоком – головы не поднять, стреляют. А потом на спину взвалила, пригнулась и побегла. Я хоть и низка ростом, а крепкая на ногах – в девках кули с картошкой приходилось ворочать. Тащу, ноги его по земле волокутся, сам хрипит – в живот раненный. Молодой совсем, долгий да черный, как вы. Посмотрела на вас, сразу вспомнила. Бегу, а уж и силы мои кончаются, ноженьки подсекаются – вот как. Хоть бы не упасть, молю господа: дай мне силушки чуток…
– Вынесли? – спросил Григорьев, глядя на хозяйку. – Вынесли его?
– Нет, не донесла. Живым не донесла. Положила подле своих и – обратно.
Мать сидела минуту в задумчивости, вспоминая, как увидела лейтенанта. Он лежал возле воронки от разрыва снаряда, лежал на спине, прижимая ладони к разорванному животу, и молча смотрел вверх. Лицо его было в слезах. Они почти высохли, слезы. Наверное, он уже умирал тогда. Черноволосая голова его была не покрыта, и какое умное, всепонимающее и в то же время отрешенное лицо было у него. Она тогда подумала – девкой была молодой, глупой, а вон как правильно подумала, – что людей с такими лицами не надо бы отправлять на войну. Их там убивают в первую очередь. Когда его похоронили, она не знала. Не видела могилу. Ушли скоро. Не донесла…
– Открывайте, чего же вы, – указала мать на вторую бутылку.
– Хватит, может быть? – Григорьев посмотрел на Светика. – Пусть стоит. В следующий раз выпьем. А то назюзюкаюсь и до гостиницы не доберусь. Швейцар не пропустит – строгие они, швейцары…
– Нет, нет, – запротестовала хозяйка, – зачем же так. Если не хватает сил, – она засмеялась, – я сама открою. Дайте-ка штопор.
Ей очень не хотелось вставать из-за стола, посидеть еще часок вот так, поговорить. А встанешь, Светик тут же уведет гостя в комнату, прикроет дверь, и они будут там разговаривать, а тебе убирать посуду со стола и ждать возле окна одной, пока уйдет гость. А после что делать – спать? Раздумаешься – и сны не берут…
Григорьев налил вино, мать потянулась к его рюмке, чокнуться, и опять поразилась сходству с тем лейтенантом. Будто отец и сын, или братья, или сам лейтенант, но как бы уже постарше годами. Она их сотни вынесла за годы войны, живых и мертвых, солдат и офицеров. А крепче других почему-то запомнился тот, черноволосый. Пуще всего было жалко его.
В тот день она вынесла еще одного лейтенанта. Он нашел ее потом, после госпиталя уже. Долго его лечили, не вылечили до конца. Война закончилась, они приехали в Москву и стали жить вот в этой квартире. Он дал жизнь Светику, а сам вскоре умер, не прожив и тридцати лет. Он не был здоров от природы, да еще изранен, и не передал дочери достаточно сил. Светик переняла от него обличье, характер, только ростом пошла в мать. Она часто хворала, и матери приходилось трудно. Мать работала медсестрой до самой пенсии, а работая медсестрой, попробуй подыми ребенка, хоть и одного. Были детство и юность, были школа и институт, и вот теперь она сидит рядом, ее дочь Светлана, тридцатипятилетняя девушка, умная, грамотная, кандидат наук, начальник лаборатории и – одинокая. Время от времени она приводит гостей, знакомит с матерью, мать готовит ужин или обед, приглашает к столу, угощает, разговаривает. Потом гости уходят, мать провожает их, благодарит. Просит заходить почаще…
А гости были разные. Их было не так уж и много за все время, гостей, человек до десяти если, но ни один из них не приглянулся матери. Чего-то в них не хватало. Стержня, пожалуй, не хватало, что держит человека, делая его самостоятельным. Или, может, так казалось матери. И это бы еще ничего не означало, что они не приглянулись ей, они, судя по всему, не приглянулись и дочери. После этого ни одного из них мать уже не видела.
А вот Григорьев понравился. И не потому вовсе, что походил на черноволосого лейтенанта и напомнил ей войну. В нем чувствовалась самостоятельность, которую мать не всегда замечала в людях. Она была бы сейчас совсем не против, если бы дочь надумала оставить у себя гостя до утра. Она не могла сказать сама об этом дочери, но когда бы та решилась, мать ничего бы не сказала. Наоборот, была бы рада. А сама бы ушла ночевать в соседний подъезд, к подруге, одинокой женщине. До каких же пор ей выжидать, дочери. В тридцать лет трудно, а в сорок еще труднее. Жизнь – она не из одной молодости состоит, не успеешь оглянуться, как постареешь враз. Ей, дочери, надо родить, родить от хорошего человека. И это ничего, что так получилось бы, зато ребенок был бы здоровым и разумным. Покуда она, мать, в силе еще, она бы возилась, помогая. Ох, мысли, мысли. Хорошие – нехорошие. Да что поделаешь. Ничего не поделаешь…
– Идемте в комнату, – сказала Светик Григорьеву, – мам, ты уберешь со стола? Убери, пожалуйста…
Они прошли в комнату и опять слушали русскую хоровую музыку, негромко разговаривая. За окном стемнело заметно.
– Я пойду, однако, – Григорьев посмотрел на часы, – поздно уже. – И встал.
Светик выключила проигрыватель, они вышли в коридор.
– Мам, я ненадолго, провожу и обратно, – сказала Светик.
– До свидания, – сказал Григорьев, пожимая руку хозяйке. – Спасибо вам. Посидели хорошо, ужин был замечательный…
– Вам спасибо, – сказала мать. – Спасибо, что зашли. Приходите…
Григорьев и Светик молча дошли до остановки и коротко попрощались. Григорьев поехал в гостиницу, Светик же стояла в своей комнате на балконе и плакала. А мать сидела на кухне и смотрела в окно.
Вечера
Бывало, вернешься с полей, в сумерках уже, отпустишь пастись быка на край деревни, за огородами, пройдешь затравеневшим переулком к избе своей, на берег Шегарки, повесишь веревочную уздечку в ограде на штакетину, поужинаешь картошкой с молоком, выйдешь на крыльцо, сядешь на верхнюю ступеньку и, облокотясь на колени, долго будешь сидеть в сладком томлении, вбирая редкие звуки затихающей к ночи деревни.
Лучшее время этой поры – конец июля, август: комар исчез, слабеет и даже в полуденную жару редок паут, мошка еще не началась, погожие, с высоким небом дни переходят в долгие теплые вечера, зелено окрест деревни, в перелесках и сограх не видно желтого листа, зелено в огородах: вовсю цветет, подымая головы над городьбой, подсолнух, мак отцвел, отцвела картошка, наливается по грядам морковь, кое-кто уже пробует первые огурцы; скоро начнут поспевать в лесу ягоды, сенокос в самом разгаре, и люди ежевечерне возвращаются с полей усталые.
Мужики редко берутся за домашнюю работу после ужина, курят перед сном, сидя в оградах на козлах или суковатых, не расколотых с зимы чурбаках, осторожно держа в натруженных чернями вил руках самокрутки, бабы, накормив семью, подоив корову, управясь с молоком, стараются лечь пораньше – им и вставать раньше всех, до выхода на работу надо успеть подоить, выгнать в стадо корову, приготовить завтрак, сделать другие незаметные, но необходимые утренние дела, чтобы не зависали они на день, прибавляя забот вечером – вечер свои заботы принесет.
Ти-ихо. Сумерки густеют, скрывая городьбы, березовая согра за огородом сливается, пугая темнотой. Избы, сараи, бани как бы расплываются, делаются чуть ниже, мягче в очертаниях, сильнее пахнет трава, звучнее бой кузнечиков. Вдруг взлает за соседним двором собака, смолкнет сразу, опять тихо, и тут с дальнего конца деревни дойдут до тебя волнующие звуки гармошки – это Петя Сверчок вышел из дома и медленно идет сначала по переулку, потом улицей через мост к конторе, где под тополями собираются каждый вечер девки и парни. Приходили и мы – подростки, посмотреть, как танцуют, играют парни с девками, послушать гармонь, разговоры – ведь мы тоже скоро станем взрослыми.
Петя далеко, но ты видишь его, потому что знаешь давно, знаешь голос, походку, привычки. Петя – парень. Еще год-полтора назад он дружил с нами, бегал босой, играл в лапту, возил на быках копны, сгребал подсохшую кошенину на конных граблях, и вот, незаметно для глаз наших, будто за одну ночь, Петя неузнаваемо изменился: стал выше ростом, плечи расправились, окрепли руки, голос сделался глуше, и Петя отошел от нас, присоединившись к взрослым парням. Теперь его посылают на мужичью работу, он носит сапоги, пиджак и кепку-восьмиклинку, он курит табак, зачесывает чуб на сторону, провожает с гулянья девку, и мы, бывшие его товарищи, завистливо следим издали, нам хочется как можно быстрее стать парнями. Но Петя старше нас – кого на год, кого на два, три года.
Петя идет срединой переулка, идет не спеша, гармонь его звучит негромко, это мелодия какой-нибудь грустной протяжной песни, от этого сумерки еще печальнее, хочется выйти вслед за гармонистом за деревню и идти, замирая, по накатанным телегами дорогам в любую сторону, куда только он поведет. На Пете тяжелые от дегтя кожаные, со сдвинутыми голенищами, самодельной работы сапоги, простые, прокатанные рубелем и каталкой штаны его на поясе стянуты ремнем, штанины для форсу чуть напущены на голенища, на Пете выходная светлая, в полоску рубаха, кепка-восьмиклинка сбита на затылок и на сторону, открывая чуб, пиджак наброшен на плечи, в руках полухромка. Заменив женившегося прошлой осенью гармониста, Петя первый теперь на деревне гармонист – женатые под тополя не приходят, если они играют – в компаниях.
Стать парнем – мало повзрослеть, надо, чтобы родители справили тебе сапоги, пиджак и кепку. Иначе ты – парень не парень. А штаны должны поддерживаться ремнем. Это уж обязательно. Если пришел под тополя в сапогах, при пиджаке и кепке, а без ремня – засмеют, не признают за парня. Первое лето ходит в парнях Петя, радости полон. Сапоги ему старший брат уступил, ремень отцов – ремнем этим отец порол его, случалось, пиджак и кепку сшил деревенский портной. И гармошка Петру от старшего брата досталась. Играть Петя выучился лет двенадцати, играл дома, выносить гармонь за ворота не разрешали, а нынче весной, как подсохла потеплу земля и распустились деревья, вышел Петя с гармонью на улицу, волнуясь, прошел под взглядами по деревне.
Вот он идет, идет улицей уже к мосту через Шегарку, раздумчиво, как бы для себя, наигрывая «Синий платочек», гармонь слышно во все концы, и взрослые, кто не заснул еще, отмечают в полудреме: Петя пошел. А девки и парни наряжаются, прихорашиваются, торопятся под тополя. Девки – особенно. Девки девками тоже становятся как-то враз, не заметишь. Вчера еще девчонкой неприбранной бегала, нос рукавом утирала, а сегодня развернулась – не угадать. Юбку ей подавай со складками, полуботинки, носки с каемочкой, платок цветастый на плечи, гребенку хорошую в волосы. Волосы теперь у нее не как попало – надо лбом подняты волной, а сзади, пониже затылка, гребенка полукруглая держит. Некоторые косы носят, кто аккуратен и следит за собой – коса ухода требует, времени.
Контора колхозная на правом берегу Шегарки недалеко от моста, соединяющего речные берега. Контора – обычный крестовый дом: крыльцо, сени, кладовка для колотых дров, просторная, в три окна, с печкой прихожая, лавки у стен, из прихожей – дверь в комнату поменьше, это кабинет, где сидят председатель и счетовод. За конторой – длинные бревенчатые амбары, под окнами изгрызенная коновязь, старые раскидистые тополя с трех сторон высоко подымают вершины над тесовой крышей конторы, слева – луговина, на ней из года в год с первых сухих теплых дней до осенних дождей собирается вечерами деревенская молодежь.
Уже луна поднялась за деревней, над далеким сосновым бором, светло, хоть иголки собирай, как говорят бабы, на луговине людно, девки стоят отдельно, ребята – сами по себе, мы, ребятишки, взобрались на коновязь, уселись рядком, наблюдаем. Ребята покуривают, разговоры у них разные – о работе, домашних делах; Петя с ними, гармошку он на табурет поставил – кто-то принес для него из ближайшей избы. Девки – в сторонке чуть, кружком стоят, пересмеиваются, одна семечек прошлогоднего подсолнуха принесла, оделяет всех по горстке в подставленные ковшиком ладошки. Грызут семечки, утирая рты сложенными платочками.
«Петя, сыграй!» – просит кто-нибудь из девок. Сейчас начнутся танцы. Петя берет гармонь, садится на табурет, кладет ногу на ногу, на них гармошку, надевает на правое плечо ремень. Он готов, давайте заказы. «Краковяк сыграй, краковяк, – просят наперебой девки. – Подгорную! Петя! Табора!» Петя начинает вальс «На сопках Маньчжурии», ребята приглашают девок, кружатся на утоптанной подошвами земле.
А мы сидим на коновязи, тихонько переговариваясь между собой, обсуждаем, кто как танцует, кто как одет, кто с кем «ходит». Мы знаем, что за вальсом Петя начнет играть краковяк, потом танго, табора, барыню, которую пляшут все, а в самом конце – плясовую на заказ, когда желающий сплясать вызывает себе напарника. Это, пожалуй, самое интересное. Мало кто умеет хорошо плясать, кто умеет – показывает здесь.
Петя разгорячен игрой, он уже в одной рубашке, пиджак набросил на плечи своей подруге, она стоит за спиной его, обмахивая лицо гармониста веточками, как бы отгоняя комаров, создавая кавалеру прохладу. Весной, когда комар кипит, девки по очереди оберегают гармониста, чтобы не отвлекаться тому, отмахиваясь. Петя взглядывает на подругу, улыбается.
Ребят и девок по деревне не равно, одних больше, других меньше. Устойчивых – пар десять бывает всегда на луговине, остальные или не нравятся друг другу, или стесняются еще ухаживать-провожать. «Не отстоялись пары», – говорят про таких. «Ходят» год, и два, и три. Поженились, сошли с луговины, их место занимают вчерашние подростки. Редко распадаются пары, но случается и такое. Разошлись – заново начинать тяжко. «Петя, русскую!» – кричат гармонисту. «С выходом, Петя!» – просит тот, кто заказывает плясовую. Петя на минуту сжимает мехи, меняет под гармонью ногу, поправляет ремень. Ме-едленно – басов почти не слышно – развивает «выход». Обычно пляску затевает девка. Становятся кругом, девка, растянув за концы лежащий на плечах платок, расправив, отогнув чуть назад плечи, мелко переступая, «плывом» обходит внутри круг, выбирая из ребят напарника, кто получше пляшет, останавливается напротив него, отступает шаг-другой и какое-то время на одном месте «бьет дроби», вызывая. Тот, кого вызывает девка, соглашается сразу или для виду куражится – тогда его выталкивают на круг. Это – выход. После выхода начинается пляска. Пляшут обязательно с припевками. Девка, стоя на одном месте, слегка переступая ногами, поводя плечами – кисти рук, растянувшие на плечах платок, немного опущены, – поет частушку:
А мне милый изменил,
А я не опешила,
В переулке догнала,
Оплеух навешала.
Парень, пока девка поет, винтом ходит вокруг нее, бьет сапогами в землю, вскидывает руки, вскрикивает. А Петя режет что есть мочи, взопрел аж – молодец! Закончила девка, парень тут же останавливается, перебирая ногами, запевает свою частушку:
Ах, милка моя,
Чтоб ты сдохла,
Да чтоб сердце мое
По тебе не сохло!
Теперь уже девка пластается вокруг него, изгибается, кружит юбкой. Все внимательно наблюдают: интересно – кто кого побьет. Первыми, сколь ни затевалось плясок, с круга сходят парни. Девки подсмеиваются над ними, зарекаясь впредь вызывать плясать.
Наплясались. Петя встает, кладет гармонь на табурет. Но это еще не все, не конец. Сейчас начнутся игры. Играют «в третий лишний», с ремнем и в «ручеек». В «третий лишний» – становятся двойным кругом, попарно, девки образуют внутренний круг, ребята – внешний. Двое свободны. Один – с ремнем, он догоняет другого, стараясь огреть его ремнем, а тот спешит убежать, проникнуть внезапно в середину круга и встать неожиданно впереди какой-нибудь пары. Теперь уже их трое, третий – с внешней стороны круга, он лишний. Тот, что с ремнем, хлещет лишнего изо всей силы ниже спины (девок бьют слабее, щадят), бросает на землю недалеко от круга ремень и убегает сам; побитый хватает ремень, бежит следом, желая догнать и отомстить, пока убегающий не заскочит в середину круга.
А в «ручеек» парни и девки становятся друг против друга, образуя две шеренги, сцепив в кистях поднятые руки, сделав «потолок». Одна девка должна остаться без пары, она начинает игру. Девка проходит между шеренгами под «потолком», идет и вдруг быстро касается рукой плеча кого-то из стоящих ребят (может выбрать и подругу), «отмечает» и тут же бежит прочь от играющих, а отмеченный старается догнать ее. Вернувшись, они становятся в конец шеренги, а тот, у кого забрали напарника, в свою очередь проходит под «потолком», «отмечая» того, кого желает. Бывает, «отметит» кого-либо, а он не хочет бежать, выбирай второго.
В этой игре выяснялись взаимные симпатии. Бывает, нравится парню девка и он ей нравится, а подойти к ней вечером просто так робеет парень, да не танцует еще, не научился, так и простоит один весь вечер, один и домой уйдет. Днем, случается, работают вместе на сенокосе, разговаривают, но разговор обыденный, днем – одно, вечером – совсем другое. Да хоть и танцует и осмелился пригласить желанную – не поговоришь на виду у всех как следует. А в игре легче все, естественней. Тут уж не зевай.
Если девка «отметила» парня просто так, поиграть, и побежала, то ни в какую не даст себя догнать, измотает бегуна, сделав круг, вернется обратно, а он, глядишь, плетется следом. Когда же хотят выяснить симпатии, девка, отметив парня, бежит не шибко, для виду, отбежав в темноту, на шаг переходит. Долго их нет. Смотришь – возвращаются, взявшись уже за руки, иной, осмелев совсем, за талию слегка придерживает подругу или руку на плечо положит ей. Другие – не возвращаются вовсе к игре, свернут в переулок – не ждите. С этого вечера они – пара, начинают «ходить».

Играют. А мы сидим на коновязи, как ласточки-подлетыши на изгороди, смотрим. Учимся, переживаем. Каждый ставит себя на место того или иного парня. Каждый выбрал уже себе подругу по гроб, отвергнув многих.
А ночь светлая. Теплынь. Луна высоко поднялась над деревней. Видно ближние дворы, видно дальние. Луна волнует нас всех, и больших и малых. Чудесно пахнет полынь – запах полыни самый сильный в ночи. Вечер скоро перейдет в ночь, но никому не хочется расходиться по домам. Парни-девки наигрались, сбились в кучу: смеются, говорят возбужденно. Наигрались, но и это еще не все. Перед тем как разойтись парами, пройдут гурьбой с песней из конца в конец деревни – без этого вечер не вечер.
Девки берут друг друга под руки, человек пять их так становятся – на ширину дороги. И еще человек пять – следом. Самые голосистые – посредине. Ребята с боков, позади. Опосля всех – мы, ребятишки. Кто-нибудь из подростков несет Петину гармонь. Петя наказ дал, чтоб не роняли. «Костры-ы горя-ят далекие-е», – начинают от конторы девки, ребята помогают им, кто любит петь. А кто не поет, просто идет вместе со всеми. Споют «Костры горят…», и «На позицию девушка…», и «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…», и «Под окном черемуха колышется…», выйдут за деревню, постоят на выходе за крайним огородом – так тянет дальше лунная ночь, – повернут обратно, и – опять с песней – станут отставать пары одна за одной, сворачивая в переулки, затаиваясь в тени палисадовых тополей. И ребятишек все меньше – разбрелись. К конторе подходят несколько человек.
Разошлись. Мы остаемся с Шуркой Городиловым, нам надо через мост на левую сторону Шегарки. Рядом Федька Храмцов, ему дальше за конторку, в край улицы. Он глядит куда-то мимо тополей, подходит к нам и шепчет:
– Колька Сергунов Кланьку Вязову за амбары повел. Видели? Только что.
– Ну и что? – спрашивает Шурка. Он не любит Федьку, они и в школе воюют.
– Тискать станет ее, целовать – уговаривать. Айда глядеть. Из-за углов выглянем – не заметят. А? Или к Дарье Маскаехе в огород заглянем. Горох у нее налился – стручки лопаются. Я утром проходил мимо, заметил. Пошли! А то оборвут до нас, опередят. Сама спит давно, собаки у нее нет. Ну?!
– Знаешь что, – сказал Шурка, – иди-ка ты сам. А мы – домой. Нам вон аж куда – край дальний. Утром на работу. Пошли, Алешка, поздно уже. Проспим утро.
– Тогда и я домой, – подумав, говорит Федька. Отходит от нас и медленно идет по улице, держась близ городьбы. А мы с Шуркой сворачиваем к мосту. Мы знаем, что домой Федька не пойдет, дождется, пока мы скроемся из виду, нырнет от городьбы под тополя, пробежит по теневой стороне к амбарам и будет высматривать из-за угла, кто это там стоит и что делает. А потом еще в чей-нибудь огород заберется. Федька старше нас с Шуркой года на полтора. На следующее лето он готовится выйти на улицу парнем, пока же водится с нами. Он тоже работает на сенокосе, сгребает на конных граблях подсохшую кошенину, а мы с Шуркой на быках возим копны. Федька любит подглядывать за парнями, когда те остаются наедине с девками. Его уже прихватывали и драли крапивой. Он и в бани подглядывает, если бабы с девками моются. Один, раз подполз в субботний день по бурьяну к Мекешиной бане, к окошечку самому. Федька думал, что моется тетка Мекешиха с дочерью, шестнадцатилетней Танькой, на которую он и хотел посмотреть, а мылись в это время Мекешины ребята, Иван да Павел. Они приметили Федьку, выскочили из предбанника голяком, поймали его тут же в бурьяне, повалили, прижали к земле, один держал, а второй расстегнул Федькины штаны и насовал туда крапивы. Штаны застегнули на пуговицы, Федьку подняли и велели рысью бежать краем огорода, к дороге. Вот он орал, на всю деревню. Смеху потом было, разговоров. Дразнили Федьку, кто только хотел. Но Федька так и не успокоился. В бани перестал подглядывать – за парами следил. Держаться старался подальше, чтобы успеть убежать. И нас уговаривал пойти с ним. Стоит, наверно, за углом абмара.
Мы с Шуркой не спеша переходим мост, глядя в темную воду. Луна плавает неглубоко возле самого берега, можно нагнуться, зачерпнуть кепкой. Проходим мимо усадьбы Шадриных и заворачиваем направо, на свою улицу. Шуркин дом третий по левобережью Шегарки от въезда в деревню, наш – пятый. Время, чувствовалось, близко к полуночи, может, уже и полночь наступила, а мы разгулялись, спать не хочется, так бы и бродили по деревне, где ни одного огонька, тихо и только зыбкий лунный свет. И собак не слышно – спят себе по дворам.
Мы дошли до нашего огорода, взобрались на городьбу и сели рядом, опустив ноги на нижние жерди.
– Скоро картошку подкапывать начнут, – сказал Шурка, глядя в огород, где рядами, темнея отцветшей ботвой, росла прополотая, окученная картошка. – И огурцы подойдут. Я так люблю молодую картошку с первыми огурцами, А ты любишь? – Шурка посмотрел на меня. – У вас картошка рассыпчатая.
– Люблю, – сознался я. – И с малосольными огурцами люблю. Только не скоро начнут подкапывать, июля еще шесть дней. Мать всегда в середине августа начинает подкапывать. Старую варим, она уже дряблая, проросла.
– Знаешь что, – предложил вдруг Шурка, – давай я к Безменовым в огород сбегаю, морковку выдерну. У них каротель из года в год – сахар!
Безменовы – наши соседи с левой стороны. Избенка у них об одну комнату, с ветхими сенями. Ближе к дороге – соломенный скотный двор. Живет в избенке семидесятивосьмилетняя бабка Матрена с сорокалетней незамужней дочерью Марьей. Справа от нашей усадьбы изба Дорофеиных. Старик со старухой в ней живут, дочь у них – намного моложе Марьи, а у нее ребенок, нагулянный в девках. Старик суров видом, малоразговорчив. Выйдешь утром, а он уже управился по хозяйству, стоит возле двора, опершись на палку, кашляет. Борода на грудь, желтая, с прозеленью борода. Он стар, но крепок еще. За дровами в лес один ездит. На корове. Корова у них красная, рогатая, здоровая – чисто лось. Любой воз наложи – попрет.








