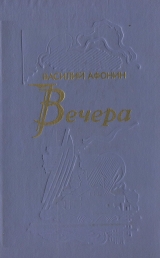
Текст книги "Вечера"
Автор книги: Василий Афонин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Я еще не ходил в школу, когда мы переехали в эту избу, на берег Шегарки. А до этого жили на северном краю деревни, возле самого леса. Там тоже было хорошо. Переехали. Долго не приходил к нам дед Дорофеин проведать, как соседей. А потом зашел. По осени, кажется, уже в огородах убрали. Снял шапку, поздоровался, сел на голубец около большой печи. Закурили они с отцом самосаду, отец на кровати полулежал – нога прибаливала. Закурили, стали разговаривать. Старик первый завел:
– А я ведь, Егор, плохо про твоих ребятишек думал сначала. Как переехали вы – ну, думаю, спасу теперь от них не будет, в огород начнут лазить, на грядках все с корнями повыдергивают. Так и со старухой решили. Выходил до сколь разов на улицу, проверял. Во дворе затаивался вечерами с хворостиной. А они – ничего.
– Наши не безобразят, – кашлянув, сказал отец. – Никто еще не жаловался.
Редко заходил старик. А бабка Матрена бывала каждый день, приболеет если – не попроведает. Сядет на тот же голубец, заговорит с матерью.
– Дунюшка-а, – скажет, – расхворалась я вчера в вечер, седни поднялась едва. Стирку затеяла утром, сходила три раза с коромыслом на Шегарку, и так мне спину что-то заломило. Ой-ой, силы никакой нет. Как дальше?..
– Матрена Васильевна, – засмеется мать, – да что ты говоришь – силы нет. У тебя восьмой десяток на исходе. Дай бог нам дожить до таких лет. Тебе ли с двумя ведрами из-под берега вылазить. Тут – сорок пять, и то шатает, накрутишься за день. А уж в твои-то годы на печи лежать…
Мне что-то жалко стало бабку Матрену, когда Шурка захотел сорвать морковки с ее грядок. Вспомнил я, как приходит она к нам, огибая по-над речкою огород по стежке, ею же пробитой, маленькая, согбенная, семеня, опираясь на батожок. Как возится она на огороде своем, став на колени, пропалывает грядки с той же морковкой.
– Шурка, – сказал я тогда, – давай я у себя нарву морковки. У нас тоже каротель, не хуже соседской. И таиться не надо: мать разрешает рвать – морковь крупная уже. Помнишь, позавчера я приносил на сенокос?
– Ну, сходи, – сразу согласился Шурка. Видно, ему самому было совестно лезть в чужой огород. Он уже пожалел, что предложил. А тут я назвался.
Я пошел за морковкой, а Шурка спрыгнул в огород, лег в высокую густую траву между городьбой и картошкой, дожидаясь меня. Залезть в чужой огород не считалось особо зазорным по деревне. Это велось издавна, и хозяева не шибко обижались, они сами когда-то были молодыми. Забрался – ничего, только чтобы не напакостил сильно. Из ребятишек мало кто занимался этим, среди парней любители находились. Провожает парень девку переулком, проходит мимо чужого огорода, и захочется ему враз удаль свою показать перед подругой, угостить ее чем-нибудь. Махнет через городьбу, почти не пригибаясь, пробежит к грядкам, на ощупь сорвет пару огурцов или карман стручками гороха набьет и – обратно. А то своротит шляпу подсолнуха, который поспелее, высмотренный заранее.
Я подошел к грядке, приглядываясь, где ботва потолще, и вытянул четыре каротелины – крепкие, ровные, с тупыми концами морковки. Отряхнул от земли – не хотелось спускаться к Шегарке, мыть, – понес Шурке. А он все лежал в траве, прислонясь плечом к жердям, смотрел на луну – она стояла высо-око, как раз над Панкиным сараем. Мы обтерли морковку о траву и, держа за ботву, стали есть, хрупая. Морковка была сочная, и чувствовалось даже по запаху, что молодая.
– Алешка, – сказал Шурка, поворачиваясь ко мне, – я вот сейчас, когда тебя не было, на луну смотрел. Знаешь что? Ты видишь там лицо человечье?
– Вижу, – ответил я. – Если долго смотреть – оно расплывется. А взглянешь сразу – отчетливо видно. Нос, глаза, губы. Прямо лицо живое – и все.
– И я вижу, – продолжал Шурка. – Даже жутко как-то – сверху на тебя глядит. Мама рассказывала, что давным-давно, когда еще и людей на земле не было, жили на луне два брата. Ну, вот… жили-жили, добра наживали. А потом что-то не поделили промеж собой и поссорились. И один брат, старший кажется, невинно убил другого. Стамеской. Вот лицо убитого и проступает на луне. Мама говорит – это для того, чтобы люди на земле помнили постоянно про братьев и зла друг на друга не таили понапрасну. Только я думаю, что все это выдумка. Ведь не доказано, что жизнь на Луне есть. И на других планетах. А может, есть. Как ты думаешь?
– Выдумка, конечно, – согласился я. – Учитель по географии говорил, что это просто пятна. Он объяснял, что за пятна, – да я позабыл. А похоже – лицо.
– Славная ночь, – помолчав, сказал Шурка. – Светло, тихо. Слышишь, коростель кричит. Чего это он – в это время? А вот, слышь, ботало звякает – кони за согрой пасутся. Конюх не загоняет их на ночь в конюшню, до зари пасутся. А чуть свет – в косилку, косари рано выезжают. На следующее лето нам уже не копновозить – на грабли посадят, накатаемся на конях верхом. Завтра метать на Святой полосе начнем, звеньевой сказал. Копен там – не сосчитать. Ну, что – по домам? Пойдем, Алешка, поздно уже.
– Ты где спишь? – спросил я Шурку. – На сеновале?
– На сеновале, – ответил он.
– А ты?
– В кладовой. Там, если комаров нет, благодать. До самой осени спать можно, до холодов. Я старую кровать перенес, установил у оконца.
И мы пошли спать.
Иногда посуху раза два, а то и три в лето привозили к нам в Жирновку кино. Почтальонша, которая каждый день ходила во Вдовино, на почту за письмами и газетами, приносила в деревню эту новость, рассказывала своим ребятишкам, а мы узнавали от них.
– Кино во Вдовине показывали, – передавали нам ее дети. – Завтра у нас. Подводу велели посылать, мамка сказала.
– Завтра кино! – кричали мы, обрадованные. – Кино привезут завтра, почтальонша сказала!
– Как называется, «Тарзан»?!
– Нет, «Смелые люди»!
Плохо, если почтальонша не догадывалась спросить название или забывала по дороге. Тогда наша радость была неполной. Посылалась во Вдовино подвода, приезжал киномеханик, погрузив на телегу аппарат, жестяные коробки с пленкой. Мы, ребятишки, если не были заняты работой, встречали его за деревней. Случалось, бригадир посылал за киномехаником кого-нибудь из нас. Счастливый шел на ферму, запрягал в телегу быка, взяв вожжи, садился на край телеги, свесив ноги, рядом усаживалось человек пять – сколько вмещалось, и мы долго ехали во Вдовино, до которого было от нас шесть верст. Обратным путем на телеге сидел один киномеханик, придерживал аппарат, мы, переговариваясь, шли за телегой, выспрашивая у киномеханика – интересный ли фильм, про войну ли он.
Клуба в деревне не было, в конторе – тесно, не вмешала она всех зрителей, и показывали кино обычно в амбарах. Одно лето показывали в коровнике. Начали строить коровник, подняли сруб, ни пола, ни потолка не было в нем все лето, там и показывали. Смотреть кино приходила без малого вся деревня. Приносили скамейки, табуреты, рассаживались в амбаре, образуя ряды. Киномеханик, установив аппарат, вешал на стену перед зрителями мятую, давно не стиранную простыню, обходил ряды, собирая медяки. Аппарат надо было крутить за ручку, как крутят сепаратор или мясорубку, тогда только на экране появлялось изображение, крутить было тяжело, крутили по очереди взрослые ребята, за это им разрешалось смотреть бесплатно, сам же киномеханик лишь менял катушки с пленкой. Пленка была старая, часто рвалась, вместо восьми частей иной раз прокручивали шесть, кино было немое, никто не слышал, кто что говорит на экране, но впечатление чуда от этого не исчезало, и мы, посмотрев фильм, с неделю еще обсуждали его, спорили и делились мнениями. Потом вместе с аппаратом киномеханик стал привозить движок, немые фильмы сменились звуковыми, и это было для нас еще большим чудом. Когда показывали впервые звуковой фильм и с экрана раздались голоса, зрители оцепенели – так это было неожиданно, люди на экране не только двигались, но и разговаривали. Вот из глубины экрана, увеличиваясь, дымя, с грохотом, прямо на зрителей пошел паровоз, тянувший состав вагонов, мужики и бабы, молодые ребята и девки стали отклоняться назад. Сидевшая в первом ряду семнадцатилетняя девка, опрокинув скамью, с криком кинулась из амбара и, не видя ничего со страху, сшибла с ног стоявшего в дверях инвалида.
– Дура-а! – заорал тот, подымаясь, подбирая костыли. – Куда летишь, глаза вылупила? – А девки уже рядом с амбаром не было – убежала. Зрители, забыв про испугавший их паровоз, хохотали над девкой, и назавтра все говорили по деревне про нее.
Мы посмотрели тогда и «Семеро смелых», и «Смелые люди», и «Падение Берлина», а главное, мы посмотрели несколько серий «Тарзана», как, раскачиваясь на лианах, перепрыгивая с одного дерева на другое, дрался он с крокодилами и львами, кричал, приложив руки ко рту. Какой он был смелый, ловкий и сильный, этот Тарзан…
В те вечера, когда показывали кино, гулянья под тополями не было. Дождавшись, пока взрослые расходились по домам, парни и девки еще некоторое время стояли возле амбара, со смехом и возгласами вспоминая содержание фильма, потом парами уходили в темноту. Шли и мы домой.
Иной вечер мы с Шуркой Городиловым и еще кто-нибудь из ребятишек нашего края сговаривались поиграть в городки на поляне за огородом и играли долго, по нескольку партий, пока были различимы фигуры, или, смастерив черемуховые луки и камышовые, с жестяными наконечниками, стрелы, тренировались тут же, на поляне, в стрельбе в цель, споря, чей лук упруже и чья стрела летит дальше и ровнее, кто точнее попал в цель.
Ни в осенние дожди, а потом в заморозки с комьями смерзшейся по дорогам грязи, ни в долгую заснеженную зиму с санным, через деревни, путем, ни в весеннюю распутицу кино не привозили, но нам от лета до лета хватало воспоминаний. Если забывали что-то, додумывали.
Осенями, в дождливые глухие темные вечера, мы сидели дома, готовили уроки при свете керосиновой, подвешенной над столом, лампы, читали книжки. По заморозкам, потом всю зиму и весну, до поры, пока не подсыхала возле тополей луговина, парни и девки собирались в конторе, в передней, где печка в углу и лавки у стен. Мы с Шуркой, да и другие ребятишки, не ходили в контору. Там было тесно, накурено, на полу валялись окурки и подсолнечная шелуха, и хотя приносили всякий раз гармонь и танцевали одетые, было совсем неинтересно, и парни и девки не казались нам такими, какими казались они на луговине в летние тихие лунные вечера. Если гармони не было, парни и девки играли в «дурака».
Зимой у нас были свои развлечения: мы катались с высоких крутых берегов Шегарки. Лучшие зимние месяцы для этого – декабрь и январь, когда после снегопадов устанавливаются ясные морозные дни и светлые вечера: светло от луны, звезд, снега. В ноябре идет снег, и мы молим, чтобы выпало побольше. Февраль – месяц метельный, не покатаешься, в марте ждешь весну, дни прибывают, прибавляет тепла, сугробы подтаивают, оседают, ниже становятся наши снежные горы, да и охоты уже такой нет к катанию, как зимой. Меняются времена года, меняются и твои желания.
Кататься с берегов выходишь лет с шести, обычно возле своего дома, если живешь на берегу; кататься начинаешь на санках. Но санки не в каждом доме, если даже в семье есть хозяин, не всякий может сделать санки, как и запряжные сани, – специалистом надо быть, плотником или столяром. У нас санок своих никогда не было, когда случалась нужда, брали у кого-нибудь из соседей, а для катания с берегов мать делала нам из коровьего навоза лотки. Выкладывала из теплого еще навоза дно, борта, лепила лоток не круглым, а продолговатым немного, чтобы можно было в него поставить ноги, вмазывала крепкую веревочку дав смерзнуться лотку, переворачивала, обливала несколько раз водой дно, оно покрывалось тонким слоем льда, и – лоток готов. Но на лотке не очень удобно кататься, он крутится при движении, и приходится направлять ход ногами, да и не со всякой горы съедешь на нем, а лишь с той, которая хорошо накатана. Поэтому на лотке катаешься до школы, в первую школьную зиму, а потом – в паре с кем-нибудь из школьных товарищей, у кого есть санки. А лет с двенадцати становишься уже на лыжи.
В ту осень, когда мы купили у Самариных избу на берегу Шегарки и переехали в нее, я только пошел в школу. Под Новый год мать сделала мне лоток, и мы катались на нем с Шуркой с правого берега, напротив нашей избы. На правом берегу, напротив нашей избы, жил Харкевич, маленький глуховатый старичок, жил он с женой, такой же престарелой, как и сам, и с сестрой – больной, редко появляющейся на улице женщиной. Изба Харкевича сенями выходила к речке, возле сеней выкопан был погреб, с этого высокого погреба, который пологим боком своим выравнивался с берегом, мы и катались с Шуркой на лотке. Снег был до нас еще утрамбован, накатан, лоток набирал скорость, едва съехав с погреба, и долго несся вниз, к невидимой береговой черте, потом через речку и останавливался у противоположного берега. Лоток нам прослужил недолго. Была моя очередь съезжать, Шурка подтолкнул меня в спину, чтобы спуск был еще более скорым, лоток закружило, понесло, подобрав ноги, не управляя лотком, как обычно поступали мы, сжавшись, держась за гладкие борта руками, я сидел в лотке. Лоток понесло на речку и со всего маху ударило торцом о кучу мелкого, смерзшегося льда возле проруби. Удар был крепким, лоток раскололся надвое, меня выбросило в сторону. Хорошо, что не на кучу льда – иначе ободрался бы я и ушибся. Погоревав, мы бросили половинки лотка в сугроб под берег, а сами стали кататься в очередь с теми, кто приходил со своими санками.
На гору сходились ребятишки ближайших домов, всегда оказывалось трое-четверо санок, некоторые жадничали, катались самостоятельно, другие уступали через раз и предлагали садиться вместе. У Харкевича были санки, я часто брал их, чтобы вывезти из скотного двора в огород навоз. Давая санки, Харкевич всякий раз наказывал сразу же после работы вернуть их, я так и делал, но иногда, когда хотелось покататься независимо ни от кого, я, будто бы забывая, зная, что старик не заругает, и вечером выходил с санками на гору. Санки были большие, с отводами – как розвальни, с горы они шли ровно, не меняя направления. Скатившись, тяжеловато было втаскивать их с речки на погреб, но тащил не один я, а сразу в несколько рук, потому что, кроме меня и Шурки, в санки садилось еще двое. Первым, возле головашек, садился Шурка, позади него – я, за моей спиной еще кто-нибудь; четвертый, подтолкнув санки, схватившись за наши плечи, становился на концы полозьев, и мы неслись, горланя от восторга, и крики наши в тихой светлой морозной ночи далеко слышны были по деревне. Крику, смеху и визгу полно было на каждой горе, а гор таких насчитывалось несколько, если пройти по Шегарке от крайней избы до крайней на другой конец деревни. Каждый катается рядом с домом, хвалит свою гору и редко идет на соседнюю. Но иногда собираются вместе человек пятнадцать, тогда санки катятся чередой, налетая друг на друга, переворачиваясь, и голосов – на версту во все стороны. Бывает, сорвется одной ногой тот, кто, оттолкнув санки, стоит на полозьях, сорвется, вцепится в плечи сидящего, потянет всех назад, перевернет санки на полном ходу, и мы летим под гору кувырком, роняя шапки и рукавицы. Накувыркаешься, пальтишко в снегу, одной пуговицы нет – оторвали, варежки сырые, шапка на сторону сбита, стоишь, передыхая, хватая раскрытым ртом воздух, а санки уже утащили на гору, насело человек шесть, один на другого, отвода не поломали бы, попадет от Харкевича. В другой раз не даст.
– Сторонись! – кричат. – Сшибем!
Санки сразу взяли наискосую, к проруби, чертя правым отводом снег, на полпути накренились сильнее, и задний через голову полетел в сторону. За ним – остальные. Санки – перевернуты.
Разогрелись, хоть раздевайся. А уж и домой пора. Вон трое уходят по речке за поворот. Подымешься на свой берег, оглянешься напоследок, а на горе – никого, слышно, голоса удаляются. Подойдешь к сеням, ударишь шапкой о столбец крыльца, обметешь голяком пимы и – в избу. Пальтишко расстегнуто, лицо горит, варежки в одной руке зажаты, руки мокрые. Мать посмотрит, спросит: «Накатался?» – «Накатался», – кивнешь. «Раздевайся, ужинай да лезь на печь. Время – вон уже, девятый час. Завтра не добудишься».
Разденешься. Пимы мать в большую печь положит, иначе не просохнут. Или на плиту поставит, если она не шибко горячая, а то подпалятся. Варежки в печурку. Одежду развесит возле печки-голландки, за ночь и одежда высохнет. Поужинаешь и быстрее на печку. Задернешь занавеску, подложишь что-нибудь под голову, фуфайкой материной теплой накроешься, полежишь минуту, вспоминая, и не заметишь – как заснешь.
Учась в четвертом классе, с осени еще, по первым заморозкам, до снега, мы с Шуркой договорились сделать себе лыжи, чтобы после снегопадов, когда снег уляжется и отвердеет, можно было на своих собственных вместе со всеми выйти на гору. Кататься на лотках и санках рядом с девчонками нам уже надоело, мы подросли, ходили в последний класс начальной школы и завидовали тем, кто имел лыжи. Лыжи по деревням ребятишки делали сами, взрослым было не до лыж. Отец (у кого вернулся он с войны) в лучшем случае мог прострогать тесину с той стороны, которая ложилась на снег. Остальное – сам. Находили две узкие, толщиной в палец тесинки, метра два длиной – не больше, заостряли топором тесинки с одного конца, распаривали в горячей воде заостренные концы, загибали их, давали высохнуть, и – лыжи готовы. Оставалось прибить гвоздиками посредине брезентовые ремни – петли для ног. Становись и – гони. Хочешь – с горы на гору, хочешь – по целику за согру, искать заячьи тропы. Сделал лыжи – береги, надолго хватит, младшему брату передашь.
Тесинками мы с Шуркой запаслись до снега еще. Пошли в бондарку, где мужики-инвалиды делали сани, дуги гнули, вязали рамы, – выпросили четыре подходящие, и дядя Аким Панков прострогал нам их тут же. Обрадованные, понесли домой, войдя в предбанник нашей бани, положили на потолок, за месяц они просохли, стали совсем легкими.
Нам повезло – тесинки попались березовые, только из березы лыжи получались гибкие и прочные, еловые хороши, а если из сосны – долго не накатаешься, прыгнешь с трамплина, они – хряп и пополам. Или носками заостренными налетишь на что-либо, враз сломаются. Делали еще и из осины. Но нам, ребятишкам, особо выбирать не приходилось, что попадало под руки, из того и мастерили. Сейчас – береза досталась, посчастливилось.
Перед Октябрьскими праздниками топили мы баню, помылись, я посидел часок дома, обсыхая, дожидаясь Шурку – они тоже баню топили. Товарищ скоро пришел, и мы отправились работать. Фуфайки сняли в предбаннике, вошли, притянули дверь, зажгли коптилку, сели на скамью. Баня хранила тепло. Я мылся последним, уходя, наклонил слегка флягу с горячей водой и сунул туда заостренные концы тесин. Теперь нужно было распаренные концы загнуть и закрепить в таком положении на несколько дней, чтобы концы высохли и остались загнутыми – тогда уже тесины превращались в лыжи. Мы поставили к стене – напротив двери – скамейку, через нее, уперев под бревно стены, перегибали распаренные концы, а на противоположные, прижатые к полу, клали груз, так, чтобы концы не высвободились и работа не пропала даром. Долго возились, сделали.
Быстро, как всегда, пролетели праздники. Баню зимой мы топили раз в две недели, лыжи наши дней десять находились под грузом, я заходил посмотреть, но не трогал. Потом как-то, вернувшись из школы, мы с Шуркой освободили их, вынесли на улицу. Лыжи загнулись хорошо, не очень круто, как коровьи рога, но и не полого, когда носок втыкается в любую снежную кочку, – загнулись в самый раз. И высохли. Мы попробовали руками – загиб был упругим, лыжи – легкими. И по ширине лыжи были хороши – не слишком широкие, не слишком узкие. Когда лыжи узковаты – на них и с горы плохо съезжать, и по полю заснеженному идти, врезаются в снег, тонут глубоко. Широкие сделал – намучаешься: съезжать неловко, не повернешь, когда надо – не слушаются ног. И по пробитой лыжне не пробежишь – не получится. Широкими охотничьи делают, чтобы держали охотника на глубоких снегах. На охотничьих лыжах, обитых лосиной шкурой, с гор не катаются, по лыжне не гонят. На них ходят в тайгу, размеренно передвигая ноги. Кто из мужиков охотой занимался, у всех такие лыжи сделаны.
Из брезентового ремня, шириной в три пальца, мы отрезали и прибили к лыжам петли, такие, чтобы нога, обутая в пим, входила свободно. Ни ремешка, ни веревочки, которыми прихватывают к лыжам пимы, привязывать не стали. Когда съезжаешь с горы, лыжные петли должны быть просто надеты на пимы, и все. Если не удержался на ногах, лыжи легко соскочат с них. Будут лежать рядом или сами по себе скатятся на речку. Когда они привязаны к ноге, то будут мешать при падении – можно подвернуть ногу, сломать лыжу, удариться лицом о загнутый лыжный конец.
Лед на речку лег еще в октябре, но снегу к тому времени, что мы возились с лыжами, выпало на четверть – не больше. Мы попробовали лыжи возле бани, они шли ровно, слушались ног и не рыскали по сторонам. Шурка взял свои под мышку и пошел домой, а я свои поставил в сенях, за дверью. Теперь чуть не каждый день мы говорили о том, как в декабре, светлым морозным вечером, выйдем на горку – и наши лыжи будут не хуже других. Так и было. Мы катались в ту зиму весь декабрь, январь и немного в феврале, пока не начались сильные затяжные метели.
Прибежишь из школы, пообедаешь и сразу садишься за уроки. После подготовки надо еще помочь по дому, а уж потом ты свободен, занимайся, чем вздумается. Перво-наперво, пока не стемнело, следует убраться на скотном дворе: вычистить у коровы с телком, у овец и поросенка и вывезти навоз на санках в огород, в самые отдаленные углы, пока снег мелок – по глубокому снегу груженые санки не протащишь. Двор у нас холодный: сверху на жерди пласт соломы положен – крыша, стены – двойной ряд досок, между ними тоже солома набита, пола нет. К двору примыкает небольшая рубленая избушка, перегороженная надвое: в одной половине живет поросенок, в другой овцематки с ягнятами. Чистить двор надо каждый день, дело это ребячье, взрослые навоза не касаются, если поленился и запустил, потом труднее намного.
Управился с навозом, прислонил перевернутые санки к стене двора, идешь с топором на речку, прорубать прорубь. Утром уже брали из проруби воду, ледок чистый, тонкий, хрупает под топором. Корова сама ходит пить, телку надо нести в ведрах. Еще два ведра воды в избу. На крыше двора сметано в стожок привезенное с полей сено. Сбросить несколько навильников: часть раздать сейчас, остальное – на ночь. Теперь нужно принести из поленницы к большой печи и к голландке несколько охапок дров. Если мать больше ничего не заставляет делать, спросишься у нее – можно ли пойти покататься. «Иди», – коротко скажет она. Выскочишь на улицу, а вот и Шурка. Он тоже занят был, помогал. В воскресные дни у нас времени свободного меньше. Надо в лес за дровами ехать – до обеда воз, после обеда воз. А если не дали в конторе – идти заготавливать, чтобы привезти потом, как тягло будет. Или за сеном ехать в поля – это еще тяжелее, чем дрова. Когда сено и дрова запасены – пилить кряжи, колоть чурки, поленья складывать в поленницу. Снег расчищать в ограде. В феврале за ночь заметет так – на крыльцо сугроб выложит, дверь сенную не открыть. Работы хватает, успевай справляйся только.
– Еле отпросился, – говорит Шурка. – Давай сегодня возле себя, а? С погреба Харкевича. Берег пологий, если наискосок проложить лыжню – вон аж куда вынесет, за поворот. А на большую гору – в следующий раз. Давай?!
– Пошли к школе, – уговариваю я. – Чего будем от других отставать. Там все соберутся. Посмотрим, чьи лыжи лучше. Васька Климцов хвастался.
И мы пошли к школе. Самый высокий берег – напротив школы. Речка здесь плавно поворачивает, правый ровный берег кажется полуостровом и зимой и летом, а левый вознесся на несколько саженей, он и летом крут, зимой же, как нанесет снегу, и подавно. Кататься на лыжах приходят сюда. Учатся возле дома: с маленьких горок, с маленьких трамплинов, за огородом – бегать по ровному месту, чтобы ноги привыкали к лыжам, не вихляясь, шли прямо. Взбираться на гору «елочкой» или «ступеньками», кататься в паре, держась за руки. Это все дома. А заявился с лыжами на гору к школе, на глазах у всех, – будь смел, иначе – засмеют. Мы с Шуркой еще в прошлую зиму становились на лыжи – брали у сверстников, кто поближе живет, а в эту, как только навалило снегу, тренировались на своих, с погреба катались вовсю, так что насмешек особо не боялись. Да хоть и посмеются – ничего, каждый падал и с лыж, и с санок.
Береговой изгиб, самая его высокая часть, от которого подальше к дороге отступила школа, утоптан, утрамбован пимами, санками, лыжами. Немного не от крыльца начинается скат для санок и лотков, левее чуть, с гребня тяжелого, с застругами сугроба, уходят вниз – прямо, наискосую – лыжни. По накатанной лыжне скатиться с такой высоты страшновато, но еще страшнее бить самому лыжню. Собираются на этой горе чуть ли не каждый вечер самое малое человек десять; в начале зимы сперва осматривают лыжи друг у друга, прихваливают, потом начинают выяснять храбрость – кто откуда съедет, устояв на ногах. Начинает всегда Колька Сушкин. Мы с Шуркой ровесники, он постарше нас и рослый – многие ему по плечо. Лыжи у Кольки самоделки, короче наших, но так послушны ноге, так ловко он управляет ими, что, скатываясь, едва не восьмерки выписывает. Любой трамплин ему нипочем, перед трамплином присядет слегка, раскинет руки, ухнет вниз, думаешь – ну, конец, кувырком пойдет, глядишь, а он уже катится дальше, очертит дугу, разворачиваясь, и стоит лицом к нам, смеется. Следом за ним, скатываясь, отчаянно прыгает с трамплина Васька Климцов – цепкий парнишка, проворный во всем, хоть драку затеять, хоть с горы сигануть. Но Кольке уступает. Пальтишко расстегнуто, шапчонка свернута набок, взъерошен, как воробей, летит с гиком, прыгает, стараясь проехать так же далеко и развернуться по Колькиному следу. Развернулся, доволен.
Мы с Шуркой подряд перепробовали лыжни, начиная с пологих и все круче, наконец – с самой обрывистой, когда скатываешься, сжавшись нутром, падая вперед; удовольствия тут мало, главное – устоять на полусогнутых в коленях, дрожащих ногах, показав, что и ты можешь отовсюду съехать, не страшась. Накувыркались мы с Шуркой бессчетно, но научились.
Лучше всего съезжать по крутой и в то же время долгой лыжне, с берега она выходит на речку и тянется, тянется, загибаясь, бывает, за речной поворот. Она накатанна, ровна, лыжи идут легко, летишь, немного пригнувшись, чувствуя, как ветер заносит назад уши твоей шапки, выжимает слезы из глаз, сквозь слезы эти радужным, в разноцветных кругах и пятнах кажется снег на речке и берегах, и так тебе радостно, так свободно в эти минуты, такой небывалый восторг охватывает, а ты все катишься, едешь, и нет никакой охоты, никакого желания остановиться. Это – как летом, когда через зелень полей и перелесков по полевой дороге скачешь на дальние сенокосы на молодой горячей лошади. В лицо тебе ветер, и слезы на глазах, и тот же восторг, та же радость охватывает тебя, ты скачешь, и кажется, дороге не будет конца.
С трамплина я упал раз шесть подряд, ушибся боком о ребро лыжи, полежал с закрытыми глазами, встал, заново полез на гору. Колька Сушкин растолковал мне, как надо держать тело и ноги при прыжке с трамплина. «Смотри, как я!» – сказал он и погнал первым. Я подождал немного, оттолкнулся, и лыжи понесли меня. Прыгнул, тело бросило вперед, в сторону, я устоял, остановился и с речки уже понаблюдал, как, без напряжения, перелетают через трамплин Колька Сушкин и Васька Климцов.
Накатались с трамплина и на обычной лыжне, выяснили, что все храбрые, трусливых нет, пошли тогда к самой школе: Колька с Васькой решили съехать по гладкому спуску, взявшись за руки. Санками и лотками так укатали берег, что он блестел, на подошвах пимов можно было съезжать, а уж взобраться тем же путем и не думай – соскользнешь. На лыжах здесь трудно съезжать – раскатываются в стороны, и разгона по речке нет; слетел – сразу уткнешься в нависший козырьком сугроб противоположного берега. А свернуть по ходу речки на такой скорости почти невозможно. Мы по очереди съехали каждый, чтобы попробовать – каково, кто упал, кого шатнуло, но он сумел устоять, а потом Колька с Васькой встали рядом на бугре, взялись за руки, оттолкнулись и покатились, стремительно набирая скорость. Ни тот, ни другой не упал, но на полпути они разъединились и скатились всяк сам по себе. Мы с Шуркой надумали попробовать, на самом разгоне грохнулись и катились с боку на бок по бугру, через речку, до правого берега, слыша, как наверху хохочут, свистят и улюлюкают сверстники. Съезжать вдвоем оказалось куда как труднее, чем одному: лыжи то ползли в сторону, то налезали носками одна на другую, и катились мы не рядом, как хотелось, – Шурка стал обгонять меня, потянул за собой, я пытался удержать его, отклонился назад, ноги подсеклись, и я брякнулся на спину, свалив Шурку. Лыжи опередили нас. Мы поднялись на бугор, съезжать уже никому не хотелось, ни одиночкой, ни в паре – накатались. Постояли еще немного около школы, остывая, говоря вразнобой, – стали расходиться. Мы с Шуркой пошли в свой край, держа лыжи под мышкой, на ноги не хотелось надевать. Хорошо было идти улицей, разговаривая, чувствовать под пимами твердую дорогу.
На гору к школе ходил я не так и часто, в зиму раз пять-шесть разве, как выпадало свободное время и узнавал, что соберется много ребятни – тогда веселее. А просто прокатиться разок-другой можно было всегда возле своего дома, а если берега покажутся низки, отойти немного в ту или другую сторону, выбрать место покруче, прогнать долгую, насколько хватит движения лыж, лыжню.
Пройдет декабрь, январь. В феврале выпадает несколько морозных дней, сугробы и берега выше, намело, но катаешься уже без прежней охоты. А в марте и совсем редко кто выходит на берег, хотя дни светлее, просторнее, вечера дольше.
В феврале начинают кружить метели. Стоят слепые, с мутным низким небом дни. Морозы враз спадают, дуют низовые ветры, гонят по полям поземку, – стоя в огороде, видишь, как ползут они из-за согр и перелесков к огородам, укладываясь в высокие, до верхней жерди, сугробы возле городьбы. Метели разыгрываются под вечер, темнеет быстро, по деревне спешат засветло управиться по хозяйству, топят с вечера печи, потому как редкую избу не выстудит за ночь. Метели метут по нескольку дней кряду, неделями, стихая под утро, усиливаясь к вечеру. Утром на крыльце сугроб, забивает снегом палисад, ограду; приходится расчищать ежедневно сугробы в ограде, вокруг избы и двора. Возле иного двора так наметет, сугроб – с крышей сравняет, на лыжах съезжать можно. Баню обложило по восьмой венец – оконца не видать, прорубь приходится по два раза на день откапывать, над погребом поднялся снежный холм, бурьян и репейник между баней и погребом скрыло – чуть макушки выглядывают; Шегарку перемело во многих местах, сровняло берега – не угадать, заново приходится бить тропинки и дороги. На ветвях деревьев снег – сгибает их.








