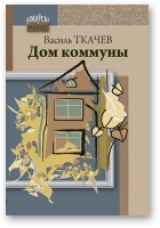
Текст книги "Дом коммуны"
Автор книги: Василь Ткачев
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Хоменок, хоть и слушал Володьку, думал о своем. Он не показывал тому письмо, которое принесла прямо на квартиру почтальон, поскольку у него внизу даже и ящика не имеется. От Петьки, от кого ж еще. Пишет, что возвращается на родину, с женой полный разлад, никакой жизни. Предупреждает, негодяй: так что, отец, жди, прошу любить и жаловать. Эх, Петька, Петька! Спился, поди, совсем. Что это они все ударились в нее, в заразу эту? Да глянули б, окаянные, сколько вокруг здоровых и красивых баб! Их же ласкать надо, да некому. Такой разворот, такое поле деятельности!.. А они – одно что булькают, шелудивые! Знакомо, ох как знакомо ему, Хоменку: все они, выпивохи, когда-нибудь остаются перед разбитым корытом и просят у золотой рыбки не дворцы-хоромы, а – опять же! – то, что и погубило их, нехристей. Вот почему Хоменок заявил открытым текстом Володьке, что более не пьет. Ни капли. Ведь, понятное дело, когда сын с отцом начинают выпивать вместе, это добром не заканчивается. Да и всыпать ему надо будет по самое последнее число, если и в самом деле заявится, а это лучше всего делать на трезвую голову.
Со дня на день Петька должен быть здесь.
Откровенно говоря, Хоменку было стыдно за свое прежнее безразличие к судьбе сына. Хотя что он, собственно говоря, мог сделать, когда тот забрался куда-то в тайгу и его никаким способом оттуда не вытащишь? Да и будь рядом – какая польза! Кто теперь их, стариков, слушает. Еще если бы мать хоть была жива. А так! Читал ведь когда-то про эдипов комплекс. После рождения ребенок – неважно, сын или дочь – всю свою привязанность направляет на мать, а насилие – на отца. Так что подставляй ухо, Хоменок! По носу дали чужие, по ушам, чего доброго, получишь от своего отпрыска.
Степану Даниловичу почему-то припомнилось, как Петька, когда еще собирался только служить, попал в больницу – воспаление легких получил. Мужчины, соседи по палате, решили какой-то праздник отметить. Сбросились по рублю. А кого послать в магазин? Ага, Петьку – он самый молодой, салага! А того не учли, что сынок его выписался минутами раньше, только вот одежду еще не получил в больничном гардеробе. Когда его попросили мужчины сбегать за выпивкой, он для приличия поупрямился, а сам решил заранее, как будет действовать. «Давайте, что у кого есть. Так и быть – выручу. Сбегаю, ага. Одевайте, чтобы как с иголки! А то моя вся одежда взаперти. Да и не забывайте, что я человек городской, мне лишь бы как одеваться не идет, ведь встречу кого знакомого – стыда не оберусь». Его и одели, как того хотел. Кто вытащил из тайника ондатровую шапку, кто пиджак, кто брюки, а кто зимние сапоги... «Ждите!» Ждали слишком долго – не дождались, а когда догадались, что произошло, мужики те бросились спасать свои вещи. А Петька, прежде чем оставить больницу, забрал, конечно же, и свои вещи, а в чужих вернулся домой. Как с заработков приехал. Хоменок тогда с Дуней перекинулись недоумевающими взглядами – догадались, что здесь что-то нечисто, набросились на сына, а он возмутился, как никогда до этого: что вы меня учите, как жить? Да я уже солдат, защитник!.. Одним словом, фигу показал тем больным. И не побоялся же. Если бы не армия, то, возможно, и намылили ему шею, и бока бы намяли. Прибежали, правда, парни те в Дом коммуны, начали искать проходимца Петьку, но они, бедняги, не знали, что Дом коммуны своих не выдавал – наоборот, как мог защищал.
Видно, и там, под Уссурийском, такие фокусы выделывал. Вот и сидел в тайге до поры до времени – рядом с тиграми клыкастыми. Но пора, пора выбираться, сынуля! Не вечно ж! Хоть и не обрадовал ты отца, а, наоборот, прибавил забот и тревог. Однако же – свое...
Володька прикорнул прямо на табуретке, и Хоменок не стал его будить. Он подсел к столу, взял тетрадь, которую специально приберег для этой цели, ручку и собрался писать воспоминания. Что-то нахлынуло на него, подтолкнуло, а тут еще и Володька поддержал, пообещав потом отредактировать.
Степан Данилович решил за море пока не браться, а писать сразу про Норильск, о восстании, о том, что думалось-снилось в тех заснеженных и морозных краях. Море – это тяжело, молодой был и зеленый, ему не поднять так просто тему, наверное, вот так – с наскоку, а про то, однако, как ему нос свернули набок и лицо расквасили, руки зудят похвастаться. Ну, так что, в бой?
Он разгладил лист бумаги, который почему-то вздыбился, словно на его дохнуло норильским холодом, и сверху написал неровными большими буквами заголовок: «Норильск». Посмотрел на него, на заголовок, ему понравилось, как написалось: крупно и ровно, заголовок был чем-то даже похож на город; он, Норильск, запомнился ему красивыми и аккуратными кирпичными домами с лепным обрамлением на карнизах, с арками, изогнутыми дугой. А потом начал водить ручкой, и ложились строка к строке, одно слово повыше, второе ниже, словно маленькие сосенки на опушке, и получилось у Хоменка следующее: «Наша семья с 1929 года и до войны жила в собственном доме на углу сегодняшних улиц Кирова и Комсомольской, а тогда – Могилевской и Александровского сквера. Последний, застроенный одно– и двухэтажными домиками, был улицей, и на удивление уютной. Посреди нее – каштановая аллея. Вечерами мама любила посидеть на скамеечке. Иногда, когда были дома старшие сестры и брат, которые проводили время вместе с мамой, я, самый меньший в семье, играл со своими ровесниками под теми же каштанами.
При доме у нас под огород имелось около пяти соток земли. Ах, как же любил я тогда помидоры со своих грядок! Ждал их созревания, наверное, с таким же нетерпением, как ждут дети волшебных чудес или самого светлого праздника. Но всегда почему-то получалось так, что первый спелый помидор находила мама. Она приносила его в дом и говорила: «А у нас созрели помидоры», – и отдавала ту желанную радость мне. Потом, когда на грядах уже вовсю рдела розовощекая вкуснятина, из свежей свеклы мама варила чудо-борщ, заправляя его помидорами... Батюшки мои, как же любил я те борщи! Столько времени прошло, а мне и сегодня все еще помнится запах их, особенно остро он, тот запах, ощущался там, в Гулаге, когда хотелось есть. Кажется, я постоянно бредил теми борщами, ведь голод ходил за мной по пятам, неотступно...
А еще у нас в огороде росла большая груша бергамот с весьма странными плодами: расплющенными, кругленькими, словно колесики, да такими вкусными, такими сладкими. Когда ко мне заходили друзья, мама напоминала, чтобы я не забыл угостить их нашими грушами. Не знаю, может быть, благодаря тем угощениям, но ко мне на улице относились с уважением. А сейчас этого сорта в городе уже наверняка нет. Жалко – для детей такие груши вкуснее меда!..
Еще вспоминается с того далекого времени, как однажды, когда мне было девять лет, мама взяла меня с собой на свою родину – в околицы шляхетских Ново-Терешковичей. Там жила старенькая бабуля Малиновская. Мать говорила, что ей 132 года. Она уже не ходила – лежала в постели, и к ней люди водили своих детей. Завела мама и меня. Думаю, не просто так завела, не без своего потаенного намерения. Меня посадили рядышком с бабушкиной кроватью, и мне почему-то стало очень жалко ее, я, кажется, пустил слезу.
– Как тебя зовут, мальчик? – спросила меня Малиновская, и когда я ответил, она положила мне на голову свою руку и, обращаясь к маме, сказала: – Хороший у тебя мальчик, Дуня. Пускай живет долго и богато.
И еще жил у нас там же, в Ново-Терешковичах, мой дед Степан – мамин папа. Он любил меня без меры. Может быть, даже и за то, что я носил его имя. Завел нас к себе на пасеку и угощал свежим медом. Удивило и поразило, однако, не множество красивых ульев, не пчелиная суета около них, даже не мед, которого было много и в сотах, и в глиняных кувшинах, – ешь, хоть лопни, как то, что на пасеке стоял деревянный крест с иконой, – дед перед ним молился...»
Хоменок положил поверх написанного ручку, перечитывать не стал, но вспомнил, что собирался писать о Норильске, а написалось совсем другое – про детство, про мать, про деда... И про мед. Про светлое и сладкое написалось. Это хорошо. Про Норильск – потом, поскольку таким писарям, как он, на сегодня хватит: руки натрудил, словно гвозди вбивал молотком, а не ручку держал. Тяжелая, оказывается, эта работа – писать. И думать надо, и сноровку в руке иметь. Однако решил твердо: отдохнет, поужинает, и опять сядет за стол. А пока надо растолкать Володьку, чтобы шел к себе. Проспался, пожалуй. Хоменок глянул на Володьку и без притворства пожалел, что трезвый день сегодня только у него одного.
Да и то – поздно...
Раздел 14. Заговор
Народный поэт Беларуси Петрусь Бровка, когда гостил у своего брата Александра, любил смотреть поутру на реку, которая вся дымилась, словно жбан с парным молоком, причмокивал языком, крутил головой, восклицая:
– Как бы здесь писались стихи!
Брат Александр Устинович соглашался, подначивал и, возможно, жалел, что он не поэт, а всего-навсего журналист, в прошлом заместитель редактора областной газеты, а теперь редактор световой, которая стремительной лентой несется в предвечернее время и вечером над гостиницей «Гомель», ловко скользит над крышей, едва не задевая ее обычно одними и теми же аршинными буквами, и если кому нечего делать, они могут прочесть, высматривая за той строкой-змейкой, словно кот за птенцом, где в городе можно отремонтировать обувь, приобрести костюм, пообедать. И о многом другом.
Между тем, народный поэт световую газету не читал по одной простой причине – во время его коротких визитов в «братов город» из дому он поздно не выходил. Город он любил днем. Особенно этот район, где жил его Сашка. Подолгу бродил, не уставая, к своему удивлению, Петрусь Бровка по тихим, почти безлюдным улицам и переулкам, останавливался перед вывесками и памятными знаками, что несли на себе отблески прошлого. Если бы кто зафиксировал тот путь, который отмерял, к примеру, в течение всего одного дня Петрусь Бровка, то он выглядел бы следующим образом. Но сперва вот о чем. Весь этот район восточной окраины города появился в итоге его расширения на север от первоначального центра – парка и площади. «Свисток»! Так назвали когда-то эту красивую местность, где хорошо писались бы стихотворения, а отчего так – гадать не надо, все понятно: название дано только потому, что поселялись здесь исключительно гомельские чиновники и офицеры, а слово «свисток» имело общий оттенок или просто – популярное название. Оно прижилось, и когда сперва Петрусь Бровка думал, что здесь где-то поблизости железнодорожный вокзал или локомотивное депо, то он ошибался: ничего этого и близко не было.
Таким образом, народный поэт шел бы в тот день следующим путем. Приятно посмотреть на утренний Сож. Улица Набережная. Далее хорошо пройтись в направлении улицы Садовой к пересечению ее с Волотовской, затем – на улицу Пушкина... Пионерский скверик... Гостиница цирка... Улица Портовая... Разумеется, там, поближе к реке, – порт, судо-строительно-ремонтный завод... Улица Парижской коммуны... Сожская – это уже перед самым Сожем... Можно наклониться, зачерпнуть пригоршней водички и ополоснуть лицо... Благодать!
Когда-то центральными улицами Свистка были Липовая и Крушевская. В 1937 году Липовой дали имя Александра Пушкина в связи со столетием со дня гибели великого русского поэта. Петрусь Бровка где-то вычитал, что на улице Липовой в дореволюционное время имелось много одноэтажных добротных домов, а также на ней были и кирпичные строения – в том числе и железнодорожная лечебница.
Сад, какой здесь сад! Был... А где он сегодня? Народный поэт знал, что этот сад заложил еще граф Николай Петрович Румянцев. В саду были ухоженные тропинки, всюду – разбиты палисадники, оранжереи, парники. На крутом речном берегу стояла беседка Румянцева. Впрочем, после смерти графа от того сада не осталось и следа. Однако же приятно и вообразить, что он когда-то был, тот сад, а яблоками и грушами с его деревьев угощались люди, которые построили в городе дворцы и дома другого предназначения...
И стихи здесь ему, народному поэту, действительно давались.
Сам же редактор областной газеты Пазько, хотя и жил чуть ли не на берегу Сожа, любил ездить писать в Ченки, в дом журналистов, где имелось несколько комнат, был хороший свежий воздух, напоенный сосновым ароматам, а река – так и совсем рядом, через дорогу. Тихо, как в пустыне. Если кто и наведывался сюда, то в выходные дни, а Пазько позволял себе и в рабочие. Говорили тогда: шеф пишет передовую. Данилов удивлялся: сколько же ее, ту передовую, можно писать? Аналитическо-декларативный жанр, самый легкий почти, Набор штампов. Обязательно что-нибудь из речи руководителя страны или области, перечень лучших коллективов, перечень худших, одна-две фамилии, так называемых маяков – чтобы знали, с кого надлежит брать пример. Навести, прицелиться, выстрелить!.. Чего проще! А он, гляньте вы, пишет передовую статью три дня. Тогда в редакции, как никогда, тихо, никто не подает сигнал тревоги: «Пазько в воздухе!» Здорово чувствует себя Широкий, он сам себе хозяин, может даже и не поглядывать в зеркало. Зосимович – Зосимович всегда: ему – что есть на работе редактор, что нет.
Наконец появляется редактор, вызывает к себя машинистку Михайловну, протягивает ей несколько листков на русском языке – газета тогда выходила на одном языке, белорусском, – и машинистка сама переводит статью. Причем, мастерски. За то время, что она работает, набила, как говорят, руку, так что – подавай только, отредактирует любой текст не хуже стилиста или самого секретаря Рутмана.
Всем было хорошо, казалось бы, что редактор по три дня пишет передовицу на редакционной даче, кроме его заместителя Леонида Коляды. Про себя он думал: «Пора с этим заканчивать, баста! Что, разве мы не знаем, чем он там занимается? Еще бы!»
Вот здесь и порассуждать следует: а что, нельзя было ему, редактору, спрятаться подальше от подчиненных и начальства, сослаться, в конце концов, на занятость и отвести душу крепкими напитками? Ну, когда нужда такая у человека бывает и совладать с той нуждой он не может: так приспичит, братцы, словно в уборную.
Данилов считал: ему – можно. Все идет гладко, есть два заместителя, им если не препятствовать, а дать волю, то и не заметишь, что Пазько где-то и что-то... Бывает же, кстати, и в отпуске. Что, разве газета не выходит?
Так думал не один Данилов.
А вот Коляда проявил принципиальность: не разрешу заниматься тем, чем нельзя! И понемногу начал готовить почву, чтобы устроить шефу хорошую взбучку, забыв даже о том, что когда-то учились вместе в училище речников и жили в одной комнате, а когда что-то у Коляды не заладилось на прежней работе, то никто другой, а именно Пазько, по старой дружбе, забрал его к себе: работай, Леня, где ты такой рай еще найдешь!
Только же не зря говорят: не накормив, не напоив, врага не наживешь. Нет, нет, господа: Коляда делал все правильно – так, как воспитали его партия, общество. Если с этой стороны смотреть, претензий к нему быть не должно, еще и похвалить надо, а вот с другой... Ну, а кто тебе, Пазько, виноват? Сам выбирал друга и заместителя, да и передовицы когда же пишешь подолгу, то в них, бишь, учишь людей, как жить правильно. Так что, извини: бумеранг. К тому же, если поругались Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, то почему не могут поспорить Артем Владимирович с Леонидом Петровичем? Могут, и еще как!
Было обычное плановое производственное собрание, и Коляда поставил на нем вопрос ребром, не без иронии и самоуверенности посмотрев перед тем на присутствующих: итак, почему подолгу пишет Пазько передовицы, спрашивается? Которые, кстати, и качеством не выделяются. И сделал такое выражение лица, выдержал такую паузу, что после всего этого коллеги наконец-то поняли всю серьезность дела: если уж Леонид Петрович действительно посмел выступить против самого Артема Владимировича!.. Получается – поступок? Не поверил только в такую наглость сам шеф, лицо сразу зарделось, а стул под ним предательски заскрипел: он смотрел на Леньку, с коим когда-то спали в одной комнате и швыряли друг в друга, было и такое, подушки. Так это – когда? При царе Горохе, в детстве, можно сказать. А теперь дело набирает, похоже на то, серьезный оборот. Ну, ну, и что там у тебя далее, критикан, правдоискатель? Ишь ты, почему подолгу пишет передовицы? Хм! Пазько понял, куда клонит Коляда, и ему стало жарко, он расслабил галстук. «Говори, я слушаю».
Здесь еще вот что случилось: когда Коляда поинтересовался, вроде бы невзначай, у коллег, почему редактор подолгу пишет передовицы на журналисткой даче, по залу проплыл шумок, ведь все знали ответ на вопрос, и давно, но знали как бы порознь, каждый держал это при себе, а тут разговор вышел за границы собственной головы, то это и вызвало определенное оживление. Джинн вырвался на свободу. Ура джинну!
Коляда повторил вопрос к Пазько. Тот никак, казалось, не мог понять, чего от него хочет подчиненный, ведь обычно вопросы задает он, а здесь – ему: не привык, потому не сразу и сообразил, что к чему.
– Я у вас спрашиваю, Артем Владимирович! – более строго посмотрел на Пазько Коляда. – От имени коллектива. Ответьте вот коллективу.
Мания величия, однако! Он просит! От имени и по поручению!.. Видали? Коляда тоже не промах: прежде чем задать такой вопрос, предварительно заручился поддержкой у некоторых сотрудников, те пообещали поддержать его, поэтому он, довольный собою, окинул взглядом присутствующих на собрании коллег. Но что это? Люди, которые обещали поддержать, воротят от него глаза, стараются не встретиться взглядами, и такое их поведение насторожило Коляду не на шутку. Однако отступать было уже поздно. Коляда понял, что проиграл схватку, почувствовал, как под ним пошел в преисподнюю пол, что он приехал и пора выходить.
– Так мне пишется... долго, – набрав полные легкие воздуха, наконец-то облегченно выпустил его, затем с таким наслаждением вздохнул Пазько, не вставая с места. – Или тебе показать, может быть, как я ручкой вожу по бумаге?
Вот об этом он, Пазько, зря, ведь Коляда сразу ухватился за ручку и бумагу, перевел все это в другую плоскость разговора, и вскоре опять все услышали то, что и знали до этого: оказывается, он там просто пирует. А передовицы – прикрытие.
– Поэтому я ставлю вопрос о дальнейшем пребывании в должности главного редактора областной газеты товарища Пазько... – произнес уже упавшим голосом Коляда и попросил проголосовать за это предложение.
Руку поднял только он один. Заговор провалился.
На следующий день Коляда вынужден был положить на стол Пазько заявление об увольнении по собственному желанию. Пазько молча подписал его, а затем посмотрел в глаза Коляде, покивал головой:
– Эх, Леня, Леня!..
Руки на прощание не подал.
Коляда вскоре надолго исчез, домашние не признавались, где он. И зачем они держали вокруг него такой занавес, было непонятно, однако где-то через год он сам нашел Данилова и передал тому привет из Туркмении от брата Михаила.
– А вы, Петрович, что там делаете? – удивился Данилов, поблагодарив за привет, хотя и сам все понимал: ну, уехал, уединился человек, чего здесь непонятного!
– Работаю в Красноводске, в многотиражке. На берегу Каспийского моря.
– Уго-о, куда занесло! И зачем вы так далеко забрались?
– Чем дальше, тем лучше.
– Неужели вам здесь нельзя было устроиться в какую-нибудь газету? Ну, был конфликт...
– Обиделся кое на кого. Просто не захотел с такими людьми даже жить в одном городе...– столь категоричен был ответ Коляды.
– Извините, Леонид Петрович. Это ваши личные дела. Ну, а с братом где встретились, при каких обстоятельствах? Он же в Ашхабаде живет – не в Красноводске.
– В Ашхабаде и встретились. Я знал, что ты оттуда приехал, а в твоей квартире остался жить брат, разыскал его по справочной. Надо было переночевать где-то, в гостиницах мест не было. А в Ашхабад чего ездил? Я так же, как и ты, решил написать пьесу... Отвозил в театр, чтобы показать.
Однако Данилов почему-то тех людей, которые начинали писать пьесы, совершенно откровенно жалел, считал, что они только ублажают этим свое самолюбие, не более того. Был твердо убежден: чтобы преуспевать в драматургии, надо еще иметь своего режиссера.
Пожелав удачи один одному, они распрощались.
И, как оказалось, навсегда: Коляда неожиданно умер. Для чего приехал домой, как все равно чувствовал, что надо вернуться. Лег спать и не проснулся.
А хороший был человек. Хотя, для кого как...
Раздел 15. Рокировка
Колька, внук Катерины Ивановны, стал Николаем Валентиновичем. Так, по крайней мере, обращаются теперь к нему все те молодые люди, которые расселись в ее бывшей квартире, о чем-то громко разговаривают по телефону, перекладывают с места на место разные бумажки, выбегают, прибегают. Суета, иначе не скажешь. Захотелось же старухе посмотреть, как расположился внук в своем теперь уже, получается, офисе, пришла, стоит на пороге, а на нее и внимания не обращают. Потом только, когда она начала обращать на себя внимание покашливанием, одна девушка как-то неуклюже повернулась наконец-то к Катерине Ивановне:
– А вам, бабушка, чего надо?
– Я к внуку... – нерешительно промолвила старушка. – К Кольке.
– К Кольке? У нас, кажется, такого нет? – девушка пожала худенькими плечами. – Ошиблись, видно. Не по адресу.
Но вышел из второй комнаты, служившей ей когда-то спальней, Колька и выручил :
– Это ко мне. Моя бабушка.
Катерина Ивановна улыбнулась и посмотрела на ту девушку, с которой у нее первоначально завязался разговор: ну, видишь, а ты говоришь, что у вас таких нет! Есть. Старая молча прошла по своим комнатам, заглянула и на кухню, там стояли только плита и стол, на котором был один электрочайник и несколько фарфоровых чашек. Не совсем обжиты были и комнаты – только столы да стулья, на столах, правда, время от времени трезвонили телефоны. «Надо было им цветы оставить», – подумала старушка, когда глянула на подоконники, где ничего, кроме каких-то маленьких коробочек, не было. Ну что ж, обживается внук. На здоровье. Она порадовалась за Кольку, но, быстро сообразив, что внуку теперь не до нее, направилась к выходу.
– Заходи, бабуля! – крикнул вслед Колька.
Катерина Ивановна, едва замедлив шаг, повернулась на голос, пообещала:
– Зайду, Николай Валентинович. Зайду.
Она впервые назвала внука так, как величали его все здесь в ее бывшей квартире. Звучит. Сразу же вспомнила сына Валентина, пожалела, что тому не повезло дожить до сегодняшнего дня и увидеть своего Кольку, особенно в те минуты, когда того называют его именем: Валентиновичем. Приятно. Порадовался бы и он, а как же.
Когда оказалась на крыльце, сразу задрала голову на стену, где бросалась в глаза вывеска с надписью «Мечта», а ниже, более мелкими буквами, было написано: «Туристическая фирма». Катерина Ивановна опять улыбнулась, на этот раз сама себе: «В деда пошел. Полностью. Тот изъездил весь Союз, а внук дальше заберется: за границу, говорит, людей повезем, пускай посмотрят, как там люди живут». Поедут ли только? Далеко ведь. Хотя желающие найдутся. Она и сама, Катерина Ивановна, куда-нибудь отправилась бы, но сперва надо в Минск съездить... Минеров правду тогда, наверное, сказал, дескать, почему сама не съездила. Незачем людей обременять. Как это он еще не догадался сказать ей: прожила всю жизнь за Николаевой спиной, привыкла, то сейчас, когда его не стало, надейся только на себя. А на кого ж? На меня? На внука? На дочь? У Николая хватает своих забот, дочь далеко, а Минеров сам задыхается от дел. Хотя, конечно, другой раз и помочь надо людям, тем более своим, тем более – старикам, таким вот уставшим, похоже, от жизни, бессильным, как вот и она, Катерина Ивановна. Но чтобы урну не привезти!.. Да и отчего она тогда послушалась тех военкоматовских, не стала ждать: им, вишь ты, некогда. А могли ж в тот день и забрать урну. Ну, на следующий, не обязательно в тот, а так вот и получается, что отклад не идет на лад. Колька, или Николай Валентинович, пообещал все же привезти. Даже сказал с каким-то воодушевлением, вселив тем самым надежду: «Сиди, бабуля. Не рыпайся. Ишь, заладила: надо мне в Минск наведаться в ближайшее время, ведь больше некому... Намек понятен?» Теперь он часто в Минске бывает и за Минском, то, конечно ж, вспомнит про деда... Так и быть: не поедет сама она, решила твердо и непоколебимо. Если уже и теперь Колька подведет, когда она и квартиры для него, окаянного, не пожалела, тогда совсем можно отчаяться, – она не представляет даже, как с ним разговаривать в дальнейшем, на каком языке. Тогда, пожалуй, не будет знать, как жить самой, что делать!..
Побывав на бывшей квартире, Катерина Ивановна вернулась к себе. Вот как – к себе, да-да: от себя – к себе. Хотя какая она здесь хозяйка? Квартирантка. Думала ли, предполагала ли когда, что на старости лет будет жить, как набежит, да еще и у чужих людей. Хозяйка, Софья Адамовна, правда, женщина простая и сносная, встретила ее вежливо, как старую знакомую. Вот, говорит, твоя комната. Живи. Столом на кухне будем пользоваться одним. Нам хватит. Телевизор бери свой, ведь мой никуда не годен, так, может быть, и я когда гляну. Можно было подумать, что у Катерины Ивановны лучший. Однако промолчала, не возразишь ведь. Кровать забрала свою. Остальное, сказала хозяйка, у нее все есть. А то, мол, не повернемся, будем ходить впритирку. Софья Адамовна посоветовала лишние вещи продать, что Катерина Ивановна и сделала: Колька быстро провернул эту операцию, а вырученные деньги принес ей. Конечно ж, и прикарманил чуток, не без того, но она и внука понимала: ему теперь нужны деньги, поскольку активно развивает, как говорит, свой бизнес.
Все бы и хорошо, все бы и благородно было, если бы не одно обстоятельство. К Катерине Ивановне пришло такое чувство, будто начинает жизнь сызнова, и она не знала, радоваться этому или печалиться. Когда-то она уже так начинала жить, только была тогда молодой и красивой, работала на фабрике «8 Марта» швеей-мотористкой, а приехала в город из Бахмача, из соседней Украины. И как раз вот так, как теперь, жила у одинокой старушки. А тогда встретилась в троллейбусе с курсантом военного училища, и судьба ее была решена: она стала женой будущего офицера. Боже, словно вчера все было! А в промежутке между прежним и нынешним ее постоем на квартире выросли дети, внуки, не стало сына, умер муж. Все вместилось в короткий промежуток времени, в такой короткий, что нельзя не согласиться: жизнь – всего лишь миг, она стремительна и невероятно быстра. Ну, будто течение горной реки!..
Софья Адамовна заядлая дачница, поэтому летом и до первых заморозков живет где-то за городом. Катерина Ивановна пока не ездила, хотя и было желание глянуть, что уж у нее там за фазенда, хвалится больно, чего только там нет. И земля хорошая. Кол воткни – будет расти. Сумки едва дотаскивает с участка – тяжелы, Катерина Ивановна сочувствует Софье Адамовне: ну, и надо ли тебе, почтенная, лишняя забота на старости лет? А та стоит на своем, и твердо: надо, и не отговаривай, и не возражай! Если бы не воздух, если бы не ковыряние на грядках, она б, наверное, и не жила уже. В это Катерина Ивановна слабо верила, ведь она же сама как-то вот живет и здравствует, хотя дачи у нее никогда не было и теперь уже, понятно, не будет.
Иногда, бывает, старушки угощают кое-чем друг дружку, но они обе такие едуньи, что мордатый кот Антон больший рацион потребляет. Катерина Ивановна, поскольку заслуги ее в том, что выросло на даче у хозяйки, нет, старается под любым предлогом отказаться от того, что та иногда предлагает ей. Стыдно быть нахлебницей, и так, считает, повезло, что Колька подыскал ей такую квартиру. Меру знать надо.
О своей жизни Софья Адамовна пока особенно не распространяется, все ощупью как-то, осторожно, издалека будто подбирается. Мужа нет, давно уже. Ну, нет и нет. Видно, такой муж был, что не хочет о нем много говорить. Две дочери есть, живут в городе, свои семьи имеют. Весьма счастлива, признается, что девчата, а парней иметь – одна головная боль: пьют, меры не зная, курят и хулиганят. На соседей кивает. Хотя, бывает, и девчата могут отмочить такой номер, что и парней обставят. Тут, молодица, не угадаешь.
Катерина Ивановна больше с соседкой тары-бары разводит, с Ларисой Сергеевной, поскольку ее хозяйка пропадает на даче, а на скамейке здесь почему-то старушки не сидят. То ли нет их, то ли что другое. Словно чужой город. Не так, как на прежнем месте: там компания была хорошая, информированная по всем вопросам, – начиная от своего дома и кончая столичными новостями. Так что хорошо вот, с соседкой познакомилась. Как раз вместе мусор выносили и разговорились. Лариса Сергеевна – ого, женщина! Не смотри, что лицо испещрено густой сеточкой морщин и лет ей, конечно же, много, – ученая, не лишь бы кто. Оно и заметно – умеет выслушать тебя и знает, где и когда свое слово вставить. Что заметила Катерина Ивановна, так одну особенность – она всех своих соседей хвалит, ни про одного из них плохого слова не сказала. А не может же быть, чтобы у тех все гладко было, шито-крыто! А она – молчок. Это и нравится в ней. Отчего ж и ее, Катерину Ивановну, в женсовет части выбрали, а потом и председателем? Также умеет людям сочувствовать и лишнего не ляпнет.
Лариса Сергеевна чаще всего идет в город с тоненькой ореховой тросточкой, Катерина Ивановна это видит, и однажды, осмелев, напросилась к ней в попутчицы.
– Вот здесь я когда-то жила, – показала Катерина Ивановна на дом, где на окнах – заметила – появились новые красивые занавески. – Также на первом.
Они остановились. Лариса Сергеевна посмотрела на дом, на окна, а потом повернулась лицом к Дому коммуны.
– Я вон там жила...
– В Доме коммуны?
– Да, да. Представить невозможно: с тридцать четвертого.
Постояли молча, и в это время каждая из них, конечно, думала о своем.
– Мы с вами, Сергеевна, пожалуй, и встречались?
– Видимо, нет: после войны мы мало здесь пожили, нам дали квартиру на Катунина. Трехкомнатную. Отцу дали, конечно же. А когда мой сын развелся, то мы разменяли трехкомнатную на одно– и двухкомнатную. Невестка согласилась взять однокомнатную. А вы же, Катерина Ивановна, в то время, когда мы жили в Доме коммуны, по-видимому, где-то в гарнизоне служили.
Катерина Ивановна в знак согласия кивнула: конечно, конечно. А может быть, и нет, ведь если взять ее годы, то она все же намного моложе, чем ее новая соседка, однако об этом говорить ей было не с руки как-то, и она посчитала за лучшее вообще промолчать. Только пройдя немного, опять кивнула головой на окно, за стеклом которого была отчетливо видна седая, с непричесанными волосами, голова Хоменка. Тот смотрел куда-то мимо или вообще не смотрел – трудно было разобрать, уже не такое острое зрение, как раньше. А может, Степан Данилович и вовсе никуда не смотрел, а ковырялся на подоконнике, занятый каким-то полезным и одному ему нужным делом.








