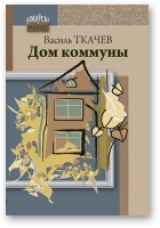
Текст книги "Дом коммуны"
Автор книги: Василь Ткачев
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
– Нет настроения слушать ту болтовню... Не знаю... Надо осмыслить... Куда спешить?.. Мы пока не имеем точной информации... И если честно сказать, второй секретарь обкома партии не произвел впечатления – мямлил, запинался, как школьник, пришедший не подготовленным к уроку... И в общем, у меня пропало настроение...
– Прости, нечем поднять.
– И не надо. На вот, почитай... А ты говоришь, что партия не виновата. Почитай, почитай! «Городские ведомости» – единственная газета, из которой можно глотнуть хоть чуток свежего воздуха. Правды. Я редактора Гришку Андреевца хорошо знаю – вместе в цирке политинформации слушали. На. Держи.
Хоменок взял газету, что протянул ему Володька, поднес к глазам, а затем по слогам, словно школьник, начал читать – надо будет очки все же купить, не дело это:
– «КПСС не виновата! Она не поддерживала ГКЧП в дни путча, – там-сям еще можно услышать такое. Так ли это? Перед вами, уважаемые читатели, две шифротелеграммы, конфискованные в секретном отделе обкома партии. Там точно, черным по белому сказано: 19 августа 1991 г. секретариат ЦК КПСС обращается к первым секретарям ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов партии принять меры по участию коммунистов в содействии Государственному Комитету по чрезвычайному положению в СССР. А секретарю ЦК КПСС О. Шенину этого показалось недостаточно, и он 20 августа направляет дополнительно еще одну шифротелеграмму, где просит информировать ЦК КПСС о принятых мерах по наведению порядка и дисциплины. Разумеется, в рамках действий ГКПЧ.
Что это, как не криминальный финал КПСС!..»
– Далее можешь не читать, и так все понятнее некуда! – посоветовал Володька. – И купи, Данилович, с пенсии очки. Дашь десятку, я подберу…
– Совпали, получается, мнения по очкам, – ответил Хоменок, а потом, подумав немного, твердо заявил:
– А я свой партбилет не отдам!..
– Ты не виноват... Я знаю, Данилович, тебя!..
– Если партию разогнали, значит, виноват и я, – не согласился Степан Данилович. – Взносы, значит, платить не надо? Так, получается?
– Наверно. Не вникал конкретно. Но разузнаю. А-а, про взносы. У нас в секретной части служил подполковник Дургарян, армянин. Беспартийный. Дома в копилку каждый месяц, сколько и служил, откладывал с получки три процента, которые платил бы, имея партийный билет, а по выходу на дембель купил за те деньги «Жигули». Как раз хватило. Так-то вот!..
– Ты бы все равно не собрал и не купил.
– Я – возможно, но не я один такой, – Володька чуть даже обиделся на Хоменка, ведь тот в последнее время, как он заметил, стал относиться к нему предвзято. – А Заплыкин дернул в Москву.
– Да слышал. Туда ему и дорога. Москва большая. Там всем места хватит.
– Не скажи, Данилович! Умный человек был! Голова!
– Что-то все они, если тебя послушать, такие умные, а партию ухайдакали. Как это так – взять и отдать власть? Такую власть!.. Выхватили из рук прямо средь белого дня и разрешения не спросили!.. Как окурок все равно. А те: нате, раз вам так прижучило. Управляйте. И надо же – совпадение, что и Дом коммуны развалился почти одновременно – как по договоренности. Строили светлую и свободную жизнь, а оно все сикось-накось получилось. Тьфу-у, заразы! Сбегай, Володька, купи поллитровку, помянем партию, что ли, а?
– Давай – схожу, – протянул широкую, словно лопата, ладонь Володька.
Хоменок расщедрился, и Володька исчез за дверью, а сам он подсел поближе к окну, посмотрел, что творится на улице. А что там могло твориться? Дом коммуны как стоял, так и стоит с выдранными оконными рамами, а на заборе, коим обнесли его строители, кто-то нацарапал зеленой краской: «Бог вас видит». Скромно и точно. Может, и так. Может, и следит он, Бог, за каждым нашим шагом. Только как он один успевает за каждым?..
Степан Данилович, хоть и был партийным человеком, однако же не чуждался ничего земного, мог накуролесить, не придерживался строгих правил и других не наставлял, куда идти и что делать, что есть и пить. А позже начал все чаще и чаще поглядывать на небо – словно, действительно, хотел увидеть там Бога...
Иногда, а в последнее время все чаще и чаще, у него перед глазами проносилось прошлое – пестрело синью холодное северное море, колыхались и стонали в пучине грозные волны...
...Их подводная лодка попала тогда в непростую ситуацию: неожиданно во время боевого рейда в суровом море ее местонахождение стало известно немцам, и субмарина вынуждена была залечь на дно. А когда вздыбилось, задрожало от взрывов глубинных бомб море, неуютно стало на подлодке – ее качало, как зыбку; били враги по цели, не жалея бомб, а цель была одна – выявленный объект, то есть их подводный дом, значит, и – они, моряки-подводники, в том числе и матрос-торпедист Степа Хоменок. У него тогда был первый выход на боевое задание, так могло случиться, что и последний. Все бы ничего, но экипаж охватила тревога, когда атака немецких эсминцев прекратилась. В подлодке стало чрезвычайно тихо – от тишины начинала болеть голова, стоял в ушах прежний гул, которого на самом деле не было.
Вскоре стало известно, что фарватер чист, в небе спокойно. Но выяснилось самое страшное и невероятное – лодка не могла тронуться с места: глубинная бомба сделала свое – поврежден винт. На базе медлили с принятием решения. Да и какое можно было принять решение, когда через торпедный аппарат никак не выбраться – глубина слишком большая, а отбуксировать лодку еще сложнее: немцы активизировали в последнее время свои действия в этом районе моря. Рискованно. Надо было переждать, чего бы это ни стоило!..
Потянулись долгие и тяжелые дни. Кое-кто из матросов не выдерживал, срывался на отчаянный крик, заявлял, не стеснясь предательских слез, что он хочет жить, а не кормить рыб. Тех, как могли, утешали, успокаивали более закаленные морем матросы и офицеры. Другие писали письма своим родным... Прощальные письма. Написал такое письмо и Степа Хоменок. Закончил его словами: «За Сталина! За Родину!»
Несколько дней тянулосьь то ожидание. Регенерирующее приспособление вырабатывало все меньше и меньше кислорода, началась кессонная болезнь – сонливость, вялость... Надежд на спасение оставалось с каждым днем, с каждым часом все меньше и меньше, вот тогда и вспомнил впервые Степа Хоменок про Бога. Он где-то там, над лодкой, над толщей холодной морской воды... Далеко. Весьма. Услышит ли? Увидит ли? Бог услышал, Бог увидел их, подводников, и спас.
И когда прочел Хоменок надпись на дощатом заборе, каким был обнесен Дом коммуны, то вспомнил не только то тревожное военное время, но и Бога. Да, правильно написал кто-то: «Бог вас видит». Степан Данилович подтвердит, он любому может сказать это при случае прямо в глаза, хоть и не считает себя особо верующим человеком. Верит настолько, насколько воспитала система, пронизанная ненавистью к религии. Не молится, а – верит, это две большие разницы.
Вот тогда же, задыхаясь в подлодке, борясь за жизнь, – старались как можно меньше двигаться, чтобы экономить силы, – он и решил для себя: если останется жив, то построит такой дом, в котором будет широкая стеклянная стена, через которую бы он мог смотреть на белый свет... на родное село... на город... на людей... на солнце... на дождь... на снег... на деревья... На все то, чего не видел на дне Баренцева моря, а что грезилась ему... снилось... виделось...
Однако дом так и не построил – не за что было. Благодарить надо вагоноремонтный завод, что выделил квартиру-ячейку в Доме коммуны, где жить тогда считалась большой удачей. Этот дом был в центре, рядом с автобусным и железнодорожным вокзалами, на первом этаже – торговые лавки, ремонтные мастерские. Одним словом, все под рукой, одним словом, – лучший дом в городе, можно и так сказать!..
Теперь вот у него есть это окно. Хватает обзора. Смотри только, удивляйся-радуйся, если есть чему. И он нисколько не жалеет, что не получилось осуществить ту свою мечту, рожденную на умирающей, но спасенной подводной лодке, – построить стеклянную стену...
А то письмо, что писал он для своих родных на случай, если экипаж погибнет, а кто-то из потомков его обязательно найдет, он привез домой, но не сберег. «За Сталина!» Не отрекается, писал так. А потом, в Норильске, не раз укорял себя за эту, как считал сам, слабость. Когда вернулся из Гулага, порвал письмо на мелкие клочки.
Володька в тот день так и не появился у Хоменка. Что интересно, Хоменок не сердился на него. Даже где-то внутри и порадовался: значит, будет жить партия, когда они не справили по ней поминки. Хотя, по-человечески, тревожился: что могло случиться с Володькой?
Такого еще за ним не водилось, чтобы ушел за вином и не вернулся...
Раздел 4. Форпост
Иногда Ларисе Сергеевне снится один и тот же сон. Будто бы едет она в поезде на Восток, в вагоне много людей, тяжело дышать, очень-очень хочется пить, а над головами бешено, до глухоты в ушах, ревут вражеские самолеты... Не доедем?.. Погибнем?.. Да и были же мы в той далекой Уфе, зачем второй раз?.. Что, опять война?.. И от взрывов она просыпается. И радуется, что это был всего-навсего сон. А потом еще долго лежит в теплой постели, и воспоминания, одно за другим, тревожат, будоражат память – нету им покоя, думам тем!..
Все помнится до мелочей, и что интересно, с годами острее и острее. Словно все было только вчера. Вот-вот. Она охотно оглядывается назад, припоминает, как девочкой впервые привел ее папа в Дом коммуны, показал квартиру: здесь мы будем жить, доченька. Отец, Сергей Иванович Журавель, был парторгом на вагоноремонтном заводе, носил строгий черный костюм и белую сорочку, и когда Лора была совсем маленькая, высоко подбрасывал ее – казалось, под самые-самые облака. Она пугалась сначала, боялась, что отец не поймает ее, уронит на землю; однако позже начала понимать, что такого никогда не могло случиться, потому что тот человек, который подбрасывал ее, словно перышко, так высоко над собой, – самый надежный, самый хороший человек на земле. И когда в первый день войны в небе озверело заревели вражеские самолеты и начали сбрасывать на город бомбы, жильцы Дома коммуны, не паникуя, спускались в бомбоубежище. Там исчезал страх, так как оно настолько было глубоким и надежным укрытием, что в нем не всегда были слышны взрывы и стоны рушившихся строений. Там – был другой мир. Отец Лоры стоял тогда перед толстой металлической дверью, что вела в бомбоубежище, просил не спешить, не устраивать толчею, объяснял соседям, что все они успеют укрыться. Но для этого должен соблюдаться порядок. И помогал, кому требовалась помощь, спускаться по ступенькам вниз.
Тогда, в первые дни войны, люди несколько раз прятались в бомбоубежище. Чуть позже завод был эвакуирован, а с ним – и рабочие. Дом коммуны опустел. Помощник коменданта дома Орефьев, немолодой уже человек, – а он оставался, пожалуй, один на все квартиры и этажи, – имел не шибко геройский вид: хоть и старался, бедняга, держаться мужественно, однако чувствовал большую ответственность, что легла на него – беречь, насколько такое возможно, Дом коммуны, – и потому волнение выдавало его: перекладывая из кармана в карман большую связку ключей, время от времени поправлял на голове кепку, а потом, как только отошел от вокзального перрона поезд с последними отъезжающими в Уфу, как-то совсем растерянно махнул рукой и, склонив голову, неуверенной походкой направился домой.
А маленькой Лоре в Уфе часто вспоминался тот большой и красивый Дом, где они, малышня, жили счастливо и беззаботно. В особенности хорошо было ей в пионерской комнате. Там они пели, танцевали, учили на память стихотворения, а потом нередко показывали концертные программы своим родителям. Аккомпанировала им красивая и кокетливая пианистка Лиза. Хоть она была и молодой, ее называли уважительно Митрофановной. В комнате имели место и атрибуты пионерской жизни – барабан, горн. Пионерскую комнату позже начали называть форпостом, детям это слово нравилось, потому было только и слышно: «Я в форпост!», «Мы – в форпосте!» Пионервожатая Слава всегда была очень рада, когда дети прибегали к ней в форпост. Они вместе мечтали, что наступит тот день, когда люди – все люди, а они, из Дома коммуны, возможно, и первые! – будут жить всегда дружно и зажиточно, и, надо полагать, всем на свете тоже будет весело и хорошо.
А еще – это кино, просто чудо какое-то! Раз в неделю, обычно в субботу, широкий просторный двор становился зрительским залом. Кто раньше приходил, тот занимал место на скамейках, что стояли на зацементированной площадке, а кому не находилось где сесть, тот приносил свою табуретку. Люди с табуретками приходили во двор даже из соседних кварталов: в Доме коммуны – бесплатное кино, как же пропустить такое счастье! Шли сюда как на праздник. И всем хватало места.
Как-то Лариса Сергеевна, а ходила она уже с клюкой, пришла во двор своего детства, еле продралась через строительный хлам – щебенка и мусор повсюду. Графские развалины, не иначе!.. Долго стояла во дворе. Вон там была та котельная, там – кинозал. Три подъезда, как и раньше. Дверей нет. Окон также. Раньше лишь бы кого сюда и в уборщицы не брали. Строго относились к каждому. Да и люди не мусорили. Поэтому всегда было чистенько, аккуратненько повсюду. Дом обслуживали свои слесари, свой портной, свой сапожник. Сапожником был Эпштейн. По углам дома, со стороны проспекта Ленина, находились ларьки: в одном продавали разные сладости, фирменные пончики и пирожки, а в другом, если не изменяет память, мужчины пили пиво из лобастых бокалов. На первым этаже – торговые лавки. Лариса с подружками тайком от родителей бегала смотреть, чем там торгуют. Словно на экскурсию в музей, и когда девочки видели на полках рулоны красивой мануфактуры, то представляли себя принцессами в шикарных платьях и платках.
Вернись, время!
Лариса Сергеевна, возвратившись домой, в свою нынешнюю квартиру, что также в центре города, на Катунина, окнами на центральный рынок, долго еще перебирала в памяти прошлое. Хм, их же тогда, в Башкирии, местные называли не «эвакуированными», а «выковырянными». Словно семечки из яблока. Но люди были хорошие. Вообразить только – когда началась война, в Уфе проживало триста тысяч жителей, а к концу войны – три миллиона!..
А потом – возвращение. Мост через Сож был разрушен. Поезд остановился в Новобелице. Через реку переправлялись люди на чем только могли. И что особенно запомнилось Лоре, так это неутолимое желание как можно быстрее встретиться с Домом. Повезло девочке: она была в эвакуации с мамой и папой. С ними не было только их квартиры. Жив ли Дом? Побыстрее, побыстрее, побыстрее в тот знакомый уютный дворик, на те ступеньки, к тому лифту, который был пока единственным в городе, и поэтому все дети, не секрет, завидовали коммуновцам!
По дороге же в эвакуацию отец рассказал как-то на ночь дочери не сказку, а быль – вместо колыбельной, и все, кто сидел поблизости в вагоне, повернулись на голос парторга Журавля и затаенно его слушали.
– В нашем городе было болото, большое, со множеством птиц и зверей, поросшее кустами камыша и осокой. Растительность – богатая, густая и цветущая. Встречалось много лекарственных трав. Да только одна беда подстерегала болото – каждое лето оно пересыхало, над ним начинал носиться и властвовать суховей, иной раз своевольничал смерч, потому часто случались пожары. Город горел, а в 1856 году выгорел почти полностью. То ли потому, что болото почти уничтожило город, то ли по какой другой причине, однако же болото это назвали Гнилым...
Почему рассказал отец тогда ей, девочке, а заодно и другим, пожелавшим послушать его, про тот пожар, про суховей и смерч, она догадалась гораздо позже – когда стала взрослой...
И Дом встретил их! Хоть и не так приветливо и торжественно, как представлялось, но та встреча произошла!.. На глазах людей блестели слезы радости, а Дом не плакал – он вел себя мужественно и стойко, как настоящий мужчина. Вначале к нему не разрешалось подойти: враги, отступая, во многих местах заминировали его.
Лора запомнила, как она со своими ровесницами и подружками, дождавшись, когда саперы подготовили его к жизни людей, сразу же помчались по Дому, застучали каблучками по гулким длинным коридорам, кричали, толкались, не зная предела счастью. В комнатах стояли шкафы, кровати, кое-где лежало постельное белье, валялись какие-то другие вещи, раньше не встречавшиеся... Это все оставили немцы, которые здесь жили.
И почему-то их не пришел встречать заместитель коменданта Дома – хороший, жалостливый дядя Орефьев с увесистой связкой ключей...
Раздел 5. Ирония судьбы
Бубнов был директором вагоноремонтного завода, а Дом коммуны ему и принадлежал. Когда строение начало как-то сразу, на глазах, сыпаться и потеряло внешний вид, а канализация держалась на последнем вздохе-выдохе, выпали из гнезд дверные косяки, и, конечно же, зашуршали, словно осенние листья под ногами человека, жалобы-письма жильцов во все, какие только имелись, инстанции. Тогда зашевелился и Бубнов. Что-то надо было делать, предпринимать, а что – он, Василий Леонидович, и сам не знал. Знал только одно: сегодня, когда обозначился упадок в производстве, начала создаваться в связи с распадом Советского Союза и компартии критическая и никому пока до конца не понятная ситуация в экономике, вагоноремонтному Дом коммуны было не поднять. А его надо было спасать. Пока не поздно, пока он совсем не развалился, как и Союз, когда-то большой и могучий. Выход был – передать его городу, но и город отмахивался: зачем, почтенный директор, нам лишняя забота?
Бубнова в Гомеле хорошо знали, здесь он был своим человеком, имел авторитет, и авторитет, надо признать, прочный. Завоевал его не в кабинете райкома партии, где получил первоначально должность инструктора почти что сразу после окончания престижного института инженеров железнодорожного транспорта, а гораздо позже – когда выбрали секретарем парткома производственного объединения по выпуску сельскохозяйственной техники. Это был серьезный и ответственный участок работы, где Василий Леонидович показал себя хорошим идеологом-организатором, поэтому с ним считались и позже, когда партии не стало, а потому и предложили возглавить вагоноремонтный завод. Своих людей, и это надо признать, партия не бросала, хоть самой ее, партии, казалось бы, уже не было. Были достойные люди из той красной гвардии, друзья-соратники, и они помнили друг о друге, заслуживающих поддержки – поддерживали, обеспечивали куском хлеба. Хоть ногой Бубнов не толкал двери вышестоящего начальства, но входил в них без очереди, только, конечно же, по звонку, чтобы не толкаться в приемной. Как и тогда, когда позвонил председателю горисполкома, женщине с грузино-греческой фамилией Димитрадзе, что для Беларуси на то время и совсем было нонсенсом: приехали, господа! Кто нами управляет? Однако же нет, ничего удивительного и странного: корни у Александры Кирилловны были самые что ни есть белорусские, ну а муж, если он – человек хороший, то почему не может быть и не белорусом? Шутка, конечно!..
Как только Бубнов перешагнул порог, Димитрадзе поприветствовала его мягкой улыбкой, затем легко выпорхнула из кресла, оперлась руками на край стола и как-то сразу заметно подросла для того, чтобы подать Бубнову руку, вышла из-за стола. Александра Кирилловна, худощавая, среднего роста, с приятным лицом женщина, предложила сесть. Гость и сам этого хотел, но не решался. Пришел он не на минуту-другую в этот просторный кабинет, а надолго. Надо было, наконец, решить, что делать с Домом коммуны!..
– По Дому? – подняла на Бубнова глаза Александра Кирилловна.
– Сами понимаете, – развел руками и как-то виновато улыбнулся Бубнов. – Есть и еще вопросы, но главное – да, да, по нему, по Дому...
Хозяйка кабинета глубоко и тяжело вздохнула, и Бубнов понял, что дался он, этот Дом, и ей. Однако сделал вид, что не заметил, как она вздохнула: вздыхай не вздыхай, а одними эмоциями дело с места не сдвинешь. Димитрадзе попросила своего помощника как можно побыстрее вызвать к ней заместителя, который курирует жилищный фонд, а также начальника участка капитального строительства – УКСа. И попросила Бубнова, чтобы не терять время: «Давайте, что там у вас еще, Василий Леонидович», но потом передумала, махнула рукой. Решила сначала дождаться вызванных руководителей и специалистов, всего, мол, сразу не охватишь, и на ее лице снова обозначилась улыбка – приятная, теплая. И хоть Александра Кирилловна была в строгом черном костюме, она показалась Бубнову самой обыкновенной женщиной – с которой можно сходить в ресторан, выпить шампанского или даже чего покрепче, покружить в танце. Ведь женщина же она, если присмотреться, если с другой стороны!.. И вот эта женщина опять улыбнулась своему гостю, отодвинула от себя стопку бумаг, сделала это энергично, одним движением руки, и попросила:
– Расскажите, Василий Леонидович, лучше анекдот. Вы умеете.
Бубнов растерялся: что это с Александрой Кирилловной? Он не сводил с нее глаз и приятно был удивлен и обескуражен, увидев в них, тех красивых серых глазах, лучики-искорки, какими обычно стреляют во все стороны ценные минералы. Вот те на!..
– Расскажите, Василий Леонидович, – заметив растерянность на его лице, опять попросила Александра Кирилловна. – Самый свежий! Вы умеете... Однажды я слышала в одной компании, как вы рассказывали. Мне понравилось. Тогда все так смеялись! Как дети. Хотя что же здесь странного? Выпили, расслабились... Говорят, даже генералы, когда собираются вместе, начинают толкаться и пощипывать друг друга исподтишка. Расскажите, Василий Леонидович... А дела подождут. Ведь сначала надо с Домом решить... А то мы завалим его – до самой кровли – разными бумажками, переписками и не найдем потом сам Дом. Или, в итоге, забудем про Дом. Он – главное, а все остальное, считаю, мелочи. Ну, так я слушаю...
Но он не успел рассказать анекдот: в кабинет, друг за другом, как-то неуверенно, словно они впервые здесь оказались, вошли и сели на чуть поодаль от стола мэра все, кого пригласила Александра Кирилловна: спокойный и рассудительный заместитель Димитрадзе Морозов и начальник УКСа Шаповалов. Последний был видный мужчина, очень самостоятельный, однако часто болел, чего особо и не замечали: кто теперь не болеет, а вопрос – чем, мало кого интересовал. Делает свое дело человек – и ладно, а где он его делает и каким образом – не так уж и важно. Ведь к участку капитального строительства претензий особых не имелось, значит, его, Шаповалова, в том заслуга. А что еще надо!
– Анекдот все же расскажете, – полушепотом предупредила Бубнова Александра Кирилловна и по очереди посмотрела на каждого, кто пожаловал по ее просьбе в кабинет.
Все сидели молча, забыв о тонком запахе духов, который уловили, переступив порог этого кабинета.
– Так что будем решать с Домом коммуны? – строго спросила она. И Бубнов не сделал для себя открытия, когда увидел за столом ту же деловую, подчеркнуто-строгую начальницу, каковой, по сути, она и должна быть, даже если не одень ее в этот черный строгий костюм. – Ну, с кого начнем?..
Наблюдательный, быстрый взгляд скользнул по лицам собравшихся. На какое-то мгновение воцарилось молчание, тягостное и напряженное, и тогда Александра Кирилловна, чтобы разрядить обстановку, решила пошутить, хотя лицо ее по-прежнему оставалось строгим:
– У нас, извините, как на том пиру: после первой некому говорить, а после третьей некому слушать?.. Правильно, я не ошибаюсь?
Послышался сдержанный смех. Это понравилась женщине: шутка сработала.
– Так вот, Дом коммуны, как говорит директор вагоноремонтного всем вам известный Бубнов Василий Леонидович, далее ждать не может. Рухнет. Рассыплется. Как песочный, – снова перешла она на деловой тон.
На это Шаповалов заметил:
– Сам построил тот дом, вот пусть и разбирается с ним.
Бубнов такую шутку не принял:
– Да не сам. Завод. Давно, до войны – в тридцать первом еще, между прочим. На то время это был дом – всем домам дом.
– Да это мы знаем, – передернул плечом всегда осмотрительный и рассудительный Морозов. – И то, что имя архитектора Шабуневского забыли, а это же его творение.
Димитрадзе постучала карандашом по графину.
– Поближе, поближе, товарищи, к делу, – попросила она, придавая твердость голосу. – К чему сегодня вспоминать. Ну что мы будем сегодня вспоминать Шабуневского? Я знаю, что Петр Степанович... – Александра Кирилловна задержала на Морозове взгляд. – Знаю твою болячку: тебе хочется увековечить Шабуневского. Тогда вот возьми отремонтируй дом и повесь там вывеску: этот дом построен, дескать, по проекту архитектора Шабуневского... не знаю, извините, как его звали-величали... надо будет посмотреть в документах. – И когда ей никто не подсказал, Димитрадзе поняла, что этого не знала не только она. – Не напишешь, к сожалению, следующего, а можно было бы, чтобы знали потомки: построен этот злосчастный, как оказалось, дом с одной целью – чтобы люди жили вместе, одной семьей, хоть и не были родственниками... по крови, что ли, а их хотели сделать родственниками по закалке, по духу... Какая авантюрная идея, согласитесь! И правда, смешно сегодня вообразить нам, что архитектор... Шабуневский...
– И инженер Ханин, – подсказал все тот же Морозов. – Их было двое.
– И здравые же люди были, Шабуневский и Ханин, – фамилию «Ханин» Александра Кирилловна легким росчеркам ручки пометила на отрывном календаре, – а такие, оказывается, недалекие... Что значит пропаганда того строя, той жизни... Сила, мощь!.. Тот, кто предвидел бы, как сложится далее жизнь, был бы действительно гениальным человеком. Хотя, откровенно говоря, легко нам сегодня судить...
– Если бы жил Ленин...– попробовал что-то сказать Шаповалов, однако его не пожелала слушать Димитрадзе, ей хотелось поговорить самой, хоть обычно она предпочитала слушать других.
– На каждом этаже, если я не ошибаюсь, были комнаты отдыха? – на этот раз женщина посмотрела на Бубнова. Тот кивнул: да. – Столовая... Это что же получается – приготовила я еду на общей кухне, села в столовой и ем? Так, получается? А все мне в рот глядят. Не-е-т, извините! Библиотека-читальня, чтобы все видели, какие книги читаю. На каждом этаже комната отдыха, общие кухни, как я уже сказала, санузлы... Дом-корабль, одним словом. Только на корабле нет детского садика, а в этом доме – пожалуйста!..– Она не сдержала улыбку, хотела пошутить, что, возможно, и дети в Доме коммуны были общими, но посчитала такую шутку не совсем удачной и своевременной и сказала другое: – Предложения, товарищи! Давайте, давайте! Что-то мы топчемся на одном месте. Одна я говорю. А вы, гляжу, воды в рот набрали. Проглотите, проглотите!..
Сошлись на том, что Дом коммуны надо перепланировать, отремонтировать, и сделать это силами города. Жителей дома необходимо расселить куда-то, не выбросишь же их на улицу, а это – ого сколько квартир! Решили также искать богатых людей, они в последнее время всеми правдами-неправдами начинали появляться на горизонте. Их должен, должен привлечь новый Дом коммуны!.. А-у, денежный народ, вноси свою долю – и быть тебе с лучшей долей!..
Бубнов тогда с облегчением вздохнул: наконец-то! Гора с плеч!
Покидая кабинет председателя горисполкома, он услышал, как Александра Кирилловна полушепотом, но выразительно бросила ему вдогонку:
– Анекдот, Василий Леонидович, все же за тобой!
Однако, однако... Пообещал, ничего не поделаешь, но не пришлось пока рассказать ему анекдот этой привлекательной, миловидной женщине. Где она сегодня работает – он и сам толком не знает. В кабинете Александры Кирилловны, в том самом кресле – надо будет все же попросить, чтобы подобрали новое, более просторное и мягкое! – сидит теперь он, Бубнов.
Раздел 6. Возвращение
И вот как раз в те дни, когда Хоменок видел в окно, как снова появились в Доме коммуны люди в желтых спецовках, и пригвоздили к стене вывеску, которая гласила, что на пролетарские развалины нашелся инвестор и что тот с распростертыми объятьями приглашает вместе реанимировать честь и славу города, – как раз в те дни Володька привел к нему, Хоменку, чтобы познакомить, очередного гостя.
– Данилов! – с порога представил он невысокого паренька с длинным носом, с множеством веснушек на щеках. Одет тот был не чета Володьке: чувствовалось, что молодой человек предпочитает немного иной образ жизни. – Что, не слыхал такую фамилию? Ах, да! У тебя же радио нет, газет не читаешь! А напрасно, напрасно, старик, самоизолировался, он как раз там и подрабатывает – на радио. И заметь: ты – Данилович, он – Данилов. Не одного ли поля ягоды? Не родственные ли души? Созвучие и синхронность полнейшая! – И к Данилову, не дав тому опомниться: – Ну, что там у тебя? Давай, давай, а то мне надо ехать сегодня к своей швабре. Обещал. Стаканчик приму не пьянки ради, а уваженья для, – и побегу на автобус. Пообещал новые занавески повесить. Будто без меня не смогла бы!.. Ну бабы!..
– Надо. А то она, жена, то же сделает с тобой, – подсел к столу Хоменок, поставил в один ряд три стакана.
– Ну, ну! Пусть попробует! – хорохорился Володька. – Ты меня знаешь! Не впервой!..
– Еще бы!
Выпили, закусили, и Володька забыл про занавески, а разинув рот, слушал Данилова. Потом, в конце концов, попросил:
– Слушай, туркмен, дай пару рублей доехать домой. Занавески же, чтоб им!.. И придумает же: занавески! И праздников вроде бы нету, не предвидятся!.. Зачем менять, не пойму!..
– Я тоже пойду, – поднялся с табуретки и Данилов.
– Ты, парень, заходи, – предложил ему Хоменок. Данилов, надо полагать, старику понравился. – Вижу, человек ты основательный. Заходи. Можешь и один. Ничего не бери. Так, поговорить заходи. Ты вот, видишь, в пустыне жил, а я в северных, так сказать, широтах. А сын мой – близко от Китая и недалеко от Японии. Разбросала людей, разбросала судьба-злодейка!.. А страна одна была. Коммуна. Как и наш Дом. Вон, подивись теперь на него – одни глазницы, и вывеска: ищем желающих, вступайте в долю. Мать их так!.. Отчего ж, место престижное – центр... найдутся, найдутся те, кто польстится... Куда нашего брата только не забрасывало!
– А я в Прибалтике по тротуарам кирзачами потопал – будь здоров! – икнул Володька.– Вот, моя кочерга вспомнила. Спокойно посидеть с мужиками не даст. И разве она поймет нас, нет, вот вы мне скажите?
Распрощавшись, Володька и Данилов наконец вышли на улицу, а Хоменок все еще сидел за столом. Он впервые серьезно испугался, что может умереть. Ощутил всем своим нутром, что дело это неизбежное, совсем где-то близко отирается та старуха с косой, укуси ее комар. Зачем тогда, спрашивается, он гонит Володьку, зачем? Все ж подмога, наблюдение, а когда, не дай Бог, и придет твое время, откинешь копыта и будешь лежать, пока... не засмердишь. Фу-у, некрасиво и думать даже об этом, жутко... «И этот... новенький с длинным носом, пусть заходит. А по носам мы с ним так и вообще родственники... Туркмен, как Володька сказал. Без таких парней мне сегодня никак... А Володька хороший человек, характер сердечный имеет, только живет как-то кувырком...»








