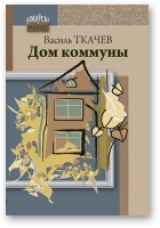
Текст книги "Дом коммуны"
Автор книги: Василь Ткачев
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Данилов появился в городе перед самым Чернобылем, но было такое впечатление, что жил он здесь всегда. Приехал из Ашхабада, где служил в армии, в солдатской газете. Приехал нащупать почву, чтобы вернуться домой насовсем. Белорус до мозга костей, он не мог в Каракумах: снились чуть ли не каждую ночь березки. Пешком потопал бы в родные места. Сыновей, а их у него двое, привез к родителям в деревню на все лето, чтобы отдохнули от изнуряющей жары и зноя, а сам собирался лететь обратно, чтобы потом, перед школой, вернуться за детьми. Получилось – как получилось. В Минске поэт-земляк и редактор литературно-художественного журнала Анатоль Гречаников посоветовал возвращаться домой. Насовсем. «Все равно это когда-то надо будет делать. Лучше – раньше. Послушай меня и устраивайся на Сельмаш в газету, там у меня друг генералом... без жилья не останешься. Помогу. Но покажи, что ты достоин квартиры, чтобы мне стыдно потом не было. Не подведи, одним словом. Ну, давай, давай, землячок, решайся!.. Вдохни-выдохни!..»
Вот тогда и подвернулся под руку Володька. «На Сельмаш? Нет проблем! Да мы с Колей Гулевичем вместе в районке начинали, я еще показывал ему, зеленому, как перо держать. Пусть не послушается! А? Но ты посиди здесь, а я нырну, один на один покешкаю. Да, это ж я изобрел выражение, чтоб знал: под лежачее перо гонорар не течет... Запомни! Вернусь – повторишь!..» Через короткое время Володька появился на улице, где его ждал Данилов, приказал бодрым и окрыленным голосом:
– Вас ждут, сударь! – и артистично подался вперед, сделал жест рукой. – Пожалуйста! А я пока пивком побалуюсь. Ты, землячок, дай мне на пивко. Родина своих героев не забудет! Почтит и воздаст!..
В тот день они больше не встретились. Сделал Володька свое, козырнул – и был таков. Редактору же многотиражки сельмашевцев Николаю Гулевичу, как потом выяснилось, наговорил много комплиментов. Данилову даже довелось краснеть перед ним. Перестарался Володька. Одна тоненькая книжечка рассказов на счету Данилова, это так. А все остальное – фантазии Володьки, как говорится, от искреннего желания посодействовать: чтобы сделать человеку хорошее. Тем более что гость из солнечной республики выделит на эти цели пятерочку-другую; от него не убавится, а Володьке для поддержания бодрости духа обязательно нужная вещь. Это позже Данилов узнает, что деньги Володьке всегда были необходимы позарез. Хотя, кому они оттягивали карман? Только другим – много нужно и сразу, а Володька обходится пятерками, трояками, рублями. Пиво дешевое. На кружку хватит. Жил – как будто под капельницей: кап, кап, кап... Не капает – нет настроения…
Гулевич одногодок Данилова, невысокого роста, светловолосый, склонный к полноте, принял гостя тогда довольно сдержанно, даже настороженно.
Он дал ему задание «на засыпку». «Справится – возьму». Хотя уже то, что его привел Володька, настораживало: самого Володьку еще бы подумал, взять или нет, а тут он уже, вишь ты, и протеже устраивает. Были причины так относиться к нему, хотя действительно когда-то работали вместе в районке, в том же Черске, но опять же, еще неизвестно, кто кого учил держать перо в руках.
А задание Данилов получил следующее: сделать интервью с главным диспетчером объединения, выяснить, почему отстает гигант. Поскольку Данилов, плюс ко всему, пишет еще и рассказы для детей, то человек он откровенный и непосредственный, даже наивный, что и понравилось Матвею Борисовичу Шуру, к которому направил его Гулевич. Тот выслушал его, улыбнулся и откровенно заметил: «Помогу тебе устроиться на работу. Если только за этим дело. Записывай». И продиктовал. Данилову оставалось только красиво подать текст, что он и сделал. И хорошо сделал!..
– Пиши заявление, – прочитав материал, предложил Гулевич.
Однако позже, когда Данилова стали приглашать на работу в Минск и в местную областную газету, высказывался против. Ему и самому, кстати, не раз предлагали занять более высокие должности, но Гулевич каждый раз отказывался: на одном месте и камень обрастает, если знать хотите. Поспорь тут!..
Данилова же все равно понесло дальше, словно по бурному течению реки... И, прежде чем пожаловал, по выражению Володьки, к легендарному человеку, к Хоменку, он прожил здесь уже хороший десяток лет и сто раз, не меньше, проходил возле Дома коммуны. Бывал и внутри – точнее сказать, вон в том аппендиксе, что напоминает гнездо ласточки, которое прилепилось на последним этаже и немного нависало над улицей этаким козырьком, отчего складывалось впечатление, будто приросло то гнездо к зданию. Как чага к березе. В той комнатке была мастерская художника Владимира Бобровского. Поскольку в последнее время они работали вместе в областной газете, то художник иной раз приглашал Данилова к себе в гости. Там мужчины брали стопку, говорили про житье-бытье. Мечтали, что запросто затиснут под ремень разных там Шагалов и Ващенок, а газетчики выдадут гору таких рецензий, от которых ахнут не только ненасытные читатели, но и начальники областного масштаба. Держитесь!
Иногда здесь, в мастерской Бобровского, подолгу отходил от запоя режиссер Герд Плещеницкий, которого направили на работу в местный драматический театр и, надо сказать, выделили комнатку в обычной квартире на старом аэродроме, в так называемой Китайской стене. Там жили актерские семьи, и режиссеру неудобно было показываться в неприглядном виде им на глаза. А здесь, в Доме коммуны, высоко и далеко – никто не увидит, неудобно было лишь то, что туалет на весь этаж один, и когда надо было топать по нужде, то Герд Плещеницкий не знал, куда спрятать помятое и тусклое, как старый уличный фонарь, лицо. А потом перестал смущаться, плюнул на все и смело вышагивал, насвистывая: человек такое существо, которое привыкнет к чему хочешь. Нередко острил с обитателями Дома коммуны, они почти всегда толклись в длинном и скрипучем коридоре. Другой раз шутки были совсем не к месту, навязчивыми, и тогда люди просто изумленно переглядывались, пожимали плечами, провожая взглядами Герда Плещеницкого: дескать, и что ему надо? Ну, перебрал, так иди, куда идешь, своей дорогой.
А потом случилась беда: неожиданно умер художник Бобровский, молодой, красивый, это вызвало у каждого, кто его знал, недоумение: как же так, отчего ж Господь так несправедливо поступил с этим добрейшим человеком, у которого была впереди вся жизнь и неплохая карьера? Бобровский страдал от бронхиальной астмы, она у него имела неаллергическую форму, поэтому болезнь он ухитрялся прятать от досужего глаза.
Мастерскую же передали другому художнику, Антону Жигале, а Герд Плещеницкий нашел себе девушку, которая пела в камерном хоре филармонии и готовилась к отъезду на Землю обетованную. Пока то да се, вскоре по тротуару топал, держась за мамину ручку, маленький Герд Плещеницкий – ну вылитый режиссер, подобрал все крошки. Первый раз, когда Данилов встретил их вместе, мать и сына, даже испугался: за что, за какие грехи природа так жестоко обошлась с Гердом – взяла да уменьшила его до неимоверно маленьких размеров? Стал тот обычным лилипутом. Низеньким и толстеньким, с рыжими лохматыми волосами и постоянной улыбкой. Данилов даже ждал, что малыш бросится ему навстречу, широко раскинув руки, – и скажет, как когда-то отец при встрече, заключив в объятия: «Старик! Ты – гений! Ты сотворил хорошую пьесу! Отличную! Я таких не встречал! Да-да!.. Нормальная пьеса, иногда даже очень неплохая на тему «Вот и встретились два одиночества, развели у дороги костер». Ну и так далее. Приметы, детали, диалоги – очень даже неплохие! Буду ставить!» Это означало, что Данилову, который начал писать пьесы, надо было раскошеливаться на бутылку водки. Герд Плещеницкий выпьет, а потом расскажет о себе, про свою никудышную судьбу, погрозит кулаком минскому поэту Мирославскому, который увел, если верить, его законную жену. «Если б знал, так не устраивал бы ее в Дом литератора. Это Вольский все: давай ко мне, хорошие деньги получать будет... Тьфу!»
Данилов тогда никак не мог понять, как это поэт Мирославский, которого он также видел не единожды, будучи по сравнению с молодым здоровым Гердом Плещеницким – кровь с молоком, вы же гляньте на него! – не богатырем вовсе, к тому же намного старше, завоевал сердце Таньки. Загадка без отгадок. Потом он понял: женщине нужен был тыл. А режиссер такого тыла ей не мог обеспечить. Все, что зарабатывалось, прогуливалось, а басни можно было слушать до поры до времени.
Когда в театре намечалась премьера, Герд Плещеницкий стремился показать свой очередной шедевр многим, приглашал на спектакль своих верных и надежных зрителей, для чего подолгу висел на телефоне и потом при встрече раздавал пригласительные открытки. После спектакля, как только опускался занавес и затихали овации, зачастую искусственные – чтобы не обидеть, а поддержать того, кто пригласил, – Герд Плещеницкий подходил к группе своих приглашенных театралов. Глаза светились у него, как у ребенка, который сорвал с новогодней елки самую красивую игрушку:
– Ну, как?
В ответ следовало:
– Здорово! Прекрасно!.. Гениально!..
Данилов мечтал, что когда-то будет премьера спектакля и по его пьесе, только не знал, как заставить кого-нибудь из режиссеров прочесть хоть одну его пьесу.
Из всех постановок Герда Плещеницкого наиболее запомнилась ему «Ладья отчаяния» по повести Владимира Короткевича, инсценировку которой тот сам и сделал. Особенно Смерть с лампой, которая ходила по залу, а потом сказала: «Под нами – Рогачев!» И бросила взгляд куда-то ввысь, под потолок. Что означало: она находится на том свете. А исполнительница главной роли Людмила Корхова-Лавринович (в то время еще не народная, конечно) напомнила всем женщинам, сидящим в зале, чтобы не жалели они, дурехи, того, что дано им для любви, услады и продолжения рода…
Обо всем этом думал Данилов, сидя у Хоменка. Герд Плещеницкий напомнил ему Володьку. И когда они выходили на улицу, Данилов еще раз посмотрел на ту комнатку, где была мастерская художника Бобровского и где сейчас ветер бешено хлестал и хлестал куском оторванных обоев по стене...
Раздел 7. Дневник Павловского
Ну, и кто б мог предвидеть, что этот тихий и неприметный рыжий деревенский ученик местной десятилетки станет таким известным в городе человеком!.. И совсем не потому, что получит профессию инженера-строителя и построит нечто такое, от чего все ахнут, а совсем по другой причине – станет настоящим, истинным следопытом. С ним посчитают за честь советоваться даже специалисты, а он, не имея никаких ученых званий, будет лучше других рассказывать про Кирилла Туровского. Это он смело заявит:
– Под нами еще один город...
Неужели? Проверить тяжело, поверить – можно, и особенно ему, Александру Павловскому. Все чаще и чаще начали видеть его в Славянской библиотеке, которая совсем недавно начала работать в бывшем Доме политпросвещения. Появилась эта библиотека, кстати, единственная, на постсоветском пространстве, стараниями Валентина Сельцова. Здесь выписывают много периодических изданий из славянских стран, и хотя библиотека не пользуется широким спросом, одним из заядлых ее посетителей стал Павловский. Он что-то строит в городе, что – никто точно не знает. А вот о другом каким-то образом слышали: подолгу Павловский не задерживался ни на одном месте – конфликтовал с начальством. Причин для таких конфликтов могло быть несколько, и в первую очередь: приписки, подтасовки, мертвые души – классический набор... Поэтому, когда он выступал против всего этого, ему намекали поискать другое место работы. Как ни странно, находил. Потом делать это становилось все труднее и труднее, и в самый последний момент он обратился за помощью к Сельцову. Сказать, чтоб дружили, – не скажешь, но в кабинет к председателю областного Совета депутатов (в областной вертикали это был второй человек, первый – председатель облисполкома, как известно) мог зайти в любое время, когда его хозяин не был занят срочным и важным делом. Вот и тогда забежал, когда в очередной раз остался без куска хлеба. Сельцов помог ему устроиться прорабом в строительную организацию, которая приступала к реконструкции телерадиоцентра. Вскоре его там только и видели. Он, подвижный, энергичный, летал по этажам, как птица. А вернувшись домой, ужинал и садился к столу, и все, что за день видел и что наиболее его заинтересовало, помечал в общей тетради. Так получился дневник. Иной раз он и сам его с интересом перелистывал, и тогда оживали перед глазами люди, события... А совсем недавно он сделал в тетради запись о подземелье...
Павловский был благодарен Сельцову, что тот помог ему стать прорабом на реконструкции телерадиоцентра. Ему, как считал сам, весьма повезло, что получилсь все так, а не иначе. Павловский еще раз припомнил тогда свой жизненный принцип, которого придерживается последовательно и спокойно: «Что не делается, все к лучшему!» Пока этот принцип действовал безукоризненно.
...Запись первая. Для строительства нового здания телевидения подготовили стройплощадку. Снесли трухлявый дом и собрались срубить или просто выкорчевать высокий и еще крепкий дуб, который, по словам людей, как-то незаметно и быстро вытянулся прямо под телевышкой. Желающих заработать на продаже дармовой древесины долго искать не пришлось, и работники «Зеленстроя» только собрались расправиться с приговоренным к уничтожению дереву, как порвалась одна цепь в бензопиле, вторая разлетелась вчистую. Оказалось, что дерево нашпиговано железными осколками времен войны... Так, оставив неукрощенное дерево, бойцы зеленого фронта исчезли, удовлетворенные лишь тем, что нагрузили полный тракторный прицеп хворостом. «Загоним в Прудке на топливо!» – подвел итоги трудового дня бригадир.
Я подошел к дереву и посмотрел на распил ствола – ровно пятьдесят лет назад дерево имело черные годовые кольца. Три черных года были отражены в летописи жизни многострадального дерева. Три года дуб стоял, опаленный войной, и практически погиб – засох. Я заметил в стволе дерева вросшую в мезгу проволоку квадратного сечения, точно – не отечественного производства. Упругая сталь, возможно, крупповского немецкого производства. Кому понадобилось обматывать такой проволокой дерево? Зачем? И здесь я подумал: это же, наверное, была виселица? Во время оккупации. Немцы любили (вишь, какое слово использовал по отношению к дьяволам!) вешать людей на упругих стальных прутах по несколько человек сразу и получали удовольствие глядя, как горемыки, умирая, мучились. От бывших узников концлагерей я слышал про это, и еще они говорили, что агонии в таких случаях продолжались до получаса.
Назавтра строители пригнали бульдозер, начали ровнять площадку и выкорчевывать высокий пень. Позже, посетив выкопанный котлован, я заметил, что здесь работы не ведутся. Отчего, что случилась? Сторож объяснил: «Как только начали выкорчевывать экскаватором пень, ковш сразу зачерпнул столько костей, что все ужаснулись!.. Где те кости? А увезли куда-то, мне не доложили. Сказали только: стой тут и никого не подпускай. Вот и стою». Не тех ли повешенных эти кости? Я представил ту жуткую картину, и по спине пробежал озноб: страшно! Наверно, здесь, под деревом, они и копали для себя могилу. Вот, оказывается, какую тайну хранил израненный, обезображенный дуб. Почему-то сразу вспомнился Пушкин: «... У лукоморья дуб зеленый; златая цепь на дубе том; и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом».
Но это же – не сказка... Это жуткая правда войны, и у нее совсем другие летописцы, в том числе и это дерево – дуб.
Дуб стоял на взгорке между двух яров. Здание телецентра возвели после войны, срезали площадку меж тех двух яров, а сам пригорок остался нетронутым. Дуб в мирные дни ожил, зазеленел, возможно, потому, что люди, которые навечно уснули около его корней, вселили в него свои жизненные силы, и может быть, листочки, проклюнувшиеся на дереве, смотрели на белый свет глазами тех бедных людей?
На противоположном берегу оврага – там, где сейчас цирк, находилась площадка, на которой удерживались пленные советские воины. Немцы, чтобы сломить их волю, демонстрировали принародно перед пленными свою звериную сущность – вешали на дубе коммунистов и офицеров, которых, надо полагать, выдавали предатели, находившиеся среди пленных.
Такая вот судьба у этих людей: мало, что погибли в ужасных, нечеловеческих страданиях, так и кости их не нашли покоя...
Прошло время, для строительных нужд необходимо было проложить кабель, и рабочие, копая, обнаружили в земле угол какого-то кирпичного строения, толщина стен – полтора метра. Были найдены остатки сгоревших предметов интерьера – немецкий рояль (как оценил специалист, преподаватель музыки: весьма редкой работы), медицинские весы, кровать с двойными пружинами (по тому времени – очень мягкая), кровать обычная, с металлической сеткой, шамотный камень с выработанным углублением от плавки, телефон 28-го года с надписью: «Сормовский завод имени тов. Ленина». Все это наводило на мысль: за такими стенами, да еще в углу, можно было надежно спрятаться от бомбежек. Да и мебель мягкая – не для военной обстановки, весы, шамотный камень... Скорее всего, дело было так... И я постепенно начал подкреплять свои догадки фактами. Шамотный камень с выработкой – это от расплавленных золотых зубов и коронок, вырванных у военнопленных, и не только, наверно, у них... Рояль – это именно та вещь, которая служила извергу. Возможно, после казни узников, он слушал классическую музыку. Наверное, Вагнера, Баха, Верди... И других. Композиторы не виноваты, что их музыку слушают и изверги.
Весы – чтобы взвешивать золото с педантичной немецкой точностью для отчета.
Кровать мягкая – чтобы хорошо выспаться, кровать твердая – для наложниц, или, может, для любовниц; хотя любовницы – это все же женщины, вступающие в связь добровольно...
Телефон – партийный, заметьте, для того, чтобы вызывать из концлагеря коммунистов по их же партийному телефону – с именем Ленина.
Видимо, здесь находились апартаменты начальника концлагеря и службы охраны. Надо полагать, что поскольку золотые коронки плавил лично начальник охраны лагеря (абверкоманды), никому этого не доверяя, то он сам и выбивал табурет из-под ног своих жертв...
По национальности он был немец, с классическим музыкальным образованием, имел свой дом в Германии, и оттуда ему прислали мебель для кабинета (жилая комната). Восьмидесятилетний, он приехал, я почему-то верю в это, в первые годы перестройки, если, конечно, дожил до такого времени, в наш город под видом сытого и ухоженного туриста, возможно, заходил и на телевидение. Не забывайте: убийц всегда тянет на место своих преступлений. Возможно, тот кровавый турист побывал и в горисполкоме с просьбой перезахоронить на родине останки с немецких и итальянских могил, что в парке Паскевича. И это ему, извергу, мы отдали – возможно, да-да! – кости эсэсовцев, которые уничтожили сто тысяч человек в Гомельским концлагере. И даже были венки от председателя горисполкома Димитрадзе. Однако нашлись люди, которые посоветовали венки убрать, что и сделали: утром венков не увидели, ночью их куда-то выбросили. Подальше от позора, подальше!.. Как бы там ни было, но где цветы для тех, кто ежился от страха и боли в предсмертных конвульсиях на виселице, что была сооружена на том несчастном дубе? Где цветы? От нас, от всех нас?!..
И вот такая судьба: кости извергов увезли на родину, а кости их жертв внук отвез на свалку.
Точку ставить рано. Казалось бы, история с дубом, костями и откопанной жилой комнатой закончилась, как вдруг... Но обо всем по порядку. Когда сверлили землю под сваи нового здания, неожиданно на глубине пяти метров бур упал на глубину восемь метров. Все понятно: внизу была пустота. Откуда в овраге пустота? Овраг, конечно же, был засыпан. Однако весьма возможно, что немцы согнали в него многие тысячи человек, расстреляли их и засыпали землей. Глубина могильника, полагая по шурфу, – три метра. Каким образом немцы укладывали тела убитых в могильники, – возможно, кто-то и видел на кадрах кинохроники. Если учесть, что все тридцать свай провалились, то это означает, что овраг был полностью утрамбован телами убитых. Так делали они и в Киеве – использовали овраги. Помните – Бабий Яр? Жечь убитых было негде —кирпичный завод находился далеко от этого места, на улице, которая сегодня носит название Чонгарской дивизии, где детский садик и общежитие летчиков.
И вот теперь на костях построено здание, где светятся телемониторы и шумят передатчики...
В Велесовой книге говорится словами старого жреца: «Где кровь русская пролита, там и есть русская земля. Где в раны воина земля русская попала и где он взошел на небеса – там русская земля и есть». Если так, то почти вся Европа – русская, поскольку кровь советских воинов в боях пролита на полях Польши, Германии, Венгрии, Болгарии, Чехословакии...
Смотрю на телевизионную вышку, упирается она своей макушкой в небеса, плывут в облаках в рай Сворога души тех, чьи кости спокойно лежат на дне оврага. Здесь пролита кровь русская, а значит, по старинной традиции предков, здесь самая святая наша земля. И надо надеяться, что новый передающий центр, который и я строил, будет вести трансляцию в уютные и теплые квартиры моих земляков со Святой земли – в том числе и от имени тех, кто держит этот центр.
Очень бы хотелось, чтобы на этом все и закончилось.
Чтобы закончилось, конечно же, хорошо...
Запись вторая. Она появилась благодаря рассказику Журавель Л. С., бывшей преподавательницы университета имени Ф. Скорины. Я познакомился с этой женщиной около Дома коммуны, где работаю теперь на его реконструкции после радио-телецентра, а она была там просто так, проходила мимо и заинтересовалась, что теперь там делается. Когда-то, говорит, жила здесь, в детстве, а воспоминания той поры, как известно, наиболее крепко хранятся в памяти каждого человека. Одни вспоминают деревни, другие – районные городки, а она вот этот Дом, который оставил в памяти женщины много ярких впечатлений...
Вот что я услышал от нее.
Когда Дом коммуны только заселился, один его житель, Корольков, организовал театральный кружок, в который записалось много молодежи. И надо заметить, что все они были одаренными, на сцене играли не хуже, а может, порой и лучше настоящих артистов. Второй спектакль самодеятельные артисты решили показать жильцам Дома. В финале спектакля положительный герой, роль исполнял молодой рабочий вагоноремонтного завода, – Журавель за давностью не помнит его фамилии, но, говорит, был красивым парнем, с густой черной чуприной, – должен был «застрелить» врага народа, роль которого исполнял сам режиссер Корольков. Раздобыли настоящий револьвер и холостой патрон. По сценарию после того, как парень с чуприной скажет: «Получай, предатель! Ты не заслужил прощения!», он должен был нажать на курок. Раздается выстрел, Корольков падает... Так все и произошло, кроме одного, чего не предусматривал спектакль: Корольков не поднялся, и вскоре все поняли, что он действительно убит...
На том спектакль и закончился. Получилась вот что. Следователь нашел в кармане убитого записку, где тот просил в его смерти никого не винить. Корольков очень сильно влюбился в девушку, которая также жила в этом доме, а она взаимностью не отвечала, любила того парня, который исполнял роль положительного героя... Корольков, как оказалось, хотел несколько раз покончить с жизнью, однако не хватало смелости для такого рокового шага, и тогда для этой цели он подобрал пьесу и специально распределил роли таким образом, чтобы уйти из жизни на сцене, и не самоубийцей, а от руки соперника. Заменил он и патрон. Еще в той записке были следующие слова: «Любовь – это буржуазный пережиток, и от него я могу избавиться только так...»
Особенно поразили меня последние слова: «буржуазный пережиток». Тогда почему же он хотел, чтобы счастливо жили та девушка и тот парень-артист? Им можно любить, а для него – пережиток?
А где сегодня та девушка, из-за какой застрелил по сути сам себя режиссер самодеятельного театра?
Интересно бы отыскать хоть какие следы!
* * *
Дневник Павловского случайно попал на глаза Эмилю Маликовичу. Этот человек был известен тем, что создал в городе хозяйственную расчетную организацию творческих инициатив, своеобразный культурный центр, который стал серьезным конкурентом управлению культуры. Поэтому на него стали искоса поглядывать. Хотя, по большому счету, рождение таких организаций надо было бы приветствовать. Но не больно приветствовали, тем более, что знали Маликовича еще и как человека не только строптивого, но и не всегда дружившего с законам – он был осужден за какие-то махинации. Человек, одним словом, рисковый. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское!» – любил повторять Маликович. А здесь отличился еще и тем, что написал поэму «Уберите кладбище с Красной площади!», по его меркам, острую и злободневную, которую напечатал отдельной книжицей и щедро подписывал автографы своим знакомым и даже первым встречным, пожелавшим иметь его творение. Некоторые коммунисты выступили против и поэмы, и Маликовича. Однако он, казалось, не обращал внимания на насмешки и неприязнь. Маликович организовывал обычно какие-то широкомасштабные акции, привлекая для участия в них не только известных в городе людей, но даже из-за границы. На Ланге в бывшем Доме политпросвещения на четвертом этаже пробил себе офис, привез откуда-то шикарную мебель, поставил несколько телефонных аппаратов – все как у настоящего руководителя. У него и правда все крутилось и вертелось – позавидуешь! Вот так, он считал, надо было работать и всем. Хотя бы через одного. Если верить Маликовичу, ему же старались подставить подножку при самом удобном случае. Чтобы грохнулся и набил шишек. Однако его остановить, казалось, ничто не могло – разгон взял Эмиль Маликович хороший и мог запросто козырнуть первому встречному мечтателю-завистнику: а вот он и я, салют! Однако у многих складывалось впечатление, что долго ему работать не дадут. Слишком уж стремится себя показать, много шумовых эффектов от его работы, непростительно такое в наше время. Остановят. Тем более, что начал строить торговую лавку напротив Дома коммуны – как раз в том помещении были железнодорожные кассы, вот и решил пристроиться к ним, чтобы сэкономить на одной стене. Собирался торговать пивом.
Эмиль, заметивший дневник в руках Павловского, как лицо творческое и инициативное, пожелал просто полистать...
– Пожалуйста, – протянул дневник Павловский. – Недавно начал...
– Я мельком! Не секрет?
– Да нет, кажется...
– Тогда хорошо!
Полистал и вернул. Вернул почти сразу, как-то прохладно и безразлично, будто ничего хорошего в этом дневнике не увидел, даже зевнул, а потом безразлично посмотрел куда-то мимо самого Павловского и молча исчез. Даже не попрощался. А на следующий день Маликович позвонил хозяину дневника, выдержал паузу и предложил:
– Приходи завтра к Дому коммуны. Я буду там. Сможешь?
– Смогу, конечно, – пообещал Павловский.
Они договорились, во сколько встретятся, и одновременно положили телефонные трубки.
Раздел 8. Торшер
Володька без приключений не может. Но никуда не денешься – так складывается его жизнь. Задумает сделать так, получается иначе. Вот и на этот раз. Не успел он потянуть на себя дверь гастронома, а его соседка, досужая и болтливая старушка Настя, интересуется:
– Так ты что, корреспондент, отъезжаешь куда?
Тот не придал значения этому вопросу – у него часто бывает, что отъезжает: то в один район, то в другой, то в третий. А то и по городу носится. Сам же острит нередко: «Волка ноги кормят». Работа такая. Однако женщина не отступила, она догадалась, что Володька так ничего и не понял, поэтому переспросила:
– Не едешь, значит?
– Нет. С чего взяла-то?
– А куда же вещи Нинка твоя загружает? С какой целью? Я думала, ты знаешь. Подогнала грузовик – и таскает вместе с какими-то мужиками. Так ты что, не в курсе? А как же?.. – И женщина, казалось, проглотила язык: Володька, не дослушав ее, ловко развернулся на одном каблуке, как гусеничный трактор на кругу, и побежал – да, да, побежал! – от гастронома, хоть и не забыл, зачем приходил. «Данилыч, некогда нам партию обмывать-воскрешать! Подожди, Данилыч! Тут своя партия отваливает куда-то!..»
Соседка не врала. Около подъезда стоял бортовой «ЗиЛ», а на нем Володька увидел действительно все свои знакомые вещи: телевизор «Горизонт», холодильник «Минск», радиолу «Сириус», которую подарили ему – ему, Нинка, ты слышишь?! – коллеги по работе, когда приходили на новоселье. Еще, может, не так и злость обуяла бы его, но позариться и на радиолу!.. Ну, это уж извините!.. Это – слишком!... Всякого нахальства повидал на своем веку Володька, а чтобы подгребать без всякого суда и следствия вещи, в том числе и те, что подарены были лично ему!.. Руки прочь от чужих вещей, Нинка! Да и додуматься же: втихую, ни слова не говоря. Утром виделись же, и переезжает. Вчера, правда, вечером, сказала ему: «Опротивел ты мне, Володька». И – все, больше ни слова. А нет, чтобы признаться: «Я нашла себе другого, перехожу жить к нему. Извини, не такой мне нужен мужчина, как ты. Не такой...Ты не устраиваешь меня». Ну, тогда – пожалуйста. Свобода выбора.
Да и что это за мужчины пошли такие, что бросаются на Нинку? Что в ней такого, чтобы польститься?.. Я, может, еще и перекрещусь... порадуюсь, может... Хотя – стоп! Вот и она, принцесса, торшер тянет. Торшер? Ну, елки-палки! Так и есть! Торшер! Так это же он покупал его за гонорар. Такого нахальства Володька еще не видал, поэтому не стал возражать Нинке, а просто выхватил у нее торшер и, прыгнув в кузов, начал оприходовать, широко размахивая им, все, что попадалось под горячую руку. Досталось телевизору, холодильнику. Не промахнулся, когда взял на мушку и шкаф, хоть тот стоял и далековато – впритык к кабине.
– Не дам оголять очаг!.. Не позволю!..
Жена вдруг завизжала:
– Люди-и! Мальчики-и!
Люди не услышали – услышали только мальчики, а это, как оказалось, были те самые мужчины, которые выносили из квартиры нажитое Володькой вместе с Нинкой богатство. Но у нее же оклад – пшик, что ее здесь имеется в чистом виде? Покажите ему пальцем! Ткните! Володьку это особенно заводило, и не будь мужчин, то наломал бы дров. Но что же делает Нинка, холера? Звонит в милицию, чтобы уняли дебошира, там не долго думали – прилетели за очередной жертвой семейного конфликта и отвезли в вытрезвитель, хоть он сегодня даже ничего не понюхал. Безобразие, а!.. Да и остыл уже. Сидел на скамейке около подъезда и плакал. Видать, посчитали, что так махать торшером может только нетрезвый человек. В вытрезвителе оказались знакомые люди, а капитан Гусев, который раньше был вторым секретарем обкома комсомола, даже пожал ему руку и поинтересовался, как дела. Чтобы рассказать про те дела, Володька потопал за ним в кабинет, сел на мягкий стул, забулькал из графина в стакан, и когда выпил одним махом воду, произнес, не глядя в глаза капитану:








