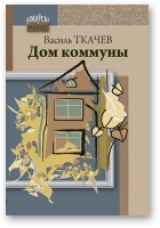
Текст книги "Дом коммуны"
Автор книги: Василь Ткачев
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Так вот, раздавались не только звонки, люди засыпали письмами редакции и сам горисполком. Выход был один – собрать пресс-конференцию и расставить все точки над «і».
Пресс-конференция запланирована на сегодня, и об этом ему, Бубнову, напомнил помощник. Мэр сразу же как-то ужаснулся: так вот, оказывается, почему снился Дом коммуны!.. Надо наконец и людям правду сказать, и самому стряхнуть с плеч этот груз, который уже давно не дает покоя, тогда, понятное дело, станет полегче. Всегда, заметил, так: что-то носишь на сердце, чересчур волнуешься, тревожишься, ведь бывает, что и неприятно иной раз сделать тот или иной шаг, а сделаешь его, преодолеешь ту невидимую преграду, и на душе посветлеет, радостно станет. И тогда лишь укоряешь себя: ну, и зачем медлил, тянул? Только портил нервные клетки, и не более того. А вот когда очистишь душу, столкнешь тот камень, что жизни мешал, словно валун с горы, тогда и самому легко и приятно.
Пресс-конференция началась почти без вступления. Напомнив, что Дом и действительно дался ему, Бубнову, в печенки, он попросил, чтобы задавали вопросы, и тогда они, работники горисполкома, вместе с ним, мэром, конечно же, постараются дать на них исчерпывающие ответы.
Вопросы были самые разные. Работников средств массовой информации интересовало, почему приняли решение выселить людей и поставить Дом коммуны на капитальный ремонт, что тому посодействовало, кто этим занимается и отчего после оживления опять наступило на объекте затишье?
Бубнов думал переложить основной груз на своих подчиненных, однако получилось так, что почти на все вопросы пришлось отвечать ему одному, и только когда не хватало у него какой-то информации, поглядывал на того или другого своего заместителя, и тут же получал необходимые сведения.
Вырисовывалась следующая картина. В начале девяностых годов специалистам, а не только жильцам, стало понятно, что жить в Доме коммуны вскоре будет совсем невозможно – постепенно он приходил в непригодное состояние. Необходима реконструкция, ведь сносить здания, которые представляют собой историко-культурную ценность и если даже они находятся в плохом техническом состоянии, нельзя: запрещают делать это, в частности, международные нормативные документы и соответствующий закон Республики Беларусь. А государственных средств на реконструкцию не имелось, поэтому было принято решение продать Дом коммуны на аукционе. За полмиллиарда рублей, таким образом, его приобрел один коммерческий банк. Какой конкретно – не называется, нельзя: по желанию участников аукциона предусматривается такой пункт, согласно которому выигравшие аукцион могут оставаться неназванными. Банк, кстати, обязался не нарушать архитектуру здания и имел намерение после соответствующих реконструкционных работ открыть здесь гостиницу высшего разряда, ресторан и разместить свой офис. Однако банк не осилил намеченное и перепродал здание другой коммерческой структуре. Те задумали перепрофилировать его на свой манер: на первом этаже – ресторан, торговые точки, на оставшихся – помещения под офисы фирм, гостиница и в крайних подъездах – жилье повышенной комфортности. Здесь же, на территории Дома коммуны, построить подземные гаражи.
Однако фирма не спешила все это претворять в жизнь. Она даже не зарегистрировала необходимые документы в комитете по охране историко-культурного наследия. Горисполком присылал официальные бумаги на адрес фирмы с напоминаниями, что данные ими обязательства не выполняются, в результате чего, согласно выводам технического обследования учеными и специалистами, здание подвергается дальнейшему пагубному воздействию на него атмосферных осадков, ветров и представляет собой опасность как для людей, так и для окружающей среды, и если не будут приняты надлежащие меры, то на повестку дня встанет вопрос о возвращении здания в коммунальную собственность. Дело дошло до хозяйственного суда, и договор купли-продажи был отменен. Теперь там работают строители, но не на должном уровне. Есть на то объективные причины, и в первую очередь – отсутствие желающих жить в этом Доме, людей, одним словом, с большими деньгами. А такие должны найтись, они будут! И тогда Дом коммуны оживет, засветится окнами. А пока от него, по сути, остались только стены, которые соответствующим образом укреплены. Все же остальное демонтировано, поскольку перекрытия были деревянными. Реконструкция же – вещь весьма дорогая, один квадратный метр жилья стоит, к примеру, дороже, чем в новом доме. А оно будет не таким, как раньше – не из ячеек по две-три комнаты, а повышенной комфортности, в двух уровнях, с большими коридорами. Шик!
– Надеемся, – подчеркнул Бубнов, – что найдем все же инвесторов, готовых вложить свои деньги или под офисы, или под жилье. По крайней мере, к нам уже поступили предложения от нескольких организаций на строительство восьми квартир. И это, считаем, только начало...
Аплодисментов не было, но, как показалось мэру, все остались удовлетворены услышанным. Уже прощаясь, Василий Леонидович попросил журналистов, чтобы те так и написали, как услышали, ничего не дополняя и не сокращая. Он, дескать, и так говорил вкратце и конкретно!..
Отчеты, напечатанные на следующий день, сыграли и рекламную роль – начали звонить заинтересованные люди, и не только из организаций и заведений...
Это окрыляло Бубнова. Наконец, возможно, он уже передаст в надежные руки Дом коммуны.
...Возвращаясь домой, мэр увидел, как во дворе его дома один мужчина шел напрямик через зеленый лужок и вдруг натолкнулся на аккуратненькую фанерку на деревянной ножке, что была воткнута прямо перед ним на ранее протоптанной тропинке: «Здесь ходят дураки!» Мужчина резко остановился, оторопев, застыл на месте, словно окаменел, а потом покрутил головой по сторонам, встретился взглядом с Бубновым, заулыбался и, как бы извинясь, пошагал назад, словно тот аист на болоте, высоко переставляя ноги.
Улыбнулся и он. Уже и как мэр, и как автор этой идеи.
Мелочь, как тот говорил, а приятно!..
Раздел 25. Ты – не один
Сымон бежал и бежал, не совсем понимая, куда. Он прятался от людей, что пришли в дом, начали кричать на родителей, толкать отца, который что-то сказал против их воли, и тем, как выяснилось, не понравилось это. Кроме всего, отец отмахнулся, ведь человек он сильный, даже богатырь в его детских глазах, и те двое с винтовками сначала полетели навзничь на пол, а затем накинулись на него снова, повисли на нем, свалили все же на землю, начали пинать отца ногами. Мать заголосила, и на нее, все еще изливая злобу на отца, цыкнул один из тех двух, что пожаловали к ним в дом и затеяли эту потасовку:
– А ты замолчи, курва!..
Отец, уловив момент, отыскал все же глазами Сымона, который, казалось, совсем растерялся и не знал, что ему делать: забился за печь, трепеща от страха и всхлипывая, и крикнул тому:
– Беги, сын! Беги!..
И вот он убегает... Но сколько же можно? Хотя убегающему от людей с карабинами не было еще и десяти лет, совсем пацаненок, он сообразил, что дальше бежать нет смысла – дальше уже чужая деревня, а здесь, за его спиной, – своя; там остались мама, папа. Его старшие братья, Константин и Женька, где-то в поле, а то бы заступились, не позволили пинать папу ногами и ругаться на маму.
Сымон остановился, отдышался и решил спрятаться в кустах. Если те люди заставляют папу и маму собираться, значит, они погонят их куда-то далеко, а дорога на большак только эта, и тогда он обязательно увидит их. Так и произошло. Вскоре на дороге затарахтела подвода, и мальчик узнал своего коня Ежика, а вскоре увидел на возу родителей. Впереди ехали на такой же подводе и те двое с карабинами. Один из них повернулся и гаркнул на отца, который держал в руках вожжи:
– Подгоняй свою клячу, кулацкая морда!..
Отец слегка шлепнул вожжой по спине Ежика, и тот закопытил чуть быстрее.
Для Сымона началось сиротское детство. Константина и Женю власти позже также отловили где-то в лесу и отправили вслед за родителями, которые, выяснится потом, их ждали в районном центре, а его спрятали родственники в соседней деревушке, хотя, возможно, и напрасно: все же им даже и в той Сибири нужно было жить вместе – одной семьей. Семьей все же, наверно, полегче было бы всем, неважно где – там или здесь. Однако не кто другой, а папа сказал ему: «Беги, сынок!..» А он всегда привык его слушаться, ведь послушание у них, Куреньковых, было в крови издавна, заложено в генах, потому и жили они лучше, чем другие. Так и трудились ведь куда как больше, кто этого не знает! Видеть-то оно видели все, знать знали, однако ж черная зависть кое-кому не давала покоя.
Ну, а дальше произошло следующее. Сымон помешался, а поскольку он был хорошим помощником тете и дяде по хозяйству, они, приютив его, и не думали куда-нибудь сдавать мальчика на государственные харчи. А позже так и совсем все удачно сложилось. Сымон приспособился бегать в ближайшие деревни за подаянием, примчится в хату, что-то тараторит невнятное, люди же видят, что больной перед ними, жалеют – обязательно что-то подадут, последним поделятся. Вскоре его знали во всей окрестности и звали не иначе, как «Семка из Дорогунска». Когда прибегал – именно прибегал, а не приходил, ведь он как-то вприпрыжку как появлялся в той или другой деревне, так и исчезал, – зимой люди приглашали беднягу погреться, выпить горячего чаю или чего-нибудь съесть, хотя еды тогда было не шибко и у них самих. А уже на обратной дороге, с полной полотняной торбой, Сымона, как правило, атаковали собаки, бешено лаяли, и подросток принимал это за обычную игру, считал, видно, что те, глупенькие, хотят отнять у него торбу с подаянием, поэтому прижимал ее посильнее к себе, а на собак бранился, но не злобно – просто что-то говорил им: скорее всего, советовал возвращаться домой, а есть он и сам хочет, ничего, дескать, у меня не получите. А коль уж так сильно хотите есть, то просите у своих хозяев. «У них есть: мне ж дали...»
Собаки, поджав хвосты, возвращались обратно в свою деревню, а Сымон, подпрыгивая от счастья, – в свою...
Как раз во время одного из таких возвращений после посещения хат в одной соседней деревушке он и встретил на дороге старика Грицко и Егорку. Сымон впервые увидел тогда коляску на деревянных колесиках, она показалась ему игрушкой, не более, и он, не спросив разрешения, положил в коляску свою торбу, а мальчишку перед этим взял и бережно поставил на землю.
– Не тронь, он болеет, – с хрипотцой в голосе сказал Грицко.
Сымону было все равно, больной или нет, и он покатил перед собой коляску, подскакивая то на одной ноге, то на другой, что-то лепеча и смеясь:
– А-а-а га-га-а-а!.. Куда, курва-а!.. Шевелись, кулацкая морда-а!.. А-а-а га-га-а-а!..
А наигравшись, вернулся назад, также трусцой, поставил коляску перед Грицко, забрал свою торбу, а на то место, где она лежала, опять усадил мальчика.
–А-а-а, га-га-а-а!..
Он, Сымон, и привел старика Грицко и Егорку к своему подворью. Старик не пошел в Гуту, как наказывал ему еврей Мордух Смолкин, к Якову Тарасову, поскольку совсем уже обессилел, еле теплилась в нем жизнь. А через неделю она и вовсе угасла в нем – Грицко умер, на погосте плакал только один Егорка, да изредка хлюпала носом тетя Андреиха, и украинский мальчик остался у этих людей. Куда ж было девать его, Егора? Пускай уж вместе с Сымоном будет, что один рот, что два – разве ж большая разница? А то еще отправят его, посчитали жалостливые белорусы, назад в Украину, где – голод... Нет, пускай живет здесь. Пускай будет приемным сыном. Надо было видеть, как радовался Сымон, что у него появился братик! И, что интересно, ни единого раза не потянул его с собой в соседние деревни, куда бегал, пока не подрос, по-прежнему охотно.
В отличие от Сымона, Егор учился в школе, и учился хорошо, а тот только листал его тетрадки и учебники, бормотал:
– А-а-а, га-га-а-а!..
Однако же прежде чем пойти Егорке в школу, надо было записать его в сельском Совете, чтобы там выдали метрику, а у парня не имелось даже фамилии. Дядька Андрей был категорически против, чтобы и у Егорки была фамилия Куреньков. «Запятнана ведь... Кулаки... Вспомнят когда-нибудь в самый неудобный момент, и попадет парень по нашей вине в немилость...» Поэтому над фамилией для Егора думали, почитай, никак всей деревней, и приняли, в конце концов, предложение деда Мартына, который, подкрутив свои обкуренные рыжие усы, сказал примерно так:
– Не было у мальца доли, а теперь есть. То пускай будет Недолей. Как память о старом, об ушедшем. Недоля. А? Хорошая фамилия, ничего не скажешь!.. И мы, белорусы, не в обиде будем, и друзья-украинцы – также: вот ваш Недоля, ежели что... Живой, сбереженный, значит...
Так Егорка стал носить фамилию Недоля.
В город он приехал сразу после семилетки, решил поступить в какое-нибудь ремесленное училище. И еще была у него давняя мечта – встретить того хорошего еврея Смолкина (бумажка же, на удивление, сохранилась), если жив-здоров он, который тогда, в голод, направил его и деда Грицко к добрым людям, хотя они и попали к другим. Так судьба распорядилась. Хорошо, что его послушались, видно, от всей души советовал тот еврей, потому что сложилось потом все наилучшим образом.
Однако Смолкина Недоля так и не разыскал. Одни говорили, что он остался в эвакуации, не пожелал возвращаться, другие утверждали, будто он и вовсе умер еще до войны. Не напал на его след Недоля и тогда, когда учился в ремесленном, и после, как уже стал милиционером.
Через несколько лет после войны Сымон второй раз в своей жизни осиротел – ушли из жизни, один за другим, дядька Андрей и тетка Андреиха, и Недоля, нисколько не колеблясь, забрал Сымона к себе и устроил его в коммунальную службу – сперва тот ставил бачки с мусором на конку, а потом и на «полуторку». Сымон и в более зрелом возрасте был чрезвычайно подвижным и шустрым, делал все молниеносно, как-то с наскоку, не курил и не пил, им были довольны. Только вот деньги ходил получать Недоля, сам и расписывался в ведомости. Один раз, самый первый, заработную плату отдали на руки Сымону, и он вернулся домой без денег – отняли какие-то бродяги, еще и глаз подбили, нехристи. Когда же он, Сымон, нес деньги не в кармане, а в руке, прижимая их к груди, и всем встречным показывал их, хвалился, что и он, видите, зарабатывает, что и он не лишь бы кто!.. А тем только того и надо было – вытрясли из бедняги все до копейки, еще и тумаков надавали. Эх, люди-людишки!.. А его ж, Сымона, в прежние времена даже собаки, объединившись в стаи, не трогали, и свою полотняную торбу с подношениями сельчан он доставлял всегда аккуратно домой. А деньги, вишь ты, не получилось донести. Он, бедняга, не знал, что город – это тебе не смиренная деревушка, законы выживания здесь более жесткие, собирается много таких, кого даже село отвергло, оттолкнуло от себя, как какую-то ненужную вещь... Им здесь есть где спрятаться и полегче найти таких простаков, как Сымон.
Однако же встречаются на их пути и такие люди, как Егор Недоля.
На счастье.
Раздел 26. Свадьба
Минеров был приглашен на свадьбу. Скажи кому, на какую и куда, то обязательно нашлись бы и такие, кто лишь пожал бы плечами и удивленно посмотрел на него: не шутишь, Сергеич? Да нет, он не шутит – позвонила давеча из хосписа Катерина Ивановна, та самая Катерина Ивановна, свекровь его сестры, и пригласила. «Без вас, Павел, какая ж это будет свадьба! Обязательно приедьте, а то что ж мы здесь, одни старухи да старики, сможем!..» Надо ехать. Он, Минеров, только похоронив свою мать, понял, что при жизни уделял ей до ничтожного мало внимания – всегда как-то получалась так, что не хватало времени лишний раз навестить ее, заехать хотя бы на несколько минут, обнять, прижать к себе, а ей, матушке, большего счастья и не надо было. И служебный же транспорт всегда под рукой, не в пример другим, а он непростительно все переносил те визиты к самому родному человеку на завтра, потом – на послезавтра... и сам того не заметил, как не стало мамы, а вместе с ней оборвалась и та последняя ниточка, что связывала его с родным домом. Это нам только кажется, что мамы и папы живут вечно.
И вот теперь эта Катерина Ивановна. Чужой, казалось бы, человек, однако он решил сделать для нее приятное и поэтому пообещал быть.
В тот день спозаранку Минеров наведался в хозяйство, уладил все неотложные дела, хотя все уладить невозможно, их хватит с лихвой на всю жизнь и еще останется детям, как говорят, и несколько раз позвонил Вере, однако она почему-то на телефонные звонки не отвечала. Минеров не на шутку встревожился-разволновался, подумал, может, с малышом что, с Павлушей, и, прежде чем отправиться в Старые Дятловичи на свадьбу, решил сперва вернуться в город, удостовериться, все ли там в порядке. Однако на звонок в дверь также никто не отозвался. Он прислушался и вроде бы услышал в комнате шорох – шаги не шаги, но, казалось, там были люди. Может быть, воры? Что же делать? Предчувствуя неладное, Минеров обратился в милицию, и вскоре прибыл наряд. Старший наряда, немолодой лейтенант, козырнул и сразу поинтересовался:
– Вы звонили, простите... Павел Сергеевич, коль не изменяет память?
– Не изменяет. Я звонил.
– Ну, и что будем делать? Кстати, а чья это квартира?
Минеров соврал, хотя, если реально смотреть на вещи, то сказал истинную правду:
– Моя.
– Хорошо, тогда будем взламывать дверь?
– Давайте!
И каково же было удивление и разочарование Минерова, когда за порогом на него набросилась... Верка:
– Кто вам разрешил такое?! Вы что себе позволяете?! Что, думаете, на вас управы не найдем?!
Минеров, вчистую растерянный, только моргал ресницами и не находил, что ответить Верке в свое оправдание. Показалось, что не на шутку испугался и старший милицейского наряда, который дал команду взламывать дверь. Он только лишь искоса поглядывал на Минерова и ждал, что скажет тот. А Павел Сергеевич, стиснув зубы, предательски молчал. Он не узнавал Верку. Неужели это она, всегда такая ласковая, стала сразу мегерой! Не может быть! Здесь что-то не так! Однако же – так!.. Из-за ее спины выглядывал, стараясь угодить Минерову кивком головы, поздороваться с ним, только никак не мог подобрать момент для этого, молодой парень, отчего Павлу Сергеевичу сделалось еще больнее и как-то дурно, и ему захотелось на свежий воздух. Но прежде чем выйти, он поднял глаза на Верку, чуть слышно, спросил:
– А сын... Пашка... где?
– Где надо! – разъяренная, как никогда раньше, грубо ответила Верка и посмотрела в сторону милиционеров, они топтались в коридоре, поочередно заглядывая в прихожую, словно тем самым напоминая, что они здесь, никуда пока не ушли. – Ремонтируйте дверь!..
Старший наряда опять вопросительно посмотрел на Минерова, мол, и что вы скажете теперь, Павел Сергеевич?..
Но Минеров ничего не ответил, молча вышел, сел в «Волгу» и поехал на свадьбу. Постепенно он успокоился, и если раньше был готов избить Верку и ее жениха, то уже сейчас, трезво взвесив все «за» и «против», признал свое полное поражение, утешая себя, что такое когда-нибудь должно было произойти. Верка молодая и красивая женщина, и она, конечно же, имела право налаживать свою личную семейную жизнь, а не только услаждать Минерова. Тем более, что он никогда не обещал быть с нею рядом до конца своих дней, как пишут в любовных романах, нет, такого разговора и близко не велось, даже в минуты пылкой любовной страсти. Верка, к тому же, и неглупая женщина, понимала, что свою законную жену он никогда не оставит, ведь та наделает крику на весь белый свет, разотрет Минерова тогда в порошок. А его есть за что растереть, и Павел Сергеевич, если б и хотел перекочевать к Верке жить постоянно, никогда не сделает этого – только из-за страха быть разоблаченным женой и, не исключено, тогда и государственными органами и службами. Только дай повод. У такого человека, как он, найти можно какой хочешь компромат, чтобы потом им же и прижать его к стенке. Ведь – руководитель как-никак, все время ходит, будто по минному полю. Кому еще можно подорваться, как не Минерову, сделав неосторожный шаг влево или вправо.
У него, заметьте, даже фамилия созвучна...
Но как бы там ни было, как бы ни утешал себя Павел Сергеевич, на свадьбу он ехал не в самом лучшем настроении – скорее всего, наоборот: такого скверного самочувствия не было у него давно, по крайней мере, именно такого, вызванного и предательством Верки, и ревностью... Хотя последнее обстоятельство слегка даже успокаивало – он наконец увидел, какая она, Верка, на самом деле, что за птица, и потому у него даже отлегло малость от сердца: до чего же некрасива, омерзительна была она!..
Ну да хватит!.. Обидно только, что жена, Галина Викторовна, была права, еще как была права, и при случае она не упустит момента и обязательно с подковыркой, как это умеет делать, упрекнет его:
– А что я тебе говорила, бабник? Обула она тебя в лапти, как последнего негодяя!..
И захохочет, громко и счастливо, с укоризной поглядывая на общипанного Минерова. Он даже представил, как фыркнет на жену, поставит ее на место, но только лишь по причине, и с этим надо смириться, своей беспомощности, своей безысходности. Если человеку нечего сказать, то он обычно кричит. Известное дело.
На свадьбу он не опоздал, приехал еще заранее, поэтому, прежде чем пойти сразу же к молодым, сначала заглянул к главному врачу Зинаиде Орешко.
Старая знакомая встретила его приветливо, слегка улыбнулась, когда увидела гостя на пороге, сразу же заторопилась навстречу, подала руку, он чмокнул ее, а потом, подчеркивая свои аристократические манеры, артистично протер носовым платком то место, где оставил свой поцелуй. Зинаиде Орешко такое внимание понравилось, она знала, что Минеров, хоть на вид солидный и строгий человек, иногда бывает заурядным шутником. Такое перевоплощение человека ей, как врачу, хорошо знакомо, и она ничего зазорного в том не видела, если не наоборот: мы же и сами меняем иной раз маски, это свойственно человеку.
– Рад вас видеть! – сказал Минеров, следуя за Орешко к столу.
Она ответила то же самое. А потом они сразу заговорили о... молодых. Минеров поинтересовался, что представляет собой жених, дескать, надежный ли человек, хоть и понимал, что такое любопытство выглядит глупостью – если вспомнить, по сколько лет жениху и невесте, то, в принципе, какая разница, что за человек. Сдружились, сошлись – и хорошо, сколько им там осталось, так хоть последние дни будут рядом, будут мужем и женой, окунутся в семейное течение, хотя здесь, в хосписе, их брак будет все же, согласитесь, напоминать в немалой степени условность, игру.
Зинаида Викторовна заметила Минерову, что он беспокоится, как отец, который выдает дочь замуж и боится, чтобы той не достался в мужья какой-нибудь недотепа. Улыбнувшись, Павел Сергеевич признался, что он всего лишь пошутил, не более того, а молодым желает счастья и долгих лет жизни.
– Я тоже, Павел Сергеевич, этого желаю им, и мы обязательно скажем позже все эти слова пожилым, но влюбленным людям: согласитесь, каждое хорошее слово на душу ляжет им бальзамом, – подхватила Зинаида Орешко. – А пока я хочу угостить вас кофе. Не против?
– Кто же откажется, когда предлагает вам кофе такая милая, красивая женщина? – улыбнулся Минеров, скользнув взглядом по ее фигурке. – Спасибо, спасибо.
Готовя кофе, Зинаида Викторовна, скорее, чтобы заполнить создавшуюся паузу, поведала гостю интересную деталь, что касалась сегодняшней свадьбы. Оказывается, и здесь не все так просто, как думалось изначально! Жених Катерины Ивановны, Платон Архипов, был и есть человек заслуженный, участник войны, пиджак не поднять – тяжелый от орденов и медалей, и когда был День пожилых людей, то это ему вручили ценный подарок вместе с Митрофановной. Человек он вообще-то сложный, с характером, как о таких говорят, но не пьет и не курит, что также немаловажно в наше время, однако не о том хотела сказать главный врач, а совсем о другом. Ветерана выкурили из собственной квартиры сын с невесткой, житья не давали ему, создали невыносимые условия, и Платон Архипов попросился в хоспис. Но оставив свою, трудом нажитую квартиру, ветеран твердо решил, чего б это ему ни стоило, отомстить невестке, которая попила немало его крови. В план мести входила и срочная женитьба. Старик разузнал, когда сблизился с Катериной Ивановной, что та совсем осталась без своего угла, его такое положение женщины обрадовало и одновременно заинтересовало, это как раз то, что и надо! Расписаться в местном сельском совете, поставить штампы, и тогда пускай поерзают его домашние, когда осведомятся! Он же вправе прописать жену в городской квартире, и никуда они, нехристи, не денутся. Поупрямятся, поупрямятся – и сдадутся, он должен взять верх, ведь не зря же хватал за горло врагов, когда служил в полковой разведке. Опыт есть. Вот и понадобился. Посмотрим, как запоет теперь невестка, мымра этакая! Еще имел в виду ветеран и внука Катерины Ивановны Кольку, о котором та много рассказывала будущему мужу без прикрас. Такой пригодится. Такой из горла вырвет!..
– Вот такая у нас свадьба, – улыбнулась уголками губ женщина. – С подтекстом. Все куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.
– Действительно, – согласился Павел Сергеевич.
И здесь только его осенила догадка, почему Катерина Ивановна так настойчиво добивалась, чтобы он приехал на эту свадьбу. Значит, будет и Колька. Пришлось оценить прозорливость женщины. Ход вперед. И какой ход! Когда ветеран начнет атаку на свою квартиру, теперь уже вместе с Катериной Ивановной и Колькой, то тогда тем, не заимев вдруг положительного решения, необходима будет срочная подмога, и они обратятся, конечно же, к Минерову: выручай, родственник!.. Это же квартира того самого жениха, на свадьбе которого ты был, когда он вступал в брак со мной, с Катериной Ивановной. Или забыл? Был же, был на свадьбе!..
Минеров изменился в лице, куда девался прежний блеск глаз, и это заметила Зинаида Викторовна. Сперва она пожалела, что рассказала обо всем, услышанном недавно от самого Платона Архипова, а потом и утешила себя: он же, Минеров, должен знать все, чтобы потом не попался на крючок. А как ему вести себя на свадьбе, это уже, извините, его личное дело, пускай сам решает, как быть и что делать. Хотя, если разобраться, старые люди – что дети: сегодня у них одно, завтра другое, так что заглядывать далеко вперед не имеет смысла.
Поэтому, Минеров, выше нос – пора на свадьбу. Там уже ждут молодожены Катерина Ивановна и Платон Архипов, которому нравится, когда его называют просто Платон. Особенно женщины.
Молод, получается, еще человек, молод.
Вот и хорошо! Вот и горько!..
Раздел 27. Премьера
На деревянном крыльце, что сразу вело в дачную конуру, сидел актер драматического театра Иван Певнев и курил. Вот это он делал напрасно, ему нельзя было дружить с сигаретой, ведь в последнее время появилась одышка и голос был сиплым, и когда на сцене приходилось много работать, а не стоять, как говорят, с боку припека, то эти трудности вылазили наружу.
– Бросай курить, Петрович! – серьезно советовал ему кто-то из друзей после очередного спектакля, а Певнев, как и обычно, делал вид, что не услышал его: будут здесь все кому вздумается учить народного!..
И по-прежнему дымил сверх всякой меры и нужды.
Сегодня как раз понедельник, в театре выходной, и его пригласил к себе на дачу Сергей Данилов, пьеса которого принята к постановке, а на роль главного героя утвержден Иван Певнев. Выпили по рюмке, слегка перекусили с дороги, и артист сел на крылечке перекурить. Хорошо-то как!..
– Спектакль будет, – пыхтя дымом, промолвил Певнев. – Только название неброское. Надо такое, чтобы аж звенело, как струна, поверь мне, старому грешнику!.. А то что ж это за название – «Иванов дом»! Так можно сказать, что и Петров, и Дмитриев... Да дом у каждого есть. Все мы из них, из тех хат. Дай название! Такое, как «Ретро» Галина. Пьеса так себе, а название-е! Если бы не название, про нее б никто и не услышал, про пьесу-то. – Его стал душить кашель, а справившись с ним, Певнев продолжал: – Есть, есть спектакль... Вырисовывается... Подумай над названием и допиши мне несколько крепких словечек, ведь больно хочется мне врезать на всю катушку!..
– Ну, если режиссер не будет против...– не знал, что и ответить, Данилов: и не поймешь, он что, шутит или серьезно?..
– В нашем театре – я режиссер! – постепенно, но уверенно, входил в роль мэтра Певнев. – Еще может быть режиссером Иванов Федя, потому как с первого дня в нашем театре, аксакал!.. Корнеева тоже!.. Она хотя и навредничать может, но гениальная актриса!.. А? А уже какими вылепил нас Бог, такие мы и есть, пожалуй!.. Допиши, допиши, родимый, мне, народному, пару фраз. Только аккуратненько, завуалируй, чтобы никто не прицепился. Понял? Меня же многие Лениным еще помнят, а как же!..
Данилов, согласившись, кивнул.
– Я, Сережа, с твоего разрешения, пройдусь. Подышу, так и быть, свежим воздухом, а заодно и над образом поработаю. Материал есть. Есть материал!..
– Пройдитесь.
– Охотненько, охотненько! Какие пейзажи!.. Иван, мой герой, ходил, конечно же, и по этой тропке, по которой я пойду сейчас? – Он посмотрел на автора пьесы. – Я это чувствую…
У актеров есть внутреннее чутье и его не спрячешь в карман, не положишь рядом с сигаретами. Подошвами не ощутишь, а душой – да, да!.. Только душой!.. И ничем больше!.. Значит, по этой тропинке ходил-бродил мой Иван... И я Иван. Х-ха, я про это, кстати, только теперь подумал! Это, наверное, счастливое совпадение!.. И надо ж!.. Два Ивана, два Ивана-хулигана!.. Одного придумал драматург, а другого, то бишь меня, родила мамаша. Вот как!..
Певнев не торопясь направился по тропинке к опушке, что подходила к самому дачному участку, а Данилов решил заняться обедом. Позже должен приехать сюда и еще один человек – Егор Недоля, его, Данилова, земляк. Хотя он и жил в соседней деревне, а родом и вообще откуда-то из-под города Сумы. В детстве Егор приходил довольно часто к его деду Якову и бабке Пелагее, а когда появился у тех впервые, протянул им бумажку от какого-то еврея из города, и старики хвалили того еврея, прямо светились от счастья, и, чувствовалось, были очень даже горды от того, что тот их помнит и дорожит прошлым общением – ну конечно же! – Мордух Смолкин. А поскольку Дорогунск близко от Гуты, то Недоля нередко приезжал к старикам Тарасовым на велосипеде, согнувшись в три погибели, как говорила бабка Пелагея, украдкой поглядывая, как он нажимает на педали, и помогал тем обязательно по хозяйству. Парень он был работящий, жилистый, и в особенности дед не мог нахвалиться им: «Если б же все такие были! А то есть цуцыки!..»








