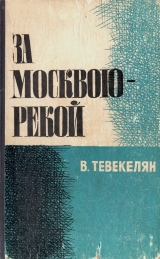
Текст книги "За Москвою-рекой. Книга 2"
Автор книги: Варткес Тевекелян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Конечно, сейчас смешно читать старые записи, еще школьные, наивные, подробные, а иногда и бестолковые… Сейчас писать подробно некогда, физически не хватает времени. Как говорят ученые люди – события отражены. Интерпретации почти нет. А если без шуток – жаль, очень о чувствах, о настроении поговорить хочется. Иногда.
Уже поздно, двенадцатый час ночи. Милочка, подложив руку под щеку, спит. Это ее любимая поза. А мне спать не хочется.
Сегодня случилось нечто такое, о чем грех не писать.
Мы собрались на прогулку, когда Милочка сообщила мне, что Иван Васильевич получил какое-то письмо из Текстильпроекта и спрятал его под подушку. Потом сам Иван Васильевич дал прочитать мне это письмо. Он весь так и сиял.
Я, конечно, сделал вид, что вижу письмо впервые. А составляли его в Текстильпроекте под мою диктовку…
Речь шла о работе Ивана Васильевича, о проекте образцовой механической мастерской при текстильной фабрике. Он ведь по специальности инженер-механик. Мы ему не мешали, были рады-радехоньки, что он чувствует себя необходимым людям. Как ни трудно было ему с чертежами, старик довел свой проект до конца и послал его в Текстильпроект. Я-то знал, что Иван Васильевич здорово отстал и слабо себе представляет современную текстильную фабрику, – он ведь нигде не бывал с самого начала Отечественной войны. А ведь все его надежды были связаны с этим проектом. Я поехал в Текстильпроект и рассказал все начистоту начальнику, Ивану Архиповичу, благо он оказался человеком душевным и отзывчивым. Он понял меня с полслова.
– Я продиктовал секретарше письмо – положительный ответ на заявку И. В. Косарева – и попросил ее послать вместе с письмом тридцать рублей (деньги у меня были с собой) как аванс.
Сегодня, видя радость старика да и Милочки, я не жалел о своем обмане…
7 июня
Не успел вчера закончить запись в дневнике. Было поздно – я лег спать.
Мы долго говорили с Милочкой о житье-бытье. Я предложил ей поехать к морю, отдохнуть. Но она решительно отказалась. Да и как она могла поступить иначе, – не на кого оставить дом, все-таки двое детей и отец.
Временами мне бывает обидно за Милочку, – какую тяжесть мы взвалили на ее плечи. Разумеется, она никогда не жалуется, даже вида не показывает, что ей тяжело, но от этого мне не легче. Я-то знаю, каково ей. Она постепенно превращается в домашнюю хозяйку, а человек она способный и к детям подход имеет, ребятишки в школе ей доверяют, любят ее. Обидно, а что придумать – не знаю…
20 июня
Вот и лето. В этом году оно наступило рано. Под нашим окном давно зацвела сирень, посаженная еще моим отцом. Не сирень – гигантский куст, так она разрослась. В прошлом году у нее появились признаки дряхлости, – засохли ветки, да и цветы стали помельче. Я всерьез занялся сиренью, обрезал засохшие ветки, отрубил одеревеневшие корни, вырыл под деревом большую лунку, положил туда много удобрений, даже навоз и костяную муку, – словом, спас от гибели. Это ведь не просто сирень – это память отца.
24 июня
Узнал, что Анна Дмитриевна Забелина, жена Власова, вчера оформила себе в отделе кадров постоянный пропуск на комбинат. Они с мастером Степановым опять начали колдовать над крашением пряжи из синтетических волокон. Это очень приятно: Анна Дмитриевна умница и настойчива. Она своего добьется. Жаль, что я не могу участвовать в этой работе…
7

Муза Горностаева среди своих знакомых и друзей слыла женщиной опытной, много повидавшей. И не так уж они были неправы.
Единственная дочь обеспеченных родителей, она росла и воспитывалась в лучших традициях русской интеллигентной семьи. Приветливая, вежливая маленькая Муза свободно болтала по-французски: тетка, сестра отца, души не чаявшая в племяннице, разговаривала с ней только на этом языке.
Знание французского определило и будущую профессию Музы. По окончании школы семнадцатилетняя, весьма привлекательная девушка без особых трудов поступила в институт иностранных языков.
Все в институте знали, что эта серьезная студентка с большими зеленоватыми глазами владеет разговорным французским не хуже, чем ее педагоги. Однако у нее хватало ума этого не подчеркивать. Вела она себя скромно, успешно изучала итальянский и испанский языки.
На третьем курсе она познакомилась с ответственным работником Министерства внешней торговли, отцом двух детей. Познакомилась и убедила себя, что влюблена в него – в человека на целых шестнадцать лет старше. В этом для Музы не было ничего из ряда вон выходящего, – просто проявилась эксцентричность ее характера. Еще в восьмом классе школы она написала учителю математики, объясняясь в любви к нему. Не получив ответа, разгневалась и возненавидела учителя. Годом позже совсем не по-детски кокетничала с собственным дядей, и, нужно сказать, не без успеха. Поклонник богемы, любитель приключений, он охотно пошел навстречу желаниям красивой племянницы, и если бы не вмешательство родителей Музы, неизвестно, чем бы это могло кончиться. Потом была длительная связь с знаменитым спортсменом, связь тягостная, мучительная, тянувшаяся до знакомства с будущим мужем.
Окончив институт, Муза получила назначение в Италию переводчицей в советское торгпредство. В этом не было ничего, что могло бы вызвать недоумение окружающих: она была отличницей, великолепно владела языками, – кому же, как не ей, быть переводчицей в Италии или во Франции?
Торговым представителем в Риме оказался ее знакомый из Министерства внешней торговли. И связь, начатая в Москве, продолжалась здесь, под южным солнцем.
Архангельский не привез в Италию семью, мотивируя это тем, что дети уже взрослые и должны учиться в Советском Союзе. На первых порах он тщательно скрывал свои отношения с молоденькой переводчицей, но со временем, отбросив всякую осторожность, стал всюду появляться с нею. В советской колонии в Риме тотчас обратили внимание на роман немолодого человека, отца семейства, с девчонкой. Пошли пересуды. На партийном бюро резко осудили поступок Архангельского, объявили ему выговор и предложили немедленно прекратить связь с переводчицей. Он поехал в Москву, сумел за очень короткий срок развестись с женой и, представив советскому генеральному консулу справку о расторжении брака, попросил зарегистрировать новый брак – с Музой Горностаевой.
Став ее мужем, Архангельский сразу положил конец всем пересудам и сплетням. Однако совместная жизнь с молодой капризной женщиной не принесла счастья ни тому, ни другому. Читая во взглядах окружающих осуждение, они постоянно испытывали чувство неловкости и даже порою угрызения совести, понимая, что из-за своей прихоти сделали несчастными других. А тут еще непонятное поведение родителей Музы…
Она, как примерная дочь, известила родителей, что собирается выйти замуж. Дала понять, что будущий ее супруг хотя и не очень молодой, но достойный, прекрасный человек. Мать и отец не замедлили поздравить ее, пожелать ей счастья.
Через некоторое время Муза послала родителям фотографию, на которой была запечатлена она с мужем возле роскошного лимузина у дверей генерального консульства после регистрации брака. В письме она описывала, какие получила подарки, как отпраздновали свадьбу. Одновременно с письмом она послала родителям посылку с дорогими вещами.
В ответ Муза получила короткое, сухое письмо от отца, в котором он просил в дальнейшем не посылать им никаких посылок. В адрес зятя в письме не оказалось ни слова привета, – будто того и не существовало. Несколько дней Муза ходила под впечатлением холодного отцовского письма и наконец не вытерпела – позвонила по телефону домой. К телефону подошла мать. На все вопросы дочери она отвечала сдержанно, а под конец расплакалась и сказала: «Доченька, разве можно быть счастливой, делая несчастными других? Мы всё знаем, отец очень сердится». После короткой паузы спросила: «Зачем ты это сделала?»
Все стало ясно. Муза не спала ночь: она представляла себе, как оценивают ее брак родители, тетка, многочисленные родственники. Они убеждены, что она развела пожилого, годящегося ей в отцы человека с женой и вышла за него замуж ради его высокого положения и материального благополучия.
«Фу, какая гадость», – громко сказала она в ночной тишине, а наутро заявила Архангельскому, что им лучше разойтись…
Не зная еще как следует характера жены, тот воспринял ее слова как очередной каприз. Однако очень скоро убедился, что жестоко ошибается. Формально они не разошлись, – этого нельзя было сделать в Риме. Но быть мужем и женой перестали.
Спустя некоторое время Архангельского отозвали в Москву. Вернулась в Москву и Муза. Она приехала к родителям, а Архангельский поселился на первых порах в гостинице. Они почти не встречались, за исключением нескольких деловых свиданий для выяснения подробностей, связанных с предстоящим разводом.
Отношения Музы с родителями хотя и стали понемножку налаживаться, но холодок и натянутость оставались. Поэтому она стремилась устроиться самостоятельно. К великому удивлению, родители не только не возражали против ее намерения жить отдельно от них, но и всячески шли ей в этом навстречу. На семейном совете было решено, что тетка уступит ей свою комнату в Сокольниках, а сама переедет жить к ее родителям.
Дом в Сокольниках был неказистый, деревянный, но зато большая, светлая комната на втором этаже всеми тремя окнами выходила в один из многочисленных, похожих один на другой сокольнических проездов.
Муза отремонтировала свою новую комнату. Стены оклеила светлыми обоями, двери и оконные рамы окрасила в белый цвет. Проявив удивительную деловитость, она нашла покупателей и распродала старомодную теткину мебель, а взамен купила новый венгерский гарнитур. Безделушки, красивые абажуры, яркие занавески и покрывала, привезенные из Италии, украсили комнату.
По рекомендации своего институтского профессора она устроилась на работу в отдел технической информации одного научно-исследовательского института, где отлично справлялась с обязанностями переводчицы, хотя и не имела специальной технической подготовки. Работники отдела души не чаяли в красивой, приветливой сотруднице, быстро оценив ее доброту, скромность, общительный характер.
Душевная боль от неудачного замужества начинала утихать, жизнь входила в нормальную колею. Она вела почти затворнический образ жизни: никуда не ходила, ни с кем из старых знакомых не встречалась, все свободное время проводила за книгой. Устав от чтения, шла в парк, – он был рядом, всего в сотне шагов, – бродила в одиночестве по пустынным аллеям. Иногда садилась на скамейку около маленького пруда и подолгу смотрела на зеленоватую воду. Ей казалось, что жизнь кончилась, что впереди нет и не может быть ничего хорошего, – слишком много она повидала, несмотря на свои молодые годы. Такое состояние покоя, грустной умиротворенности нравилось ей, хотя и вызывало недоумение у сослуживцев. Особенно старалась подчеркнуть свое дружеское расположение к ней некая Мурочка, молодая сотрудница библиографического отдела. Она не раз приглашала Музу к себе домой и неизменно получала отказ.
– Так и проживете всю жизнь монахиней? – удивлялась Мурочка. – Неужели вам не хочется пойти в театр, в кино, повеселиться в компании, потанцевать?
– Я свое уже оттанцевала, – невесело улыбалась Муза.
Однажды после работы по дороге домой она встретила Мурочку с высоким, хорошо одетым немолодым мужчиной.
– Легки на помине! – воскликнула Мурочка. – Я только что рассказывала Юлию Борисовичу о вас. Познакомьтесь, пожалуйста.
Юлий Борисович оказался человеком воспитанным, с приятными манерами. Держался он скромно, разговаривал с Музой почтительно. Он предложил Мурочке проводить новую знакомую до Сокольников.
– А мы отправимся с вами, Мурочка, в Сокольнический парк. Там отличный ресторан, – пообедаем вместе, если, конечно, вы не будете возражать.
– Я с удовольствием! – ответила Мурочка игриво. – Только что за эгоизм: почему мы с вами, а не втроем?
– Разумеется, я буду очень рад, если Музе Васильевне захочется провести с нами время.
Муза промолчала.
– Пойдемте с нами, – уговаривала Мурочка, – доставьте нам такое удовольствие. Завтра воскресенье, рано вставать не надо. Пообедаем, послушаем музыку, потанцуем. Как говорится, себя покажем, на других посмотрим.
Для решительного отказа у Музы не нашлось причин. «Тем более что мы втроем», – подумала она и согласилась.
Юлий Борисович проявил необыкновенную щедрость. Он заказал дорогие закуски, отлично разбирался в винах. Ко всему он оказался еще и хорошим танцором.
Так состоялось знакомство Музы Васильевны Горностаевой с Юлием Борисовичем Никоновым.
На первых порах ей показалось, что на ее пути наконец-то появился настоящий человек, что эта связь будет приятной, прочной. Но очень скоро она стала сомневаться в правильности этих своих предположений, хотя видимых причин для сомнений как будто и не было. Юлий Борисович вел себя по отношению к ней в высшей степени предупредительно и корректно. Однако Муза была достаточно проницательной женщиной, чтобы не заметить в нем какую-то неестественность, а временами и фальшь. Особенно смущали ее дорогие подношения, которые он ей делал. Время от времени Юлий Борисович оставлял у нее на несколько дней то сверток, то маленький чемодан. Она не знала содержимого свертков и чемодана, считая недостойным копаться в чужих вещах, но во всем этом ей чудилось что-то нечистое.
И она по-настоящему испугалась, когда он преподнес ей перстень с крупным бриллиантом. Сначала, увидев старинное красивое кольцо, она пришла в восторг. Но потом сняла перстень с пальца и, положив на туалетный столик, сказала:
– Спасибо, Юлий Борисович. К сожалению, я не могу принять от вас такой дорогой подарок.
– Почему? – спросил он с наигранной веселостью. – Я перстень не украл, не купил. Это – остаток прежней роскоши, так сказать, семейная реликвия. Перстень носила моя покойная матушка. Кому же мне его подарить, если не такой прелестной женщине, как вы?
– Я тронута. Но перстень возьмите. Я не могу принять его.
– Скажите, почему вы относитесь ко мне с недоверием? – Юлий Борисович укоризненно посмотрел ей в глаза. – Разве я давал вам для этого повод? Тружусь, как все… Если живу немного лучше, чем многие, так это результат сочетания целого ряда благоприятных обстоятельств. Некоторые дорогие безделушки, как, к примеру, этот перстень, оставлены мне родителями. Трофейное имущество, купленное по случаю, позволило мне прилично обставить свою комнату. Ну и, наконец, трудолюбие! Я всю жизнь трудился и сейчас тружусь не щадя сил… Вы знаете, что я холост, – у меня нет особых расходов, а зарабатываю я прилично. Так почему мне не жить хотя бы немного лучше окружающих и не делать подарки женщине, лучше которой нет и не может быть в целом свете?
Длинная речь Юлия Борисовича произвела на Музу впечатление совершенно обратное тому, на которое он рассчитывал: она не поверила ни одному слову.
– Вы вправе жить так, как вам нравится, – сдержанно заметила она.
– Мне страстно хочется, чтобы вы стали моей женой! – не поняв ее холодности, продолжал Юлий Борисович. – Сколько раз я говорил вам об этом и повторяю снова! Ведь вы не безразличны ко мне, как хотите сейчас показать. Но почему-то всякий раз делаете вид, что не слышите об этом моем желании. Вы не согласились даже побывать у меня дома… Признаюсь, это меня обижает. Я не принадлежу к числу безгрешных, много видел на своем веку женщин, но, уверяю вас, никому не делал такого предложения!
– О, я крайне польщена тем, что вы так великодушно выделяете меня из многочисленных ваших знакомых!.. Но я уже говорила вам, повторяю и сейчас, что никогда не соглашусь стать вашей женой!
Решительный тон Музы задел Юлия Борисовича, не привыкшего получать от женщин отказ. Он встал, подошел к туалетному столику, повертел флаконы с духами, банки с кремом, потом повернулся к ней:
– Может быть, вас тяготит и знакомство со мной?
– Как вам сказать? – ответила она после некоторого раздумья.
Леонид не знал, что, спрашивая Музу о знакомстве с Юлием Борисовичем, он задевает ее больное место…
Муза была права, когда не поверила ни одному слову Никонова, – он действительно жил двойной жизнью и делал это довольно ловко.
В 1951 году он был арестован по делу о продаже под видом отходов шерстяной пряжи. Предварительное следствие установило, что главный механик Главшерсти Никонов Ю. Б. не имел прямого отношения к вопросам сбыта, – следовательно, если он и сыграл в деле какую-то роль, то незначительную. Непосредственный виновник сделки, начальник сбыта главка Голубков, держался твердо, никого из своих сообщников не выдавал. Боясь показательного суда, он брал всю вину на себя и на вопросы следователя об участии Никонова в махинации с пряжей отвечал отрицательно. Никонов, мол, свел его с артельщиками без всякой корысти, думая, что речь действительно идет об отходах. Не выдали Никонова и работники промкооперации.
На этом основании Никонова освободили из-под ареста и взяли у него подписку о невыезде до конца следствия.
Сообразив, что на суде могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, Юлий Борисович воспользовался временной свободой, чтобы привести в порядок свои личные дела. Прежде всего под видом дальней родственницы он прописал к себе одну богобоязненную старуху. Положил на ее имя в сберкассу значительную сумму денег и взял от нее письменное распоряжение сберкассе – переводить плату за квартиру.
– А вы, бабуся, получайте каждый месяц сорок рублей и живите, как кума королю, да молитесь за меня богу. В случае, если я исчезну на некоторое время, не бойтесь, берегите вещи и никого в квартиру не пускайте.
Юлий Борисович мог так распорядиться, потому что во время обыска у него на квартире денег не нашли и ничего из вещей не изъяли. Работники МУРа несколько раз перекладывали три шерстяных отреза, хотели было приобщить их к делу, потом махнули рукой и оставили. Воспользовавшись этим, Юлий Борисович реализовал некоторые ценные вещи, другие перепрятал, – он прекрасно понимал, что в случае неблагоприятного исхода судебного процесса ему придется сесть в тюрьму.
На суде дело приняло нежелательный для Юлия Борисовича оборот. Голубков и артельщики, поняв, что показательного суда не будет, сознались в том, что передали подсудимому Никонову Ю. Б. в разное время около сорока тысяч рублей за посредничество.
Юлий Борисович отрицал факт получения денег, врал и изворачивался как мог, но улики были неопровержимы. Его приговорили к трем годам тюремного заключения и взяли под стражу. У всех осужденных, за исключением Никонова, конфисковали имущество.
Казалось бы, карьера Юлия Борисовича на этом должна была закончиться. Но не такой он человек, чтоб легко сдаться. Еще в тюремной камере, ожидая отправки в лагерь, он в деталях продумал свое поведение, чтобы освободиться досрочно и начать все сызнова – не забывая, разумеется, о своих ошибках.
В лагере на первых порах ему было плохо. Подъем в шесть утра, тяжелая, непривычная физическая работа, простая пища. Кругом уголовники, – ругань, матерщина. Он начал было отчаиваться, но помог случай. Однажды его вызвал начальник лагеря и спросил:
– Ты, кажется, инженер-механик по профессии?
Юлий Борисович вздохнул:
– Да, гражданин начальник, был инженером-механиком. Последнее время был главным механиком большого союзного главка.
– Это меня мало интересует. Нам нужен не чиновник, а настоящий механик, хорошо знающий металлорежущие станки. Скажи, ты мог бы руководить нашими механическими мастерскими?
– Мне трудно сразу ответить, гражданин начальник. Дайте возможность сначала ознакомиться с делом, потом уж решать. Не в моих правилах подводить себя и других…
Ответ понравился начальнику лагеря. Он приказал расконвоировать заключенного Никонова Ю. Б. А через пять дней тот был назначен руководителем механических мастерских, где работало более двухсот заключенных.
Юлий Борисович старался изо всех сил и работал, как никогда в жизни. Не шутка – каждый отработанный им день засчитывался за три, таким образом три года тюремного заключения сокращались до одного.
Состоялось знакомство Юлия Борисовича со «знаменитым» дельцом из Львова Аркадием Семеновичем Шаговым, по прозвищу «Папаша», – знакомство, сыгравшее роковую роль в жизни Юлия Борисовича.
Шагов, плотный, среднего роста лысеющий мужчина лет сорока пяти, всегда суетился, куда-то спешил и в разговоре всем говорил «дорогой». Он был мастером на все руки: актер, режиссер, исполнитель эстрадных песен и куплетов. Умел рисовать. Конечно, шедевры он не создавал, но афиши, плакаты и декорации давались ему без труда. Оценив способности Шагова, начальник лагеря назначил его заведующим клубом и руководителем драматического кружка. Завидные должности, дающие Аркадию Семеновичу относительную свободу.
Шагов пользовался популярностью даже у отпетых уголовников. Для этого были особые причины: он был щедр, и у него всегда было курево (это ценилось дороже всего), сахар, консервы, масло, белый хлеб и всякая другая снедь. Как он доставал все это, как ухитрялся прятать от лагерного начальства – оставалось загадкой.
Шагов считался старожилом, знал всех, и все знали его. Надзиратели, воспитатели, сам начальник и его старший помощник по политчасти относились к Папаше снисходительно, прощали ему небольшие шалости. Оберегали его и уголовники.
Как-то однажды вор, новичок в лагере, украл посылку, полученную Шаговым. Аркадий Семенович пришел в ярость, он пошел к старшине уголовников по прозвищу Сашка Кривой и сказал:
– Ну, знаешь, дорогой, если ваши ребята и меня будут обкрадывать, тогда мир перевернется вверх тормашками и не будет в нем никакого порядка.
Украденная посылка была найдена в тот же день и возвращена Папаше в целости и сохранности, там не хватало куска копченой колбасы, ее успел съесть воришка, за что атаман принес Аркадию Семеновичу искренние извинения, точь-в-точь как это делается в дипломатическом мире.
Как-то ранней весной, когда Юлий Борисович только-только осваивался с ролью заведующего механическими мастерскими лагеря, в клубе прорвало водопроводную трубу. Шагов побежал в канцелярию просить о помощи. По дороге он встретил Никонова, остановил его:
– Вот как раз вас-то мне и нужно! Я Шагов, Аркадий Семенович, заведующий клубом и руководитель драмкружка. Многие зовут меня еще Папашей, может, слыхали? – представился он. – В клубе прорвало трубу, срочно пришлите, дорогой, слесаря, иначе вода зальет весь первый этаж.
– О вас я слышал много хорошего, Аркадий Семенович, – любезно ответил Юлий Борисович. – Но, к сожалению, все слесари разошлись по нарядам. – Он задумался на минуту, – не хотелось отказывать лагерной знаменитости. – Может, я сам сумею исправить, – как-никак инженер-механик.
В клубе он перекрыл воду, намочив тряпку цементным раствором, обмотал ею трубу с трещиной.
– Часа через два можете открыть воду. – Он хотел было уйти, но Шагов удержал его:
– Не хотите ли, дорогой, выпить со мной стаканчик крепкого чая и закусить чем бог послал?
Юлий Борисович с благодарностью принял приглашение, – в лагере не часто приходилось пить хороший чай.
Шагов повел его к себе в конуру за кулисами, поставил чайник на плитку и, заперев двери клуба, угостил Юлия Борисовича по-царски: копченой колбасой, сыром, маслинами, консервами и белым хлебом. Так состоялось их знакомство, превратившееся вскорости в дружбу.
Они стали часто встречаться. Однажды, во время очередного пиршества, Шагов сказал Никонову:
– Извините, дорогой, я знаю, по здешнему этикету не принято спрашивать, кто за что сидит. Но мы с вами друзья и, мне кажется, можем нарушить этот неписаный закон. Как вы думаете, дорогой?
– Согласен с вами! Тем более что мне скрывать абсолютно нечего, – ответил Юлий Борисович, приготовляя себе бутерброд с голландским сыром.
– В таком случае рассказывайте, дорогой, как могло случиться, что такой культурный, интеллигентный человек, как вы, специалист высокой квалификации, угодил сюда.
– Честно говоря, по неопытности, за пустяк! – Юлий Борисович рассказал Шагову историю о комбинации с шерстяной пряжей со всеми подробностями и без утайки.
– Ай-яй-яй! – воскликнул тот, выслушав исповедь до конца. – Из-за каких-то сорока тысяч – три года! Многовато… Разве можно так дешево продавать свою свободу, дорогой? Вы при желании могли бы зарабатывать в три, пять, десять раз больше и с меньшим риском.
У Юлия Борисовича загорелись глаза.
– Каким же образом?
– Это особый разговор, – уклончиво ответил Шагов.
– Вы-то сами зарабатывали такие деньги?
– Случалось и больше…
– И тоже попались!..
– Я, дорогой, попался не за это! – Шагов махнул рукой, покачал головой. – Может быть, когда-нибудь расскажу… Никому не рассказывал, но вам, дорогой, расскажу. А теперь хотите послушать приключения делового человека, повесть о том, как он делал деньги?
– С превеликим удовольствием.
– Тогда наберитесь терпения. Если мой рассказ наскучит вам, скажите. Я не обидчивый, не бойтесь. – Шагов заварил свежий чай, опять наполнил кружки, протянул Юлию Борисовичу пачку сахара, целый ворох румяных сушек и приготовился к рассказу.
– Я прошел очень большую, яркую, заполненную интересными событиями жизнь, – начал он. – И чтобы вам было понятно все, начну с самого начала. Не возражаете?
– Что за вопрос, нет, конечно, – согласился Юлий Борисович.
– Мои предки до седьмого поколения были духовного звания, и настоящая моя фамилия Попов. Я потом стал Шаговым, при обстоятельствах, тоже не лишенных интереса. Отец мой первым изменил семейным традициям и вместо духовной семинарии окончил одесское коммерческое училище, а впоследствии стал владельцем крупного дела по экспорту хлеба. За короткое время он накопил большое состояние, и родня простила бы ему измену, если бы он не влюбился в красивую еврейку и вопреки воле родителей не женился на ней, чем вызвал гнев не только отца с матерью, но и всей многочисленной родни. Они отреклись от моего отца и до самой революции не разговаривали с ним. Родился я в благословенном городе Одессе. Я много видел городов, но такого, как наша Одесса, никогда не встречал. Представители каких только наций и народов не встречались тогда у нас! Какие только не совершались сделки за мраморными столиками в кафе. Можно сказать без преувеличения, что всякий, кто хоть немного умел шевелить мозгами, мог делать там деньги.
После короткой паузы во время гражданской войны, когда уехали от нас французы и греки и город захватили большевики, жизнь опять в Одессе стала бить ключом. В годы нэпа в наш порт ежедневно швартовались десятки пароходов, шхун, наполненных заморскими товарами, не говоря уже о контрабандистах, тайком подкрадывающихся к нашим берегам на моторных лодках.
Многочисленные рестораны, кондитерские, кафе, всякого рода бары и увеселительные заведения работали вовсю. На улицах, в особенности примыкающих к порту, шум не утихал до рассвета. Везде музыка, танцы, веселье.
Бывали у нас и грандиозные драки, когда пьяные матросы бежали по улицам с криком «Полундра, наших бьют», сокрушая все на своем пути. Они как дикие звери бросались на матросов с других кораблей, ломали друг другу ребра, нередко и черепные коробки. Даже милиция не всегда рисковала вмешиваться в эти драки, настолько они бывали грозными.
Вы, верно, слышали, что до революции даже во времена нэпа Одессу звали мамой. В это слово вкладывался определенный смысл, – там было раздолье для любителей легкой жизни.
До революции у нас орудовали крупнейшие дельцы со всего земного шара, среди них особенно много греков, турок, обрусевших итальянцев, но, конечно, и своих русских, евреев и армян. Некоторые, захватив ценности, уехали с интервентами, другие остались, затаились, а во время нэпа опять всплыли на поверхность. Дельцы проводили целые дни за мраморными столиками, у Фалькони или в других кофейнях, пили черный кофе, играли в карты, домино, судачили о мировых проблемах и играючи заключали сделки. Продавали и покупали большие партии кофе, какао, шелк, трикотаж, меха, лес. Спекулировали иностранной валютой, торговали золотом, драгоценными камнями, иногда и живым товаром. Дельцы за один день сколачивали целые состояния, разорялись и кончали жизнь самоубийством. Промышляли знаменитые аферисты, медвежатники – взломщики стальных сейфов, налетчики и фальшивомонетчики.
Забыл вам сказать, что я ровесник века, и когда мне исполнилось восемь лет, отец отдал меня учиться в гимназию. К наукам у меня были незаурядные способности, и если бы не воздух нашего города, пропитанный запахом наживы, то весьма возможно, что жизнь моя сложилась бы иначе. Скажите, пожалуйста, зачем мне нужно было уезжать после окончания гимназии в Петербург или Париж и поступать там в университет, когда людей ценили не за знания, а за капитал?
Первая мировая война окончательно расшатала и без того не очень твердые устои общества. Честь, мораль, нормы поведения, не говоря уже о гуманности и милосердии, были забыты начисто.
Мой отец, получив подряд на поставку хлеба для армии, за короткое время очень разбогател и ворочал миллионами. Он купил новый трехэтажный каменный дом в центре города, а дача у него была в Аркадии, у самого моря. На одного члена нашей семьи приходилось теперь чуть ли не три человека прислуги. Я, мальчишка, стал ездить по городу только в фаэтоне, запряженном парой лошадей. А крейсеры «Гебен» и «Бреслау», переданные Германией Турции, обстреливали Одессу и побережье Крыма. Везде и всюду – дома, на улице, даже среди друзей – я только и слышал о деньгах и уверился в их всемогуществе. Мои помыслы были заняты с самого раннего возраста одним: накопить как можно больше денег, разбогатеть любой ценой.
Дом наш всегда был полон дельцов и спекулянтов всех мастей и масштабов, они приходили к нам и вместе с моим отцом намечали планы очередной операции на черном рынке. Наблюдательный паренек, я изучал их повадки, манеру держаться и разговаривать и мечтал о том дне, когда последую их примеру и сам начну делать деньги. Отец решительно отказывался дать мне возможность заняться делом и повторял одно и то же: «Не торопись, успеешь, учись хорошо, придет время, я сделаю тебя своим компаньоном».
Мечтам моего отца не суждено было сбыться, я не только не стал его компаньоном, но и не унаследовал ни одного гроша из его капиталов. Помешала революция. Во времена военного коммунизма мне пришлось изворачиваться, зарабатывать деньги и кормить своих престарелых родителей. Конечно, у отца были деньги в швейцарских и английских банках, но что от них толку. Отец не сумел вовремя уехать и застрял в большевистском царстве, капиталы его лежали без всякой пользы.







