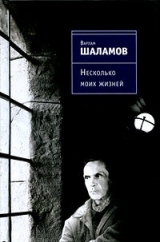
Текст книги "Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела"
Автор книги: Варлам Шаламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 80 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
Я был принят в университет, но без общежития, как москвич, и жилье, крыша сразу стало трудной, неотложной проблемой. Шапиро лучше меня знал всю бюрократическую иерархию, куда надо было обращаться за отказом, – он тоже был москвичом и ускорил наше хождение до необходимого предела. Получив положенные отказы, мы побежали в Наркомат просвещения на личный прием наркома. На Сретенском бульваре мы быстро разыскали кабинет Луначарского, обратились к секретарше.
– Заявление готово у тебя?
– Да. Вот есть.
– Так и держи в руке, а как получишь разрешение, суй ему прямо на подпись. Ну, иди!
Секретарша раскрыла кабинет наркома, где за большим письменным столом, откинувшись в мягком кресле и заложив ногу за ногу, сидел Луначарский. Солнечный луч из окна, как лазер, вычертил линию от коленки до лысины. Луначарский выслушал мою просьбу, и геометрия луча внезапно нарушилась.
– Это не ко мне, – завизжал нарком, – не ко мне, обратитесь к моему заместителю Ходоровскому. Валя!
– У него на лбу не написано, – резонно сказала Валя, – о чем он собирается с вами говорить, товарищ нарком.
Но я уже умчался к Ходоровскому, на том же этаже, где и получил заветную визу – «дать место».
Возможно, что я со своей жизненной прозой вторгся именно в тот момент, когда солнечный луч с лысины Луначарского уже готов был перескочить на бумагу, двинуть ритмы «Освобожденного Дон Кихота». Мне не было дела тогда до таких проблем. А вот проблемы мировой революции меня занимали.
Тут же мои товарищи и старшие братья моих товарищей – герои Гражданской войны, выслушав рассказ об этом инциденте, объяснили, что подобные ситуации были нередки, что обычно студенческие депутации долго ждали за дверью, ибо, как объясняла секретарша, «нарком стихи пишет» и принять пока не может. Не знаю, сколько тут злословия, сколько истины, на лбу у наркома, верно, не было написано, пишет ли он стихи или ждет очередного посетителя.
Штурм небаТаких, как я, опоздавших к штурму неба, в Москве было немало. Самым естественным образом это движение сливалось в течение, кружилось близ скал новой государственности и плыло по незнакомой дороге дальше, то разливаясь по поверхности, то углубляясь, штурмуя осыпающиеся берега. Тут не было ничего от быта и очень много от догмы, да еще от того острейшего чувства, что ты присутствуешь и сам участник какого-то важного поворота истории, да не русской, а мировой. Самым естественным образом это движение-течение вольно клокотало в университете, в высших учебных заведениях, в вузах тогдашних. В вузы поступали тогда не потому, что искали образование, специальность, профессию, но потому, что именно в вузах штурмующие небо могли найти самую ближнюю, самую подходящую площадку для прыжка в космос. Штурмовали небо именно в вузах, [там] была сосредоточена лучшая часть общества. От рабочих и крестьян их лучшие представители, от дворян и буржуазии те конрады валленроды[311]311
Валленрод Конрад – гроссмейстер Тевтонского ордена в 1391–1393, по легенде – литвин. Орден в это время вел войну с литвинами.
[Закрыть], которые взяли знамя чужого класса, чтоб под ним штурмовать небо. И Ленин, и Маркс, да и все их товарищи по партии были интеллигентами, конечно, плоть от плоти буржуазии, дворянства, разночинства, выходцами из чужого класса. Ничего в этом особенного нет, но уже в первые годы революции была поставлена догматическая задача – найти кадры из самих рабочих. Это только осложнило штурм неба.
Переступить порог университета – значило попасть в самый кипящий котел тогдашних сражений. Именно здесь, да еще в двух шагах от университета, в РАНИОНе[312]312
РАНИОН – Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук (1924–1930).
[Закрыть] велись споры о будущем, намечались какие-то еще не уверенные, но явно реальные планы мировой революции.
Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни. Такие вопросы, как семья, жизнь, решались просто на ходу, ибо было много и еще более важных задач. Конечно, государство никто не умел строить. Не только государство подвергалось штурму, яростному беззаветному штурму, а все, буквально все человеческие решения были испытаны великой пробой.
Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией.
Каждому открывались такие дали, такие просторы, доступные обыкновенному человеку! Казалось, тронь историю, и рычаг повертывается на твоих глазах, управляется твоею рукою. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь. Именно молодежь впервые призвана была судить и делать историю. Личный опыт нам заменяли книги – всемирный опыт человечества. И мы обладали не меньшим знанием, чем любой десяток освободительных движений. Мы глядели еще дальше, за самую гору, за самый горизонт реальностей. Вчерашний миф делался действительностью. Почему бы эту действительность не продвинуть еще на один шаг дальше, выше, глубже. Старые пророки – Фурье, Сен-Симон, Мор[313]313
Фурье Шарль (1772–1837) – французский утопический социалист. Первичной ячейкой нового общества считал фалангу, сочетающую промышленное и сельскохозяйственное производства. Новое общество должно было утвердиться путем мирной пропаганды новых идей.
Сен-Симон Клод Андри де Рувруа (1760–1825) – французский мыслитель, социалист-утопист.
Мор Томас (1478–1535) – английский гуманист, государственный деятель, один из основоположников утопического социализма.
[Закрыть] выложили на стол все свои тайные мечты, и мы взяли.
Все это [потом] было сломано, конечно, оттеснено в сторону, растоптано. Но в жизни не было момента, когда она так реально была приближена к международным идеалам. То, что Ленин говорил о строительстве государства, общества нового типа, все это было верно, но для Ленина все было более вопросом власти, создания практической опоры, для нас же это было воздухом, которым мы дышали, веря в новое и отвергая старое.
КонсерваторияНаш институт, наш факультет был впритык с консерваторией, и при желании проникнуть в здание, проскочить сквозь барьер консерватории было [можно]. Но что нам там слушать? Иностранных скрипачей, советских пианистов? Не скрипачей, не пианистов слушали, а, всем телом, всем мозгом, всеми нервами своими напрягаясь, слушали ораторов. Для того чтобы слышать ораторов, в консерваторию ходить было не надо – все словесные, и бессловесные, и не словесные турниры шли у нас же, хотя Коммунистическая, бывшая Богословская, аудитория поменьше была Большого зала консерватории – наиболее крупного тогда кино в Москве. Консерватория так и называлась – кино «Колосс», причем, по упрямой московской обмолвке, тому упрямству, которое заставляет произносить «на Москва-реке», а не «на Москве-реке», Большой зал консерватории назывался «Киноколосс».
В консерватории было то, чего не было в университете, – буфет. Мы все имели талоны в столовую латинского квартала Москвы, но буфет консерватории был подарком. И хоть там, кроме бутербродов со свеклой, тоже ничего не было, а иногда с кетовой икрой, все же деятели искусства как-то подкармливались. Вот этот буфет и был предметом наших постоянных атак. Пускали туда по консерваторским пропускам с фотографиями, и такой свой пропуск нам отдал студент консерватории, бывший житель нашей Черкасски, крошечного, всего на сто коек, университетского общежития.
[Университет]Москва тогдашних лет просто кипела жизнью. Вели бесконечный спор о будущем земного шара – руководимые и направляемые центром тогдашней футурологии РАНИОНом и Комакадемией[314]314
Коммунистическая академия создана в 1918, с 1924 – Социалистическая академия просуществовала до 1936. В составе ее были институты: философии, истории, литературы, искусства, советского строительства и права, мирового хозяйства, мировой политики, экономики, аграрный, естествознания. Объединена с АН СССР.
[Закрыть], где тогдашние пророки Преображенский, Бухарин, Радек бросали лучи в будущее. Эти лучи ни тем, которые наводили, ни тем [кто] обслуживал экран, – красным профессорам, немногочисленным, одетым в шинели и куртки того же покроя и фасона, что был у Преображенского, не казались еще ни лучами смерти из «Гиперболоида», ни обжигающими лазерами. Это были лучи мысли во всей ее фантастической реальности. В Московском университете, кипевшем тогда, как РАНИОН, сотрясаемом теми же волнами, дискуссии были особенно остры. Всякое решение правительства обсуждалось тут же, как в Конвенте.
То же было и в клубах. В клубе Трехгорки пожилая ткачиха на митинге отвергла объяснение финансовой реформы, которую дал местный секретарь ячейки.
– Наркома давайте. А ты что-то непонятное говоришь.
И нарком приехал – заместитель наркома финансов Пятаков[315]315
Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937) – партийный и государственный деятель, чл. РСДРП(б) с 1910, в 1917–1918 комиссар Народного банка, с 1920 руководил восстановлением Донбасса, был зам. пред. Госплана РСФСР. С 1923 – зам. пред. ВСНХ, с 1928 – зам. пред, с 1929 – пред. Правления Госбанка СССР. С 1930 – член Президиума ВСНХ. С 1932 – зам., в 1934–1936 первый зам. наркома тяжелой промышленности СССР Г. К. Орджоникидзе. Член ЦК 1923–1927, 1930–1936. Член ВЦИК, ЦИК СССР. Необоснованно репрессирован.
[Закрыть], и долго объяснял разъяренной старой ткачихе, в чем суть реформы. Ткачиха выступила на митинге еще раз.
– Ну, вот, теперь я поняла все, а ты – дурак – ничего объяснить не можешь.
И секретарь ячейки слушал и молчал.
Эти споры велись буквально обо всем: и о том, будут ли духи при коммунизме – фабрика Брокара стояла с революции, и работники не были уверены, что ее пустят. И о том, существует ли общность жен в фаланге Фурье, и о воспитании детей. Обсуждали не формы брака, обсуждался сам брак, сама семья – нужна ли она. Или детей должно воспитывать государство и только государство. Нужны ли адвокаты при новом праве. Нужна ли литература, поэзия, живопись, скульптура… И если нужны, то в какой форме, не в форме же старой.
И Штеренберг[316]316
Штеренберг Давид Петрович (1881–1948) – живописец и график.
[Закрыть], и Шагал[317]317
Шагал Марк (1887–1985) – живописец и график, с 1922 – за рубежом. Его иррациональные произведения отмечаются тонкой красочностью и выразительным рисунком.
[Закрыть], и Малевич[318]318
Малевич Казимир Северинович (1878–1935) – художник, основоположник супрематизма, в нач. 20-х годов примкнул к «промышленному искусству».
[Закрыть], и Кандинский[319]319
Кандинский Василий Васильевич (1886–1944) – живописец и график, один из основоположников абстрактного искусства, с 1931 – жил заграницей.
[Закрыть]создавали новые формы, предъявляли новые свои искания на суд нового времени.
Спорили в университете. Но еще больше спорили в общежитиях – иногда до утра. В общежитиях медиков спорили меньше, много спорили математики. И особенно оба гуманитарных факультета – советского права и этнологический, – куда входили литературное и историческое отделения.
Тут просто разрывали на части. Популярных ораторов еще не было среди молодежи. Но, конечно, кое-какие фамилии уже начали выделяться на этом остром фоне: Мильман, Володя Смирнов, Арон Коган[320]320
Мильман Гдалий Маркович (1907–1938) – руководитель оппозиции на историческом отделении 1-го МГУ. Арестован в мае 1928. Расстрелян 1 марта 1938 г.
Коган Арон Моисеевич (1905–1937) – активный участник оппозиции, студент физико-математического отделения 1-го МГУ. Арестован в марте 1929. Расстрелян 17 июня 1937 г.
[Закрыть]. Все они кончили ссылкой.
На первом курсе мне удалось написать работу о советском гражданстве, обратившую на себя внимание не только руководителя семинара, но о научной работе я в этой бурлящей, закипающей каше и думать не хотел. Жизнь моя поделилась на те же две классические части: стихи и действительность. Я писал стихи, ходил в литературные кружки, занимался [нрзб], вошел в это время в «Молодой ЛЕФ», несколько раз был в «Красном студенчестве» у Сельвинского.
Я бывал на занятиях у Брика, диспутах Маяковского, встречался с Сергеем Михайловичем Третьяковым – фактографистом. И в то же время жил жизнью и общественной в тех формах, которые казались мне тогда приемлемыми. Как и всегда, я служил двум началам.
О том, какое начало выбрать, меня не спросили. 19 февраля 1929 года я был арестован и вернулся в Москву лишь в 1932 году.
Новый 1929 год я встретил на Собачьей площадке, в чужой чьей-то квартире, в узкой компании обреченных. Ни один из участников вечеринки не пережил 29-го года в Москве, никто никогда больше не встретился друг с другом.
Это были мои университетские товарищи, мои сверстники. На этой вечеринке я сделал удивительное открытие. Моя соседка, знаменитый оратор дискуссий 27-го года, выступавшая в красной шелковой рубахе с мужским ремнем, на котором была укреплена кобура браунинга, оратор весьма популярный на университетских трибунах, вдруг оказалась самой женственной дамой, которую только можно вообразить. Шелковая кофточка, модная юбка, букетик цветов, с которыми она явилась на вечеринку, произвели весьма сильное впечатление. Соседка моя оказалась не красавицей, но весьма хорошенькой девушкой, светловолосой блондинкой, волосы выбивались из-под косынки шелковой. Капля духов ей бы отнюдь не повредила.
Вечеринка кончилась, я вернулся к себе в общежитие.
19 февраля я был арестован в засаде в одной из подпольных типографий Москвы[321]321
Шаламов арестован 19 февраля 1929 в засаде на ул. Сретенка, 26, где была подпольная типография и печаталось «Завещание В. И. Ленина» и другие документы оппозиции. Ордер на его арест подписан Г. Ягодой 1 марта 1929 г.
[Закрыть].
Все мы были рады, что глупая петиционная кампания[322]322
Шаламов имеет в виду, что в течение 1926–1927 оппозиция выступала с заявлениями и платформами («Заявление 13», «Платформа 83» и др.), требуя внутрипартийной дискуссии. В 1927 Троцкий и Зиновьев были исключены из ВКП(б) и оппозиция перешла к открытым формам борьбы, обратилась к народу (демонстрации, митинги, стачки). Шаламов участвовал в альтернативной демонстрации 7 ноября 1927 г.
Многочисленны документы, в том числе заявления в Политбюро старых членов партии о разгоне с помощью мордобоя альтернативной демонстрации 7 ноября 1927 г. (Л. Троцкий. «Портреты революционеров». М., 1991, с. 356, прим. 70).
[Закрыть] кончилась, и смело смотрели вперед, не ожидая ни масштабов, ни мстительности ответного удара.
Москва 30-х годов была городом страшным. Изобилие НЭПа – было ли это? Пузыри или вода целебного течения – все равно – исчезло.
Подполье 20-х годов, столь яркое, забилось в какие-то норы, ибо было сметено с лица земли железной метлой государства.
Бесконечные очереди в магазинах, талоны и карточки, ОРСы[323]323
ОРС – отдел рабочего снабжения.
[Закрыть] при заводах, мрачные улицы, магазин на Тверской, где не было очереди. Я зашел: пустые полки, но в углу какая-то грязная стоведерная бочка. Из бочки что-то черпали, о чем-то спорили: «мыло для всех».
На Ивантеевской фабрике матери протягивали мне грязных детей, покрытых коростой, пиодермией и диатезом. Закрытые распределители для привилегированных и надежных. Партмаксимум – но закрытые распределители.
Заградительные отряды вокруг Москвы, которые не пропускали, отбрасывали назад поток голодающих с Украины. 21-й год – это был голод в Поволжье, 33-й был голодом Украины. Но одиночные голодающие проникали в Москву в своих коричневых домотканых рубахах и брюках – протягивали руки, просили. Ну что могла дать Москва? Талоны на хлеб, на керосин.
Директор шахты подмосковного угольного бассейна распорядился кормить в горняцких столовых, только если руки и одежда запачканы углем, угольной пылью. За углом два беженца спешно превращались в негров, в шахтеров, чтобы проскочить контроль – человека с пистолетом.
Шесть условий товарища Сталина[324]324
«Шесть условий товарища Сталина» – комплекс хозяйственно-политических мероприятий, выдвинутых И. В. Сталиным на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г.: распределение и использование рабочей силы, зарплата по труду, организация труда, создание своей производственно-технической интеллигенции и привлечение старой интеллигенции, внедрение хозрасчета.
[Закрыть], «Догнать и перегнать», «Время, вперед» – одни из самых бессовестных [лозунгов] тех лет. Беломорканал, канал Москва – Волга, коллективизация, аресты в деревне. Все это описано трижды и четырежды, как все это отражалось в семье русского интеллигента.
Все оказалось не так хорошо и не так просто. После свиданий с некоторыми из моих друзей и очевидной размолвки я стал искать пути в одиночку. Я вновь вернулся, как в университетское время, к постоянному чтению в библиотеках. Квартиру быстро снял вместе с журналистом Шуйским в Коробейниковом переулке на Остоженке. Хозяин квартиры слесарь Анисимов сдавал одну из комнат. Семья была большая, три дочери, хозяева пили – [картина] знакомая, – и пили частенько, пили и пели. Все это тоже, в общем, было терпимо, переносимо. Не каждый день они пили. Но явилось очень интересное обстоятельство.
Хозяин любил рассказывать о своем участии в революционной деятельности, в революционном движении. Последняя его работа – должность в Музее революции.
– Выхожу я, беру с собой пистолет. Валька уже отворачивает ломом щеколду. И – экс! А они теперь в музее не хотят утвердить мой стаж политкаторжанина, хотя я был на каторге, на Колесухе. Экс, говорят, не революция. Сейчас собираю свидетелей. Угощаю тут старичков полезных. Ты не думай, меня все знают, меня и Ленин знает. Я был у него, докладывал о всех годах. Правильно, Ленин говорит, правильно действуешь, товарищ Анисимов. Подходит и целует меня в макушку. Не веришь? А то меня еще Троцкий целовал. Тот – в руку. Рассказать?
Вот такого рода был наш хозяин. Уголовник, освобожденный революцией, который все никак не мог пробраться в политкаторжане.
К этому времени я прописался на Садово-Кудринской, где жил и раньше, до путешествия на Вишеру. Прописывали тогда по профсоюзному билету, по любому удостоверению личности. И в комнате этой жили когда-то моя сестра и я, и бывший муж сестры, с которым она развелась и уехала в Сухум. Узнав, что я живу в этой комнате, бывший муж сестры, на чье имя была эта комната, сам он жил где-то за городом и в Москве не бывал месяцами, сейчас же выписал меня, не сообщая ни мне, ни сестре.
Тех нескольких дней прописки оказалось достаточно, чтобы я получил вызов в центральный уголовный розыск. Я взял все документы – профбилет, удостоверение с места работы, прописку, справку из лагеря об освобождении, военный билет – и явился на Петровку.
Проверка была недолгой, возвратив документы, товарищ Ерофеев подписал мне пропуск на выход.
– А в чем дело?
…Да ни в чем, просто проверяем всех, кто раньше сидел.
После смерти отца в 1933 году я женился, в 1935 году у меня родилась дочь, а 12 января 1937 года я был арестован, осужден особым совещанием при наркоме НКВД товарище Ежове на пять лет трудовых лагерей с отбыванием срока на Колыме. И отправился на Колыму.
В непрерывной работе над рассказами мне казалось, что у меня что-то стало получаться. Несколько рассказов Бабеля – писателя наиболее модного в те времена – я переписывал и вычеркивал все «пожары, как воскресенья» и «девушек, похожих на ботфорты…» и прочие красоты. Из рассказов немного оставалось. Все дело было в этом украшении, не больше. Говорят, что Бабель – это испуг интеллигенции перед грубой силой – бандитизмом, армией. Бабель был любимцем снобов. Истинное открытие того времени, истинный массовый успех имел Зощенко и вовсе не потому, что это фельетонист-сатирик. Зощенко[325]325
Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958) – прозаик, в рассказах 20-х годов создал образ обывателя с убогой моралью и примитивным взглядом на окружающую жизнь. Цикл сатирических новелл «Голубая книга» (1934–1935).
После постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (14 авг. 1946) был немедленно исключен из СП СССР, вновь принят в 1953 г.
[Закрыть] имел успех потому, что это не свидетель, а судья, судья времени. Свидетелей и без Зощенко было немало. Пантелеймон Романов, например. Зощенко был создателем новой формы, совершенно нового мышления в литературе (тот же подвиг, что и Пикассо, снявшего трехмерную перспективу), показавшим новые возможности слова. Зощенко трудно переводить. Его рассказы не переводимы, как стихи. В русской литературе того времени это фигура особого значения.
Я работал в московских журналах[326]326
Шаламов вернулся в Москву в янв. 1932, в 1933–1937 работал в журналах «За ударничество», «За овладение техникой», «За промышленные кадры». В это же время он день и ночь, по его словам, писал стихи и рассказы.
[Закрыть]. За годы с 32-го по 37-й в Москве и Московской области нет ни одной фабрики, ни одного рабочего общежития, ни одной рабочей столовой, где бы я ни был и не один раз. И хотя свою литературную биографию я числю с лефовских кружков 1928 года, первый рассказ[327]327
«Три смерти доктора Аустино» – рассказ Шаламова, опубл. «Октябрь», 1936, № 1.
[Закрыть] мой напечатал Панферов в «Октябре» 1936 года.
В какой-то из автобиографических вещей Бунина есть признание о первом рассказе. «Я почувствовал, – пишет Бунин, – что теперь я должен вести себя как-то по-другому, по-особому…»
У меня такого чувства не было никогда. Ничего на душе не изменилось после напечатания. Более того: всякую свою вещь напечатанную не люблю и не читаю. Иногда читаю, как чужую, и вижу большие недостатки. Тут дело не в правке, ничего править не надо. Рассказы мои совершенны. Потеря в другом – самая мысль недостаточно многосторонняя, недостаточно символична, что ли. Может быть, получен в прозе тот чистый тон, о котором говорит Гоген в «Ноа-Ноа»? Может.
О Колыме
Предисловие автораМного, слишком много сомнений испытываю я. Это не только знакомый всем мемуаристам, всем писателям, большим и малым, вопрос. Нужна ли будет кому-либо эта скорбная повесть? Повесть не о духе победившем, но о духе растоптанном. Не утверждение жизни и веры в самом несчастье, подобно «Запискам из Мертвого дома», но безнадежность и распад. Кому она нужна будет как пример, кого она может воспитать, удержать от плохого и кого научить хорошему? Будет ли она утверждением добра, все же добра – ибо в этической ценности вижу я единственный подлинный критерий искусства..
И почему я? Я не Амундсен[328]328
Амундсен Руаль (1872–1928) – первым достиг Южного полюса (1911). В 1926 руководил первым перелетом через Северный полюс на дирижабле «Норвегия». Погиб в Баренцевом море при поисках итальянской экспедиции У. Нобиле.
[Закрыть], не Пири[329]329
Пири Роберт Эдвин (1856–1920) – американский полярный путешественник. В 1909 на собачьих упряжках достиг района Северного полюса.
[Закрыть]. Мой опыт разделен миллионами людей. Не подлежит сомнению, что среди этих миллионов есть те, чей глаз зорче, и страсть сильнее, и память лучше, и талант богаче. Они пишут о том же самом и, бесспорно, расскажут ярче, чем я.
КТО ЗНАЕТ МАЛО – ЗНАЕТ МНОГО
Есть и другие, более «тонкие» сомнения. В литературе считается бесспорным, что писатель может хорошо написать лишь о том, что он знает хорошо и глубоко; чем лучше он знает «материал», чем глубже его личный опыт в этом плане, тем серьезней и значительней то, что выходит из-под его пера.
С этим нельзя согласиться. В действительности дело обстоит иначе. Писателю нужен опыт небольшой и неглубокий, достаточный для правдоподобия, опыт такой, который не мог бы оказать решающего действия в его оценках, и эмоциональных, и логических, в его отборе, в самом строе его художественного мышления. Писатель не должен хорошо знать материал, ибо материал раздавит его. Писатель есть соглядатай читательского мира, он должен быть плоть от плоти тех читателей, для которых он пишет или будет писать.
Зная чужой мир слишком хорошо и коротко, писатель проникается его оценками, и его пером начинают водить, утверждая важность, безразличие или пустяковость, – оценки чужого мира. Читатель потеряет писателя (и наоборот). Они не поймут друг друга.
В каком-то смысле писатель должен быть иностранцем в том мире, о котором пишет он. Только в этом случае он может отнестись к материалу критически, [будет] свободен в своих оценках. Когда опыт неглубок, писатель, предавая увиденное и услышанное на суд читателя, может справедливо распределить масштабы. Но как рассказать о том, о чем рассказывать нельзя? Нельзя подобрать слова. Может быть, проще было умереть.
Нельзя рассказать хорошо о том, что знаешь близко.
Тютчевское соображение о том, что мысль изреченная есть ложь, так же смущает меня. Человек говорящий (мысль изреченная) не может не лгать, не приукрашивать. Способность вывертывать душу наизнанку редчайша, а Достоевскому подражать нельзя. Все, что на бумаге, – все выдумано в какой-то мере.
Удержать крохи искренности, как бы они ни были неприглядны. Бороться с художественной правдой во имя правды жизни – эта задача еще не так трудна. Трудно другое, что сама правда жизни преходяще изменчива. Она – однодневка, она не та, что была вчера, и не та, что будет завтра. Чувство – единственное, в чем не лжет художник. Если ему удается донести это чувство до читателя любым способом, – он прав, он выиграл свое сражение. Но как! Можно ли донести чувство это, пользуясь языком не тем, который сопровождал художника в его скитаниях, а языком другим – пускай несравненно более богатым, но – другим?








