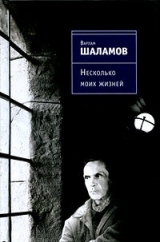
Текст книги "Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела"
Автор книги: Варлам Шаламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 80 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
В январе тридцать восьмого года бригаду нашу на «Партизане» перевели-таки из палатки в барак. Разница была невелика. Рядом с палаткой плотниками был собран каркас из лиственницы с просветом бревна метра по три или четыре, вставленные в паз столбов, столбы сверху и внизу входили в большую раму, собранную из бревен потолще и подлинней, чем бревна стенок. Но тоже обе рамы были соединены, связаны – ибо на Колыме, да еще в лесотундре длинных деревьев лет. Самые длинные лиственные бревна метров до пятнадцати – берегут для столбов высоковольтных линий – редки, как и барсы, и на стены барака не идут. Каждое бревно каждого ряда такой барачной стены сажалось на мох, обильно растущий в бесконечных колымских болотах. Мох пурпурного или ярко-зеленого цвета метров до трех толщиной есть на Колыме повсеместно. Слой мха уменьшается и теряет свой цвет, превращается в бурый, черный, серый, <коренившийся> лишь на гольцах, на плоскогорьях, на открытых площадях сопок.
Вот этот мох, который, разумеется, каждая бригада приносила для себя, а никакой общей заготовки мха на Колыме не ведется – все это бухгалтерские фокусы лагерного социализма. Заготовки мха проведут по другому наряду, по другому счету, а то и оплатят дневального начальника.
На паклю сажали бревна только в Магадане, в жилище начальника УСВИТЛ или Директора дальстроя. Там паклю привозили с большой земли.
Пушистый мох быстро сох, крошился, превращался в пыль. Между бревнами образовывались щели, но щели эти были для русских людей. Каждый свою щель по мысли московского, ни магаданского, начальства должен был законопатить или хоть заткнуть собственными пальцами. Всякий барак внутри был весь в пятнах.
Этот каркас ставился прямо на землю, на камень, не мудрствуя лукаво ни в смысле горизонтальности, ни вертикальности – отвесов и ватерпасов тут применяли мало. Врывать же нижние рамы в землю никогда не врывали из-за сюрпризов вечной мерзлоты. В бараке настилали пол из плавника, тоже волнообразный, мало похожий на пол. Потолка же и вовсе не было. Потолком была крыша той же брезентовой палатки. Брезентовую палатку, ту самую, в которой мы жили летом, натягивали на этот каркас, поднятый рядом с палаткой, – и зимний барак был готов.
Посреди барака стояла печка – единственная печка барака. Печка – бочка. На Колыме все печи – такие печки жрут много дров, но зато и разжигать ее нетрудно, и барак <она> разогревала бы скоро, не будь щелей.
Дверью барака служили просто доски, сбитые покрепче и косо прибитые к резиновым шарнирам – кускам автомобильной шины. И <скобка> и внутри на двери была ручкой, похожей на ручку двери в московском ресторане длиной, чтоб можно было ухватить обеими руками и отодрать замерзшую дверь. Такой барак не согрелся, если бы в нем сжигали хоть сто кубометров дров. Но на дрова тоже была самая строгая норма. А самое главное – каждая бригада должна была носить дрова «на себе» – т. е. идти за два-три километра в горы, в распадки и выбрать там и палку – по силам и тащить в лагерь. Все это проделывали после работы в забое. С каждым днем штабели дров были все дальше, все выше в горах, все тяжелей было добираться и туда, и оттуда. Бригадиры и конвой следили, чтобы, упаси боже, ты не взял слишком легкую «палку» – заставляли заменять на более тяжелую.
В бараке, в дверях зоны бригаду принимал надзиратель и лагстароста – оба следили, чтобы «палки» были у всех, чтобы не были маленькими, легкими и мелкими.
Всякий раз в этот же вечерний, уже ночной час выяснялось, что часть дров нужно отнести в отряд охраны. Часть отбирали на вахте для дежурных, и только самое малое – тощее, короткое <дровша> – попадало в печку бригады. В любых конфликтах всю бригаду задерживал конвой перед вахтой на шестидесятиградусном морозе. Вот эта дровяная повинность (там носили дрова в баню, в прачечную, на вольный поселок – всюду) – одна из самых тяжелых моих воспоминаний. Дрова носила зимой вся бригада, и стахановцы, и доходяги. До сих <пор> я чувствую тяжесть какой-нибудь палки, взятой с «комельком» – длинное бревно заставляли тащить по двое.
Я большого роста, а это все время моего заключения было для меня источником всяческих арестантских мук. Мне не хватало пайки, я слабел раньше всех, и раньше других увидел, что физический труд – это проклятие человека. А арестантский, принудительный есть еще и бесконечное, ежедневное унижение. Это я знал, впрочем, и по первому своему Вишерскому сроку. Бесконечность унижения тяжелой работой, побоями. Когда блатари вместе с начальством выбивают у бригады план в золотом забое – все это наблюдалось мной с первых же месяцев 1938 года.
Во мне с чрезвычайной силой жил бесконечный дух сопротивления, беспокойного протеста против всех наших бед, наших унижений. Этот протест, эту борьбу на Колыме не ведут коллективно. Я никого не призывал последовать моему примеру.
Но еще с «Партизана» с первого <обмера>, с первого <задела> всего этого – не работал, до «выполнения нормы» – решил: я работать для такого государства не буду. Государство, которое продержало меня невиновного в тюрьме, завезло за Полярный круг и убивает голодом, холодом, битьем. Раба из меня не сделает. Клейменый, да не раб. Норма была непосильна, это было ясно не только мне, но моим товарищам, но всем моим начальникам – бригадирам, десятникам, конвоирам, начальнику прииска, наркому внутренних дел, моему следователю в Москве, наконец. Все знали, на что обрекают меня.
Пусть меня убивают, работы от меня они не дождутся.
Я – не первый и не последний. Открытие мое каторжное, вроде не так уже велико. Но на Колыме оно дало мне духовную силу, дало силу жить.
Худшим преступлением на Колыме я считаю бригадирскую начальническую работу. Заставлять других работать, заставлять работать обреченных на смерть.
Этого мнения я держался в августе 1937 года и в мае 1969 года, и никогда этого мнения не менял.
Отказывать от работы прямо и публично – к чему призывают, тоже прямо, публично все начальство всей Колымы: «не хочешь работать, откажись». Этот визг до сих <пор> стоит у меня в ушах.
За любой отказ от работы в 1938 году, да и не только тогда, расстреливали. На работу надо выйти. Худшее преступление арестанта по кодексу Сталина – отказ от работы. Государственное преступление, поэтому отказываться от работы еще в бараке – нельзя. На работу надо выходить.
В 1938 году на «Партизане» ни один начальник не хотел рисковать со «слабосилкой». Все, у кого был врачебный и санакт, были стахановцами – так говорит <арифметика>, родившая теорию «стахановцы болезни». Также на нашем прииске был, например, Хренов – бывший начальник Кузнецкстроя – о нем образный стишок Маяковского насчет сада, который будет цвесть, или города – сада.
Стахановец болезни использовался на легких работах, и его не выгоняли под палки, под приклады конвоя в забой. Но начальство не хотело рисковать – не выполнил норму – плохо работал – РУР: его в роту усиленного режима, или в БУР – как стал называть РУР с некоторого времени – показывается московскому начальству, что рота звучит антисоветски, напоминает об арестантской роте, поэтому РУРы были переименованы на всех приисках в БУРы – в бараки усиленного режима.
В РУР на «Партизане» начальник оформлял – очень быстро – прямо с работы конвоир уводил и запирал в огромный барак-изолятор под конвой, под часовыми. И там побывало много людей. Их пребывание в РУРе как-то оформлялось, записывались в книге коменданта РУРа, да и в личных делах арестантов должен был оставлен след. Но следы в личном деле – это не побои на шестидесятиградусном морозе, не <сосущий> голод.
В РУРе – тоже кормили – обычным лагерным обедом, что для человека, живущего только на лагерной пайке, было еще выгоднее, чем есть в лагерной столовой, обкрадываемой ворами, бригадирами, надзирателями и конвоирами.
Паек в РУРе для нашего брата был получше, чем в лагере.
Работал РУР на заготовке дров, на копке траншей – но без плана, без золотой нормы – стало быть, и режим трудовой был помягче.
Я много раз сидел в РУРе. Как только кончу срок и доберусь до забоя – сейчас быстро <реестры> по работам – Арма или Брежникова, Анисимова – опять в РУР.
И вот в этом, партизанском РУРе – в январе или феврале 1938 года открыл я в себе одно качество…
Человек не знает себя. Возможности человека к добру и злу имеют бесконечное количество ступеней. Преступления <нацистов> <могут> превзойти – всегда находится что-то новое, еще более страшное.
Дно человеческой души не имеет дна, всегда случается что-то еще страшнее, еще подлее, чем ты знал, видел и понял.
Наверно, и способность человека к добру тоже имеет бесконечное количество ступеней – суть только в том, что человек не бывает поставлен в условия наивысшего добра. Наивысшего испытания на добро. В человеческой душе нет абсолютного холода – разве только у блатных – и нет температуры солнца. На земле эта температура сожгла бы человеческую душу нещадно, как и абсолютный холод. Но не только добро и зло. Любое человеческое свойство имеет бесконечное число решений – и что положительно, а что отрицательно, сказать заранее нельзя. Путь человека – это открытие самого себя – с первого до последнего дня жизни.
Вот на «Партизане» в РУРе в январе 1938 года и открылась мне одна объективная истина.
Рабочий день РУРа был всегда одинаков – две ездки за дровами до обеда и одна ездка после обеда. Ездим, конечно, не на лошадях, а на людях, по восемь человек на конные сани – лямки такие проделывают – зимой, вроде оленьих.
Ездило четверо саней – во главе каждых саней блатарь с палкой, чтобы подгонять троцкистов, а конвоиров было два – на всю конную группу.
Нужно было отвезти сани километра два до распадка; а потом поднять вверх, по довольно крутой дороге затащить сани по снегу, и там штабели – либо пней, либо дров, либо стланиковых корней – все это было покрыто снегом, но на горе снега было немного – все выдувалось <ветром>.
Нужно было загрузить все сани – каждая <команда> грузила свои сани отдельно – и ехать в обратный путь, уже вниз. На спуске – крутом – удержать сани было невозможно и спускали осторожно на руках за веревки, лямки.
Потом все выезжали на дорогу и ехали в зону, в РУР.
Каждый день двое саней до обеда завозили в отряд охраны, без заезда в зону, а после обеда ездили только в лагерь, в РУР.
Мы никогда не знали, как кончится наш рабочий день, и все поведение и наше и начальников – это разновидность обычного права, не более.
Случилось так, что в лагерь прибыл для работы дополнительный отряд конвоиров, охрана прииска и заключенных стремительно росла по всей Колыме. В нашем прииске барак для охраны уже был выстроен и вот заполняется жильцами.
Вместо того чтобы самим съездить за дровами, начальство отряда и лагеря рассудило, что тот же РУР будет возить дрова, не бойцы же будут возить на себе. Вся Колыма будет смеяться.
В этот день после третьей ездки нашу конную бригаду задержали и пытались послать четвертый раз за дровами. Сделали еще хуже – велели отвезти эти третьи сани в отряд охраны. Лагерь остался без дров. Все отказались ехать.
Никакие угрозы не помогли. Явился начальник отряда, начальник лагеря, начальник прииска, уполномоченный НКВД.
Сорок мертвецов твердо стояли за свои призрачные арестантские права – вчера ездили три раза и в четвертый не поедем.
<Столпилась> толпа начальников, конвоиров, бойцов, десятников, собрались глядеть, чем закончится эта история.
Всю нашу бригаду окружили бойцы с винтовками, собаками.
– Ложись!
Бригада легла в снег.
– Вставай!
Бригада встала.
– Ложись!
– Вставай!
– Ложись!
– Вставай!
При команде «ложись» раздавались выстрелы.
После этой подготовки начальник прииска Анисимов вышел вперед и сказал, что если не пойдут за дровами – пришьют срок.
Все лежали и не поднялся ни один.
Тогда вперед вышел уполномоченный – выстроил в шеренгу.
– Ты пойдешь работать?
– Да.
– Отходи в сторону.
Наконец набрали желающих на двое саней.
– Ложись!
– Вставай!
Набрали еще на одни сани. Осталось нас трое: я, Ушаков, молодой [нрзб] вор и кто-то третий из пятьдесят восьмой, с бородой – фамилии его я не помню. Но и этот третий с бородой был тот нас оторван и бежал, догоняя уходившие в горы сани.
Началось то же развлечение.
– Вставай!
И стрельба над головой.
– Собаку сюда!
На нас натравили собаку. На мне собака разорвала одежду, порвала шапку, но Ушаков был цел. Мы стояли рядом, Ушаков держал в руке разломанное лезвие безопасной бритвы и показывал лезвие собаке – собака кидалась назад, опыт – великое дело.
Было ясно, что если нас не застрелят на месте, то отведут в барак. Собаку отозвали, мы вернулись в барак холодный, выстуженный, без единой щепки, но это все-таки была победа, проба.
На следующий день дрова возили ровно три раза – два раза до обеда и один раз после обеда.
Во время всей этой кутерьмы <с собаками> кроме прочего я ощутил то, что я вовсе не чувствую страха. Вот это и была объективная истина, найденная на «Партизане». Много меня потом травили собаками, били, грозили меня сажать, держать в изоляторах, в спецзонах, в карцерах.
Я никогда не чувствовал страха. Недавно я выяснил в одном медицинском труде, что отсутствие страха – просто замедленный рефлекс в человеческой природе. Возможно.
<1969>
Тридцать восьмойЯ могу вспомнить лицо каждого человека, которого я видел за прошедший день, много раз пытался проверить, до каких же глубин натягивается в мозгу эта лента, и прекращал усилия, боясь успеха. Успех – бесплоден. Но можно припомнить, вытащить не всю мою жизнь, скажем. 38-й год на Колыме.
Где он лежит, в каком углу, что из него забыто, что осталось? Сразу скажу, что осталось не главное, осталось не самое яркое и не самое большое, а как бы не нужное тогдашней жизни. В 38-м году не было внезапного погружения в нищету, в ад, я уходил, увязал туда каждодневно и повсечасно, ежедневно и еженощно.
Самым, пожалуй, страшным, беспощадным был холод. Ведь актировали только мороз свыше 55 градусов. Ловился вот этот 56-й градус Цельсия, который определяли по плевку, стынущему на лету, по шуму мороза, ибо мороз имеет язык, который называется по-якутски «шепот звезд». Этот шепот звезд нами был усвоен быстро и жестоко. Первые же отморожения: пальцы, руки, нос, уши, лицо, все, что прихватит малейшим движением воздуха. В горах Колымы нет места, где не дули бы ветры. Пожалуй, холод – это самое страшное. Я как-то отморозил живот – ветром распахнуло бушлат, пока я бежал в столовую. Но я и не бежал, на Колыме никто не бежит – все лишь передвигаются. Я забыл об этом, когда у меня в столовой вырвали кисет с махоркой.
Наивный человек, я держал кисет в руках. Мальчик-блатарь вырвал у меня из рук и побежал. Я побежал за ним тоже, не мог сделать прыжка, чтобы схватить свою добычу. Мальчик вскочил в барак, я за ним и тут же был оглушен ударом полена по голове – и выброшен на улицу из барака. Вот этот удар вспомнился потому, что во мне были еще какие-то человеческие чувства – месть, ярость. Потом все это было выбито, утрачено.
Помню я также, как ползу за грузовиком-цистерной, в которой подсолнечное масло, и не могу пробить ломом цистерну – сил не хватает, и я бросаю лом. Но опытная рука блатаря подхватывает лом, бьет цистерну, и на снег течет масло, которое мы ловим в снегу, глотая прямо со снегом. Конечно, главное разбирают блатари в котелки, в банки, пока грузовик <не уехал>. Я с каким-то товарищем ползу по этим масляным следам, собираю чужую добычу. Я чувствую, что я худею, худею, прямо сохну день ото дня – пищи не хватает, все время хочется есть.
Голод – вторая сила, разрушающая меня в короткий срок, вроде двух недель, не больше.
Третья сила – отсутствие силы. Нам не дают спать, рабочий день 14 часов в 1938 году по приказу. Я ползаю вокруг забоя, забиваю какие-то колья, кайлю отмороженными руками без всякой надежды что-нибудь сделать. 14 часов плюс два часа на завтрак, два часа на обед и два часа на ужин. Сколько же осталось для сна – четыре часа? Я сплю, притыкаюсь, где придется, где остановлюсь, тут и засыпаю.
Побои – четверная сила. Доходягу бьют все: конвой, нарядчик, бригадир, блатари, командир роты, и даже парикмахер считает должным отвесить плюху доходяге. Доходягой ты становишься тогда, когда ты ослабел из-за непосильного труда, без сна, на тяжелой работе, на пятидесятиградусном морозе.
Что тут выбросит память?
То, что я не могу быстро двигаться, что каждая горка, неровность кажутся непреодолимыми. Порога нет сил перешагнуть. И это не притворство, а естественное состояние доходяги.
Более помню другое – не светлые, озаренные светом поступки, горе или нужду, а какие-то вовсе обыкновенные состояния, в которых я живу в полусне. Рост много мне мешал. Паек ведь не выдают по росту.
Но и это все – тоже общее, понятое уже после, во время перерывов[338]338
Перерывы – время, когда Шаламов лежал в больнице в 1943 г.
[Закрыть], а то и тогда, когда я уехал с Колымы. Там я ни о чем таком не думал, и память моя должна [была] быть памятью мускулов, как ловчее упасть после неизбежного удара. Не помню я никаких своих желаний тогдашних, кроме есть, спать, отдохнуть.
Бурю какую-то помню, мглу, гудит сирена, чтобы указать путь во мгле, метель собирается мгновенно, и помню, я ползу по какой-то ледяной ложбине, давно уже сбился с дороги, но не выпускаю из рук пропуска в барак – «палку» дров. Падаю, ползу и вдруг натыкаюсь на какое-то здание, землянку на краю нашего поселка. И – вхожу в чужой барак, меня, конечно, не пускают, но я уже ориентируюсь, я иду домой под свист метели. Барак этот тот самый, где сидели 75 отказчиков-троцкистов, которые ко времени метели были уже увезены и расстреляны.
Каждый день нас выводят на развод, читают при свете факелов списки расстрелянных. Списки длинные. Читают каждый день. Многие мои товарищи по бараку попали в эти смертельные рукопожатия полковника Гаранина[339]339
Гаранин Степан Николаевич был в 1938 начальником Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей (УСВИТЛ). Впоследствии был репрессирован, но не расстрелян.
[Закрыть].
И Гаранина я помню. Много раз видел его на «Партизане».
Но не о том, что я его видел, хочу рассказать, а о мускульной боли, о нытье отмороженных ног, о ранах, которые не хотят заживать, о вшах, которые тут как тут и бросаются кусать доходягу. Шарф, полный вшами, качается в свете лампы. Но это было уже гораздо позже, в 1938 году вшей тоже было много, но не так, как в спецзоне во время войны.
Выстрелы, конные сани, которые мы возим вместо лошадей, впрягаясь по шесть человек в упряжку. Отказ от работы – стрельба поверх голов и команда: «Ложись! Встань!» И травля собакой, оборвавшей мне весь бушлат и брюки в клочья. Но работать и собакой меня не заставили. Не потому, что я герой, а потому что хватило <сил> на упрямство, на борьбу за справедливость. Это было в 1938 году весной. Всю бригаду нашу заставили <еще> раз ехать за дровами – два часа лишних. Обещано было, что отпустят, а теперь обманули, посылают еще раз. Саней было шестеро. Отказался только я и блатной Ушаков. Так и не пошли, увели нас в барак, тем дело и кончилось.
Но и это – не то, что я ищу в своей памяти, я ищу объяснения, как я стал доходягой. Чего я боялся? Какие пределы ставил себе?
Надежд, во всяком случае, у меня не было никаких, я не строил планов далее сегодняшнего дня.
Что еще? Одиночество – понятно, что ты прокаженный, ощущаешь, что все тебя боятся, так как каждый чувствует – из КРТД, из литерников. Мы не распоряжаемся своей судьбой, но каждый день меня куда-то выкликают на работу, и я иду. На работе чувствую – захвачу ручку кайла, по ней согнуты мои пальцы, и я их разгибаю только в бане, а то и в бане не разгибаю – вот это ощущение помню. Как машу кайлом, машу [нрзб] лопатой без конца, и это мне только кажется, что я хорошо работаю. Я давно уже превратился в доходягу, на которого нечего рассчитывать. У меня есть и ухватка, и терпение. Нет только самого главного, самого ценного в колымских «кадрах» – физической силы. Это я обнаруживаю не сразу, но навсегда, на всю свою колымскую 17-летнюю жизнь. Сила моя пропала и никогда не вернулась. Осталось умение. Наросла новая кожа, только силы не стало.
Я хотел бы заметить час и день, когда сила пошла на убыль. Подготовка началась с этапа, с бутырского этапа. Мы выехали без денег, на одном пайке. Ехали сорок пять суток, да пять суток морем, да двое суток машиной после трехсуточного отдыха на транзитке в Магадане, трех суток непрерывного труда под дождем – рытье канав по дороге в бухту Веселая. Что я думал, что я ждал в 1938 году? Смерти. Думал, обессилю, упаду и умру. И все же ползал, ходил, работал, махал бессильным кайлом, шуршал почти пустой лопатой, катил тачку на бесконечном конвейере золотого забоя. Тачке я обучен до смерти. Мне как-то тачка давалась легче, чем кайло или лопата. Тачка, если ее умело возить, большое искусство – все мускулы твои должны участвовать в работе тачечника. Вот тачку я помню, [нрзб] с широким колесом или узким большого диаметра. Шуршание этих тачек на центральном трапе, ручная откатка за двести метров. И я примерял какие-то тачки, с кем-то спорил, у кого-то вырывал из рук инструмент.
Баня как наказание, ибо ведь баня выкрадена из тех же четырех часов официального ежесуточного отдыха. Такая баня – не шутка.
[Помню] ту безграничность унижений, всякий раз оказывается, что можно оскорбить еще глубже, ударить еще сильнее.
Родственники твердили – намеренно не отяжелить их судьбы. Но как это сделать? Покончить с собой – бесполезно. Родственников это не спасет от кары. Попросить не слать посылок и держаться своим счастьем, своей удачей до конца? Так и было.
А где была палатка, новый барак, где я просил моего напарника Гусева перебить мне руку ломом, и, когда тот отказался, я бил ломом многократно, набил ШИШКУ и все. Все умирают, а я все хожу и хожу.
Арест в декабре 1938[340]340
СПО – секретно-политический отдел.
В декабре 1938 Шаламов был арестован по сфабрикованному «делу юристов». Дело фальсифицировать не удалось, и он был отпущен из тюрьмы в пересыльный лагерь (транзитку), где был тифозный карантин, там он находился до апреля 1939. Это описано им в рассказах «Дело юристов», «Тифозный карантин».
[Закрыть] года резко изменил мое положение, я попал в тюрьму на следствие, был выпущен из тюрьмы после ареста начальника СПО капитана Стеблова и вышел на транзитку и новым глазом посмотрел на лагерный мир.
Что помнит тело?
Ноги слабеют, на верхние нары, где потеплее, влезть уже не можешь, и у тебя не хватает силы или хватает ума не ссориться с блатарями, которые занимают лучшие теплые места. Мозг слабеет. Мир Большой земли становится таким далеким, таким не нужным со всеми его проблемами. Шатаются зубы, опухают десны, и цинга надолго поселяется в твоем теле. Следы пиодермии и цинги до сих пор целы на моих голенях, бедрах. В Магадане в 1939 году от меня шарахались в сторону в бане – кровь и гной текли из моих незаживающих ран. Расчесы на животе, на груди, расчесы от вшей.
Клочок газеты, подхваченный в парикмахерской вольной, не вызывает никаких эмоций, кроме оценки – сколько цигарок махорочных выйдет из этого газетного клочка. Никакого желания знать о Большой земле, хотя мы с самой Москвы, около года уже, не читали газет. Много и еще пройдет лет, пока ты с испугом, с опаской попробуешь прочесть что-то газетное. И опять не поймешь. И газета покажется тебе не нужной, как и в 38-м году. Ногти я обкусывал всегда, обламывал, отщеплял – ножниц не было у нас много лет. Цинготные раны, язвы пиодермии появились как-то сразу на теле. Мы избегали врачей, фельдшер Легкодух – зав. амбулаторией «Партизана» славился ненавистью к троцкистам. Вскоре Легкодух был арестован и погиб на Серпантинке[341]341
Серпантинка – «расстрельная» командировка УСВИТЛ. Командировками назывались небольшие лагерные пункты с переменным составом заключенных.
[Закрыть]. Но и к другим я не ходил. Не то что я не был болен, товарищи мои ходили, получали вызовы на какие-то комиссии. Толк был один и тот же – смерть. А я лежал в бараке, стараясь двигаться поменьше или уже был не в силах двигаться, спал или лежал, стараясь вылежать эти четыре часа отдыха.
Я был плохим работягой и поэтому везде на Колыме работал в ночной смене. Хуже забойного лета была зима. Мороз. Работа хоть и десять часов – надо катать короба с грунтом, снимать торфа с золотого слоя – работа легче летней, но бурение, взрыв и погрузка лопатой в короб и отвозка на террикон ручная, по четыре человека на короб. Очень мучит мороз. Язвы все ноют. В хорошие бригады меня не берут.
Все бригады за золотой сезон, за четыре месяца, дважды и трижды сменили свой состав. Жив только бригадир и его помощник, дневальный – остальные члены бригады в могиле, или в больнице, или в этапе. Каждый бригадир – это убийца, тот самый убийца, который лично, своими руками отправляет на тот свет работяг. Даже бригадир 58-й, прокурор Челябинской области Парфентьев, увидев, как я в его присутствии просто шагаю вдоль забоя, стремясь согреться, сострил, что Шаламов на бульваре себя чувствует.
– Нет, – ответил я, – на галерах.
Все это, разумеется, где-то докладывалось, куда-то сносилось, чтобы внезапно вспыхнуть «заговором юристов». И это относится к 38-му году, к самому декабрю.
Льет дождь. Все бригады сняты с работы из-за дождя, все, кроме нашей. Я бросаю работу, бросаю кайло, то же делает мой напарник. Не помню его фамилии. Нас ведут через лагерь к дежурному коменданту. Это только воспоминания – вроде, весна 38-го года… Весна на Колыме не отличается от осени. Что-нибудь в мае 38-го не было еще изолятора зоны, был только дежурный комендант. Нас ввели в барак и поставили около стенки.
– Не хотят.
Я объяснил, что все бригады сняты из-за дождя и только.,.
– Замолчи, сволочь…
Комендант подошел ко мне поближе и протянул… Он не ударил, не выстрелил, только ткнул – и через промокший бушлат, гимнастерку, белье надломил мне ребро.
– Вон отсюда.
Я шел, хромая, пополз в направлении барака. Я с самого начала понимал, что законы – это сказки, и берегся, как мог, но ничего не мог сохранить. Еще я ходил все это лето каждый день пилить дрова или в пекарню, или куда-нибудь в барак бытовиков. Дело в том, что в лагере каждый слуга хочет иметь другого слугу. Вот эти пайки, баланды сверх пайка, хоть у нас сил не было, имели значение для поддержания жизни. В забое я работал плохо и никого работать хорошо не звал, ни одному человеку на Колыме я не сказал: давай, давай.
…Именно здесь, в провалах памяти, и теряется человек. Человек теряется не сразу. Человек теряет силу, вместе с нею и мораль. Ибо лагерь – это торжество физической силы как моральной категории. Здесь интеллигент окружен двойной, тройной, четверной опасностью. Иван Иванович[342]342
Иван Иванович – прозвище интеллигентов в лагере.
[Закрыть] никогда не поддержит товарища, товарищ становится блатным, врагом, спасая свою судьбу. Это – крестьянин, конечно. Крестьянин умрет, умрет тоже, но позже интеллигента. Умри ты сегодня, а я завтра. Блатари – вне закона морали. Их сила – растление, но и до них доберется Гаранин. Блатной – берзинский любимчик – отказчик для Гаранина. Но дело не в этом, надо поймать какой-то шаг, лично свой шаг, когда сделана уступка какая-то важная: перебирая в памяти, этих кинолентах мозга, видишь, что и уступки-то нет. Процесс этот очень короткий по времени – ты не успел даже стать стукачом, тебя даже об этом не просят, а просто выгоняют на работу в холод и на бесконечный рабочий день, колымский мороз, не знающий пощады.
Чьи-то глаза проходят по тебе, отбирая, оценивая, определяя твою пригодность скотины, коротки или длинны последние твои шаги в рай. Ты не думаешь о рае, не думаешь об аде – ты просто ежедневно чувствуешь голод, сосущий голод. [нрзб] А тот твой товарищ, кто посильнее тебя, тот бьет, толкает тебя, отказывается с тобой работать. Я тогда и не соображал, что крестьянин, жалуясь на Ивана Ивановича бригадиру, начальству, просто спасал свою шкуру. Все это мне было глубоко безразлично, все эти хлопоты над моей судьбой еще живого человека.
Я припоминаю, стараюсь припомнить все, что случилось в первую зиму, – значит, с ноября 1937 года по май 1938 года. Ибо остальные зимы, их было много, как-то встречались одинаково – с равнодушием, злобой, с ограничением запаса средств спасения: при ударе – падать, при пинке – сжиматься в комок, беречь живот больше лица.
Доносят все, доносят друг на друга с самых первых дней. Крестьянин же стучал на всех тех, кто стоял с ним рядом в забоях и на несколько дней раньше него самого умирал.
– Это вы, Иван Ивановичи, нас загубили, это вы – причина всех наших арестов.
Всё – чтобы толкнуть в могилу соседа – словом, палкой, плечом, доносом.
В этой борьбе интеллигенты умирали молча, да и кто бы слушал их крики среди злобных осатаневших лиц – не морд, конечно, а таких же доходяг. Но если у крестьянина-доходяги держался хоть кусочек мяса, обрывок нерва – он тратил его на то, чтоб донести или чтоб оскорбить соседа Ивана Ивановича, толкнуть, ударить, сорвать злость. Он сам умрет, но, пока еще не умер, – пусть интеллигент идет раньше в могилу.
Один из самых первых удержался в [памяти] Дерфель – французский коммунист, кайеннец, бывший работник ТАСС, шустрый, маленький, что было очень выгодно, – на Колыме выгодно быть маленьким. Дерфель кайлил, а я насыпал в тачку.
Дерфель:
– В Кайенне, где я был до Колымы, тоже каменоломни такие, тоже кайлил, кайло и тачка, только там нет такого холода.
А была еще осень золотая, поэтому я и запомнил день, серый камень, маленькую фигурку Дерфеля, который вдруг взмахнул кайлом и упал, и умер.
В это время всех согнали в один барак, в палатку брезентовую, где держали нас стоя, человек четыреста. Проверяли что-то – стреляли в воздух. И я увидел, что мой сосед, голландский коминтерновец в вельветовой жилетке, спит на моем плече, теряет сознание от слабости. Я его толкнул, но Фриц не очнулся, а медленно ослабел, сполз на пол. Но тут стали выводить, выталкивать из палатки, и он очнулся и вышел рядом со мной, и, выходя же, упал у барака, и больше его я никогда не видел.
Все это – Дерфель, голландец Фриц – все это поймала моя память, а то безымянное, что умирало, било, толкало, заполнило большую часть моего существа, те дни и месяцы, – я просто не припомню.
Что же там было?
Никакой «вины» перед народом я не чувствовал как «интеллигент». Но зато карьеристов, дельцов чувствую всей силой чутья – и не ошибусь.
Все это – и Дерфель, и задержка на работе бригады Клюева в декабре 1937 года – все это как бы верхние этажи моего тела. Трудно восстановить то, что не запомнилось, – боль тела и только тела.
У нас не было газет, а переписки я был лишен еще по московской бумажке. Не было желания что-либо знать о событиях вне нашего барака. Все это было так бесконечно не важно, вытеснено надолго – на десяток, а то и более лет за круг моих интересов.
Как же это случилось на моем личном примере, примере моего тела?
Уже двухмесячный этап на голодном пайке был подготовкой к более серьезным вещам – побоям, холоду, бесконечной работе, которую я встретил на «Партизане» в декабре 1937 года.
Ноги отяжелели, кожа гноилась, завелись вши, обморозились руки в пузыри. Но все это было не главное. Главным был голод постоянный. Я быстро научился есть хлеб отдельно от супа, потом кипятить, вздувать его в какой-то банке консервной и из этой банки высасывать. Никакого интереса к любым разговорам в бараке. Белье я хотел свое поменять на хлеб, но опоздал – был обыск, и все лишнее поступило в доход государству. Но и это мне было все равно. Обрывками мозга я ощущал, пожалуй, две <вещи>. Полную бессмысленность человеческой жизни. Что смерть была бы счастьем. Но на смерть нельзя было решиться по каким-то странным причинам – боль в пальцах после отморожения, в амбулаторию я не ходил, больничный фельдшер Легкодух, как все фельдшера того времени, прямо сдаст тебя в «солдаты» как интеллигента и троцкиста. Так делали все фельдшера и врачи на приисках, так делал и Лунин, и Мохнач. Через восемь лет после 37-го года так делал и Винокуров, и доктор Доктор, и Ямпольский – с больницей было опасно связываться. Но не логикой, а инстинктом животного я понимал, что мне не следует ходить туда, где толпятся «стахановцы болезни». И действительно, их всех расстреляли в гаранинские дни как балласт. А кто давал списки расстрельные? По «Партизану» это работяга Рябов, Анисимов – начальник прииска, Коваленко – начальник ОЛПа[343]343
ОЛП – отдельный лагерный пункт.
[Закрыть], Романов – уполномоченный.








